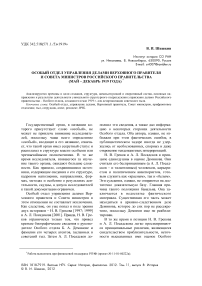Особый отдел управления делами Верховного правителя и Совета министров Российского правительства (май – декабрь 1919 года)
Автор: Шишкин Владимир Иванович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируются причины и цели создания, структура, начальствующий и оперативный состав, основные направления и результаты деятельности уникального структурного подразделения управления делами Российского правительства – Особого отдела, созданного в мае 1919 г. для дезорганизации советского тыла.
Особый отдел, управление делами, верховный правитель, совет министров, прифронтовое отделение, тыл, сотрудник, агент, резидент, вчк
Короткий адрес: https://sciup.org/14737928
IDR: 14737928 | УДК: 342.518(571.1./5)619199
Текст научной статьи Особый отдел управления делами Верховного правителя и Совета министров Российского правительства (май – декабрь 1919 года)
Государственный орган, в названии которого присутствует слово «особый», не может не привлечь внимание исследователей, поскольку чаще всего определение «особый», входящее в его название, означает, что такой орган имел секретный статус и располагал в структуре власти особыми или чрезвычайными полномочиями. В то же время исследователя, взявшегося за изучение такого органа, ожидают большие сложности. Как правило, сохранившиеся источники, содержащие сведения о его структуре, кадровом наполнении, направлениях, формах, методах и особенно о результатах деятельности, скудны, а допуск исследователей к такой документации ограничен.
Особый отдел управления делами Верховного правителя и Совета министров в этом отношении не составляет исключения. Как следствие, он уже попал в поле зрения двух историков – Н. В. Грекова [1997; 1999] и А. Л. Посадскова [2001]. Правда, Н. В. Греков ограничился только тем, что привел краткие биографические сведения о руководителе Особого отдела Б. А. Деминове и фамилии его четырех агентов, засланных в советский тыл. Затем А. Л. Посадсков до- полнил эти сведения, а также дал информацию о некоторых сторонах деятельности Особого отдела. Оба автора, однако, не избежали при этом фактических ошибок, в публицистическом задоре иногда не удержались от необоснованных, спорных и даже откровенно тенденциозных интерпретаций.
Н. В. Греков и А. Л. Посадсков в принципе единодушны в оценке Деминова. Они считали его беспринципным (а А. Л. Посадсков – и талантливым) человеком, карьеристом и политическим авантюристом, готовым служить как «красным», так и «белым». Эти суждения, однако, не опираются на достаточно доказательную базу. Главная причина такого положения банальна. Она заключается в недостатке фактического материала. Существенная его часть может находиться в архивно-следственном деле Деминова, которое до сих пор не рассекречено, поскольку Деминов еще не реабилитирован.
В то же время в позиции Н. В. Грекова и А. Л. Посадскова легко просматриваются принципиальные различия, являющиеся свидетельством приблизительности, неточности высказанных ими оценок Особого
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 11-01-00222а).
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 8: История © В. И. Шишкин, 2012
отдела как органа власти. Весьма показательно, что если Н. В. Греков считал Особый отдел структурой силовых спецслужб, то А. Л. Посадсков зачислил его в разряд пропагандистского ведомства.
Отмеченные расхождения не удивительны. Дело в том, что Н. В. Греков и А. Л. Посадсков к истории Особого отдела обратились попутно, анализировали его деятельность под разными ракурсами и работали с принципиально разными источниками, которые освещают деятельность Особого отдела не просто неполно, но и заведомо односторонне. Важнейший материал об Особом отделе, хранящийся в фондах органов военного контроля и контрразведки, министерства внутренних дел и таких его структурных подразделений, как управление государственной охраны и департамент милиции, историками совершенно не использовался. К тому же обнаруженный Н. В. Грековым и А. Л. Посадсковым интересный фактический материал, характеризующий личность Деминова, как бы отвлек их основное внимание от изучения главной проблематики: от деятельности самого Особого отдела. Как попытку частично восполнить указанный пробел нужно рассматривать настоящую публикацию.
Оговорка о том, что в данной статье ставится столь ограниченная задача, не случайна. Объясняется она тем, что большинство документов о деятельности Особого отдела имело гриф «Секретно» или «Совершенно секретно». По мере того как руководителям спецслужб Российского правительства становилась понятна перспектива поражения А. В. Колчака, они принимали меры по уничтожению документации о деятельности подведомственных им структур.
В начале 1920-х гг. сибирские чекисты утверждали, что в колчаковских архивах они не обнаружили материалов Особого отдела и считали, что его архивные дела были ликвидированы Деминовым во время эвакуации из Омска. Сам же Деминов заявлял, что документы Особого отдела – видимо, по невежеству – уничтожили красноармейцы, в руки которых они попали в начале 1920 г. [Сводка материалов…, 1922. С. 93]. Из-за того, что автору настоящей статьи удалось выявить лишь часть сохранившихся в архивах документов, освещающих работу Особого отдела, ряд высказанных в ней утверждений будет носить характер предпо- ложений, нуждающихся в дальнейшем изучении и проверке на достоверность.
Из публикации А. Л. Посадского можно понять, что Особый отдел управления делами Верховного правителя и Совета министров был создан после 11 мая 1919 г. в порядке реализации доклада, поданного Де-миновым в Совет министров Российского правительства через голову своего непосредственного руководства.
Судя по всему, это утверждение не совсем точно. Сам Деминов, отнюдь не склонный даже на допросах в Полномочном представительстве ВЧК по Сибири преуменьшать свою роль, автором идеи организации Особого отдела назвал другого человека – товарища главноуправляющего делами Верховного правителя и Совета министров Т. В. Бутова [Там же]. Однако нужно признать, что главным разработчиком этой идеи являлся Деминов.
Примерно во второй половине марта 1919 г. он подготовил упоминавшийся А. Л. Посадсковым доклад и объяснительную записку к штатам и смете Особого отдела. В докладе Деминов осмелился высказать несколько критических замечаний в адрес существовавших на востоке России противобольшевистских правительств и сформулировал ряд предложений, немедленная реализация которых могла, по его мнению, способствовать ликвидации Советской власти в центральной России уже к осени 1919 г.
Со ссылкой на Наполеона Бонапарта Де-минов напомнил о превалирующем значении морального фактора над физическим во внешних войнах и об его доминирующей роли в войнах гражданских, обратил внимание на то, что на освобожденной от большевиков территории культурно-просветительная работа и идейная пропаганда в народных массах и в военной среде находятся в зачаточном состоянии, хотя ее ведут несколько учреждений: отдел печати управления делами Верховного правителя и Совета министров, Особая канцелярия при штабе Верховного главнокомандующего (Оскан-верх) и Осведомительный отдел Главного штаба (Осведверх).
Причины такого положения дел Деминов видел в отсутствии «единой координирующей мысли», «крайней универсальности» и «смешении специальных работ» в деятельности названных учреждений, в отсутствии у них «достаточного количества средств, недостатке людей и крайнем несовершенстве организации».
В докладе Деминов сформулировал три основных организационных условия, выполнение которых могло гарантировать достижение в культурно-просветительной и идеологической работе необходимых результатов. Прежде всего он предложил покончить с дилетантством и безответственным прожектерством, поскольку «методы морального, психологического воздействия на массы в целях управления ими являются в наше время оружием, слишком могущественным, чтобы оставаться привилегией общественных организаций, прессы и пр.». Затем Деминов заявил о необходимости органам государственной власти «овладеть этим способом управления». Наконец, он рекомендовал поставить дело агитации и информации под контроль специальных органов государственной власти и в значительной мере вести эту работу через них же.
В качестве важнейшей задачи текущего момента Деминов назвал «широкое развитие дезорганизующей деятельности» в советском тылу. Для налаживания и ведения этой работы он предложил создать при управлении делами Верховного правителя и Совета министров специальный орган – Особый отдел по делам дезорганизации неприятельского тыла, цель которого видел в том, чтобы добиваться «разрушения психики его (противника. – В. Ш .) вооруженных сил, дискредитирования объединяющей идеи, усиления народного недовольства, подготовки восстаний и пр. [и] пр.».
Основными направлениями деятельности Особого отдела Деминов считал установление контактов и взаимодействие с антибольшевистскими подпольными организациями по ту сторону фронта; тотальное расстройство советского тыла – включая разрушение промышленности и транспорта, возбуждение недовольства широких масс населения, организацию восстаний – для подготовки взрыва изнутри; разложение Красной армии путем расстройства аппарата ее управления, преследования коммунистов, возбуждения розни между национальными формированиями советских войск, поддержки дезертирства, пропаганды перебежки через фронт и сдачи в плен.
По мнению Деминова, Особый отдел должен был иметь собственный исполнительный аппарат, который позволял бы ему поддерживать связь с антибольшевистскими организациями и вести пропаганду в советском тылу, в том числе располагать собственными пунктами (отделениями) в крупных городах вблизи линии фронта. Кроме того, он поставил вопросы о праве Особого отдела использовать для решения своих задач политические и разведывательные органы штабов армий, корпусов и других воинских формирований, вносить через управляющего делами Верховного правителя и Совета министров мотивированные проекты нормативных актов общего и специального характера на усмотрение Российского правительства и приказов – на усмотрение верховного командования.
Завершался доклад Деминова рекомендацией-пожеланием, чтобы как управляющий Особым отделом, так и другие ответственные его сотрудники были «избираемы из круга гражданских, но не профессионально военных лиц» 1 [Посадсков, 2001. С. 164].
В объяснительной записке Деминов дал обоснование структуры Особого отдела. Исходя из того, что отделу предстояло вести работу в Красной армии и в глубоком советском тылу, он предложил создать два отделения, которые отличались бы друг от друга по объектам воздействия: специальное и политическое. Первому из них вменялось в обязанность изучать состояние вооруженных сил противника, разрабатывать методы его разложения, силами специальных агентов изготавливать и доставлять по назначению агитационную литературу, в том числе при помощи авиации. На второе отделение возлагались сбор и анализ информации о положении тыловых районов РСФСР, разработка методов агитации и разведки в советском тылу, подготовка и издание газет, брошюр, воззваний и плакатов антисоветского характера, создание и поддержка про-тивобольшевистских организаций, обеспечение связи с ними.
Для более эффективной работы Особого отдела в прифронтовой полосе и тесного взаимодействия с армейскими структурами Деминов предложил создать два прифронтовых отделения: в Екатеринбурге (или
Перми) и в Уфе. Была даже задумка при помощи известного публициста В. Л. Бурцева создать заграничное отделение Особого отдела в Финляндии 2.
Предложения Деминова, изложенные в докладе, нашли принципиальную поддержку со стороны главноуправляющего делами Верховного правителя и Совета министров Г. Г. Тельберга, являвшегося непосредственным начальником Т. В. Бутова и к тому времени ставшего также министром юстиции Российского правительства. Г. Г. Тельберг поручил заняться их дальнейшей разработкой и реализацией руководству пресс-бюро отдела печати управления делами.
Получив согласие со стороны влиятельного Г. Г. Тельберга, Деминов сразу же представил в управление делами еще ряд документов: проект временных (на первый месяц) штатов Особого отдела, смету его расходов на это же время, а также дополнение к докладу, в котором частично детализировал свои исходные предложения о целях и конкретных задачах Особого отдела.
По замыслу Деминова, изложенному в проекте временных штатов, Особый отдел должен был состоять из управляющего, инспекторской части, представителей при штабах армий, канцелярии, бухгалтерии, агентуры, общего и специального отделений и трех территориальных пунктов (Красноярского, Пермского и Уфимского). Согласно проекту штатного расписания общая численность его сотрудников первоначально должна была равняться 48 чел., совокупный месячный оклад которых составлял 76,3 тыс. руб. 3
В качестве первоочередной акции Деми-нов предложил немедленно подготовить, опубликовать и широко распространить среди населения советской России ряд правительственных документов и приказов верховного командования, содержащих информацию о политике колчаковского правительства и рисующих «верные, но убивающе соблазнительные картины о нашем продовольственном и ином благополучии» 4.
Как утверждал весной 1920 г. на допросах в Полномочном представительстве ВЧК по Сибири Деминов, «ввиду полной неком- петентности и “профессорской непрактичности” первых персонажей пресс-бюро», организация Особого отдела попала в его руки. «В целом ряде докладов, смет, схем и пр., – сообщил Деминов, – я показал себя специалистом и совершенно вытеснил в этом вопросе г. г. Устряловых, Болдыревых и проч. Уже тут, в периоде опросов и разговоров, стало ясно, что в случае осуществления этого проекта дело попадет в мои руки, ибо конкурентов в занятии этой должности не предвиделось» [Сводка материалов…, 1922. С. 93].
В действительности причины, по которым Деминов оказался на первых ролях при организации Особого отдела, не сводились только к некомпетентности профессоров Д. В. Болдырева и Н. В. Устрялова и профессионализму самого Деминова. Прежде всего, следует сказать о том, что Д. В. Болдырев и Н. В. Устрялов, как минимум, скептически относились к предложениям Деми-нова и дистанцировались как от него самого, так и от его замыслов. Многообразие инициатив Деминова и абсолютная уверенность их автора в победе над большевиками в случае реализации таковых – все это, по оценке директора пресс-бюро отдела печати при управлении делами Верховного правителя и Совета министров профессора Н. В. Устрялова, «не говорило в его пользу, обличая в нем “человека с пунктиком”, своего рода Кулигина, “своим умом” решившего основные вопросы государственной жизни и полного неисчерпаемого самомнения» [Устрялов, 1993. С. 218].
К тому же именно в это время по заданию Г. Г. Тельберга Н. В. Устрялов занимался налаживанием работы пресс-бюро и реализацией совсем другого проекта – организацией Русского общества печатного дела, призванного стать мощной агитационнопропагандистской структурой, работавшей на колчаковский режим.
Совсем другое дело сам Деминов. Поскольку Н. В. Греков и А. Л. Посадсков при кратком изложении его биографии допустили несколько фактических ошибок 5, приве- дем основные вехи его жизненного пути. Деминов родился в 1894 г. в Туринске Тобольской губернии в семье потомственного почетного гражданина, служившего акцизным чиновником. Завершив обучение в Томской гимназии, Деминов поступил в находившееся в то время в Москве Тифлисское военное училище, но в июне 1916 г. был комиссован «по свидетельству о болезни». Скрытый смысл этого документа А. Л. Посадсков определил так: «в военное время быть офицером небезопасно» [2001. С. 163], прозрачно намекая тем самым на трусость Деминова. Но, принимая во внимание всю последующую деятельность Де-минова, подозревать его в умышленном уклонении от военной службы и тем более в трусости нет никаких оснований.
Покинув военное поприще, Деминов поступил на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета и быстро окончил его, что говорит о незаурядных способностях этого человека. В конце июля 1917 г. Деминов сочетался законным браком с дворянкой М. Э. Зброжек. Весной или летом 1918 г. он добровольно вступил в Красную армию, в рядах которой занимался агитационнопропагандистской работой на Восточном фронте. Но в сентябре того же года Деминов дезертировал из Красной армии, перешел линию фронта и по рекомендации некоего капитана Витберга связался с белыми 6.
Семнадцатого ноября 1918 г., уже будучи в Омске, Деминов подал в Совет министров Временного Всероссийского правительства докладную записку о мерах борьбы с большевиками. Несколько дней спустя с этой запиской ознакомился только что пришедший к власти Верховный правитель адмирал А. В. Колчак, по распоряжению которого она 28 ноября 1918 г. была переслана начальнику штаба Верховного главнокомандующего 7.
Но, похоже, военное руководство не оценило должным образом идеи Деминова и никак не отреагировало на них. Поэтому в декабре 1918 г. он поступил на работу в министерство труда, где сначала служил делопроизводителем, а с 1 февраля 1919 г. – секретарем статистического отдела. По «очень осторожной» рекомендации Г. Г. Тельберга в конце февраля 1919 г. Деминов был принят на службу Н. В. Устряловым в пресс-бюро отдела печати управления делами, где с 1 марта официально числился сотрудником, а с 12 марта – помощником директора этого пресс-бюро 8 [Посадсков, 2001. С. 162–163].
Представляет интерес характеристика, данная 18 ноября 1919 г. Деминову служившим несколько месяцев в Особом отделе под его началом Я. Д. Гусевым: «Способный, настойчив, большой силы воли, дипломат. Политические убеждения – монархист, не ярко выраженный. Недостатки его – абсолютное незнание хозяйственной стороны дела и нет способностей администратора» 9.
Заметим, что документы, направленные Деминовым в вышестоящие инстанции, не отличались глубиной проработки и системностью. Но для колчаковских деятелей, плохо знавших советскую действительность, они содержали несомненную новизну, поскольку Деминов имел реальное представление о постановке большевистской пропаганды в Красной армии. Внимание руководителей управления делами привлекли рекомендации Деминова использовать методы морально-психологической обработки населения советской России, включая разного рода «силовые варианты». К тому же Т. В. Бутову и Г. Г. Тельбергу явно импонировали увлеченность Деминова делом и особенно развитая им активность, которой недоставало большинству колчаковских чиновников, действовавших по старинке и не проявлявших инициативы.
По утверждению Деминова, идея создания в структуре управления делами, являвшегося гражданским органом, Особого отдела, имевшего своей целью дезорганизацию советского тыла, встретила решительное возражение со стороны тогдашнего военного министра генерал-майора Н. А. Степанова, являвшегося креатурой самого А. В. Колчака. В создавшейся обстановке Г. Г. Тельберг не решился вынести обсуждение вопроса о создании Особого отдела на заседание Совета министров, в компетенции которого были такого рода дела. Вместо Совета ми- нистров в качестве переговорной площадки было использовано учрежденное Российским правительством для оперативного решения вопросов о печати «Совещание четырех министров» (внутренних дел, иностранных дел, финансов и юстиции), которое в конце апреля 1919 г. стало называться Совещанием по делам печати.
Видимо, 13 апреля 1919 г. Деминов впервые выступил на этом Совещании с докладом, в котором попытался обосновать необходимость учреждения Особого отдела по дезорганизации советского тыла при управлении делами Верховного правителя и Совета министров. Деминова поддержал Т. В. Бутов. Тем не менее и здесь достичь консенсуса не удалось. Министры финансов и юстиции И. А. Михайлов и Г. Г. Тельберг, а также временно управляющий министерством иностранных дел И. И. Сукин высказались за создание Особого отдела, военный министр Н. А. Степанов и управляющий министерством внутренних дел А. Н. Гат-тенбергер – против. По итогам обсуждения Совещание приняло решение получить по вопросу о создании Особого отдела заключение Ставки (штаба) Верховного главнокомандующего 10 [Сводка материалов…, 1922. С. 93].
Две недели министры И. А. Михайлов и Г. Г. Тельберг, временно управляющие министерствами Г. М. Степаненко и И. И. Сукин, товарищ министра внутренних дел А. А. Грацианов и Т. В. Бутов «вели работу» с начальником штаба Верховного главнокомандующего генерал-майором Д. А. Лебедевым, а сам Деминов – с чинами Ставки, убеждая их возложить работу, которую традиционно выполняли военные, на управление делами и его гражданских сотрудников. В результате неформальная договоренность была достигнута.
Однако на состоявшемся заседании «Совещания четырех министров» представитель Ставки, исполняющий должность первого генерал-квартирмейстер полковник З. Ф. Церетели под давлением Н. А. Степанова неожиданно изменил свою позицию и высказывался за то, чтобы учредить Особый отдел при штабе Верховного главнокомандующего. Совещание было вынуждено согласиться с мнением высшего органа военного управления. В конце апреля согласно постановле- нию Совещания управляющий делами Верховного правителя и Совета министров направил Д. А. Лебедеву для информации объяснительную записку о создании Особого отдела и на доработку – два основных подготовительных документа: проект его штатов и примерную смету расходов, – с просьбой представить их затем в Совещание по делам печати 11.
Но в конце апреля – начале мая 1919 г. в составе Совета министров и Ставки произошли значительные кадровые изменения. Сначала лишился своей должности А. Н. Гаттенбергер, затем «зашаталось» кресло под Н. А. Степановым. Исполняющим должность первого генерал-квартирмейсте-ра Ставки, курировавшего разведку и контрразведку, был назначен только что произведенный в генерал-майоры Г. В. Леонов, ранее бывший дежурным генералом при Верховном главнокомандующем. Именно ему начальник штаба Д. А. Лебедев поручил разобраться в ситуации с Особым отделом.
Изучив документы и собрав другую информацию, Г. В. Леонов понял самое главное: руководство управления делами Верховного правителя и Совета министров не намерено отдавать реализацию задуманного им проекта военным. Осознав это, 11 мая 1919 г. он направил управляющему делами Верховного правителя и Совета министров свое отношение, в котором признал, что учреждение Особого отдела при Ставке «не встретит поддержки со стороны тех лиц, кои своею выдающейся энергией и большим опытом и знаниями были бы желательными сотрудниками. Наполнение [же] отдела лицами со средней трудоспособностью и такими же данными – не обещает успеха».
Поскольку Г. В. Леонов полагал, что Ос-канверх из-за недостатка подготовленных для такой работы лиц не в состоянии развить военно-осведомительную деятельность до масштабов, удовлетворяющих Совет министров и Ставку, то он признал учреждение Особого отдела в принципе необходимым, а при настоящих условиях – наиболее полезным при управлении делами Верховного правителя и Совета министров. Одновременно Г. В. Леонов высказал пожелание о том, чтобы деятельность Особого отдела протекала «рука об руку с планами управления Генкварверха» 12.
Деминов заявлял, что 7 мая Совещание по делам печати приняло решение о создании Особого отдела, 11 мая утвердило штаты и смету отдела, а также назначило его управляющим отделом. Но пока эта информация не подтверждается выявленными подлинными документами. В действительности за 11 мая удалось обнаружить только постановление Совещания по делам печати о выделении управлению делами Верховного правителя и Совета министров 200 тыс. руб. «на организацию агитации и пропаганды в глубоком советском тылу». Несомненно, что эти деньги предназначались для Особого отдела, поскольку с 21 мая по 2 июня именно из этой суммы по распоряжению Т. В. Бутова лично Деминов трижды получил в совокупности 110 тыс. руб. 13 Но по непонятной причине конкретный получатель бюджетных средств в документах Совещания по делам печати ни в этот раз, ни в последующем ни разу назван не был.
На этом, однако, странности не заканчиваются. Как известно, Совет министров Российского правительства, в состав которого входило несколько высококвалифицированных юристов, действовал в лучших традициях отечественной бюрократии. Все изменения в структуре органов государственной власти, в их штатах, в расписании должностей и окладов содержания чиновников жестко регламентировались.
Как ни парадоксально, но Совет министров не рассматривал проект положения об Особом отделе, его штаты и вопрос о руководителе. Имеется только приказ № 338 от 5 июня 1919 г. по управлению делами Верховного правителя и Совета министров за подписью Г. Г. Тельберга, в соответствии с которым Деминов был причислен к управлению делами с возложением на него заведования Особым отделом с 11 мая 1919 г. 14
Однако во временном штатном расписании управления делами Российского правительства, которое было утверждено Советом министров 6 июня 1919 г., упоминание об Особом отделе отсутствует 15. Такая конспирология вызывает недоуменные вопросы, не имеющие пока достоверных ответов. В том числе она порождает предположение о законности существования Особого отдела и о правомерности выделения ему государственных средств.
Тем не менее именно с 11 мая началось формирование Особого отдела. На первых порах серьезным препятствием в решении этой задачи стало отсутствие подходящего помещения, так как Омск переживал жесточайший квартирный кризис. Активную поддержку Деминову в его подыскании оказал Т. В. Бутов, лично ходатайствовавший перед управляющим министерством внутренних дел и уполномоченным «по разгрузке» Омска войсковым старшиной В. С. Ивановым о выделении соответствующего помещения, и начальник контрразведывательного отдела штаба Верховного главнокомандующего. Была достигнута договоренность, что Особому отделу отойдут сначала пять комнат, а потом и все помещение, которое занимала контора окружного инженера Степного северного горного округа А. И. Тиме в доме № 58 по Учебной улице 16. Но Особому отделу удалось получить дополнительное помещение еще и в доме № 71 на этой же улице.
Где-то в конце мая – начале июня 1919 г. Деминов представил в управление делами новое штатное расписание и приблизительную смету расходов Особого отдела. Он предложил увеличить количество штатных единиц до 137, причем включить в состав отдела авиаотряд из семи человек и редакцию газеты для советской России из пяти человек. Единовременно на содержание центрального аппарата отдела и его территориальных отделений Деминов запросил сначала 45 тыс., а потом 330 тыс. руб. Совокупные расходы отдела на ближайший ме-
17 июля 1919 г. управлением делами удостоверении всем военным и гражданским властям предлагалось оказывать Деминову при исполнении им служебных обязанностей «всемерное содействие» (см.: ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 2. Д. 130. Л. 221).
сяц он определил сначала в 155 тыс., затем в 609,8 тыс. руб., а на последующее время – в 1168,3 тыс. руб. в месяц 17.
Весьма похоже на то, что финансовые требования Деминова, несмотря на отсутствие их должной обоснованности, удовлетворялись сполна. Во всяком случае 1 и 28 июня 1919 г. с формулировкой «на усиление» Совещание по делам печати дополнительно выделило управлению делами соответственно 150 тыс. и 500 тыс. руб. 18 Известно, что 30 июня из этих денег Деми-нов запросил только на первую половину июля 100 тыс. руб., которые должны были пойти на содержание центрального аппарата в Омске (15 тыс.), на издательскую деятельность (45 тыс.) и на оборудование вагона-читальни (20 тыс. руб.). Затем 12 июля он запросил 60 тыс. на содержание Пермского и Уфимского прифронтовых отделений19.
В конце июля на содержание и работу Центрального и двух прифронтовых отделений, а также на представительство при штабах армий и корпусов Деминов запросил на три ближайших месяца, август – октябрь 1919 г., колоссальную сумму – 5351,5 тыс. руб.20
Что касается штатов Особого отдела, то установить, кто и когда утвердил их, пока не представляется возможным. Скорее всего, это сделало 28 июня 1919 г. Совещание по делам печати, признав их, однако, временными. Первоначально структурно отдел должен был состоять из руководства, инспекторской части, общего, политического, специального и двух прифронтовых отделений. Руководство отделом осуществлял управляющий, при котором имелись чиновник особых поручений, младший делопроизводитель и журналист. Инспекторская часть включала в себя собственно инспектора и трех курьеров для связи, четырех представителей при штабах Западной, Сибирской и Южной армий и 2-го Степного Сибирского отдельного корпуса, а также агентуру (заведующего, его помощника и восемь «агентов зарубежных»). Общее отделение, состоявшее из начальника (заведующего), его помощника, секретаря и машинистки, служило канцелярией отдела, а специальное отделение, имевшее начальника, помощника начальника и шесть «агентов местных», предназначалось для работы на территории, подконтрольной Российскому правительству. Пермское и Уфимское прифронтовые отделения являлись региональными структурными подразделениями отдела, в каждом из которых разрешалось иметь начальника, его помощника, делопроизводителя и шесть состоящих при отделении сотрудников. Пермское отделение должно было работать в районе Сибирской армии, Уфимское – базироваться на Западную армию. Всего временные штаты Особого отдела, с учетом технического персонала, предусматривали ровно 60 ставок 21.
Если судить по установленным июне 1919 г. окладам содержания начальствующего и оперативного персонала Особого отдела, то он относился к числу наиболее высоко оплачиваемых военных и гражданских служащих. Тарифная ставка набиравшихся по вольному найму «агентов зарубежных», предназначавшихся для работы в советском тылу, колебалась в размере от двух до пяти тысяч рублей в месяц, а оклад «агентов местных», также вольнонаемных, составлял от одной до двух тысяч рублей. Начальникам отделений и состоявшим при региональных отделениях сотрудникам полагался оклад содержания в размере от 850 до 1 200 руб. 22
Составить представление о том, каким образом формировался аппарат центрального, прифронтовых и региональных отделений Особого отдела, сколько сотрудников реально служило в нем и каково было его кадровое наполнение, из-за неполноты и противоречивости источников довольно сложно. Тем не менее можно утверждать, что количество служащих Особого отдела за лето 1919 г. увеличилось как в Омске, так и в его региональных отделениях. Уже к концу июня были открыты полагавшиеся по штату Пермское и Уфимское прифронтовые отделения, а также отделения в Омске, по- лучившее название Центрального, и в Красноярске. Правда, последнее в связи с быстрым разгромом Заманского (Степно-Бад-жейского) и Северо-Канского (Тасеевского) партизанского районов вскоре утратило свою актуальность и уже в начале июля было ликвидировано.
Примерно в середине августа 1919 г. структура и штатное расписание Особого отдела, номенклатура должностей и оклады содержания его сотрудников подверглись значительным изменениям. В Центральном отделении появилась новая должность – «ответственный руководитель». Занимавшие ее предназначались главным образом для работы в советской России. В региональных отделениях вместо «агента зарубежного» была учреждена должность «резидента», ориентированного на деятельность в прифронтовой полосе, вместо «агента местного» – «рядового агента», выполнявшего функции оперативного сотрудника, и, кроме того, введена должность «вредителя», об обязанностях которого можно только догадываться. Планировалось открыть еще два региональных отделения: Оренбургское и Семипалатинское, в каждом из которых намечалось иметь по 10 резидентов, по 10 рядовых агентов и по 10 «вредителей».
Всего к 20 августа 1919 г. в Особом отделе – без технического персонала, Оренбургского и Семипалатинского отделений – числилось 69 чел. Из них пятеро являлись ответственными руководителями и состояли в Центральном отделении, 14 резидентов, 11 рядовых агентов и трое «вредителей» служили в Пермском, 17 резидентов, 14 рядовых агентов и пять «вредителей» – в Уфимском отделении 23.
Пользуясь абсолютной бесконтрольностью со стороны управления делами, Деми-нов планировал дальнейшее наращивание численности сотрудников Особого отдела. В ближайшие два месяца он намеревался довести количество ответственных руководителей до 20 чел., резидентов Пермского и Уфимского прифронтовых отделений – до 60, рядовых агентов – до 120 и вредите- лей – до 60 чел. 24 Но поражения колчаковцев на Урале вынудили Демина ликвидировать Пермское и Уфимское отделения в качестве самостоятельных и объединить их в одно. Новое прифронтовое отделение получило название Западного. Зато в середине октября 1919 г. было вновь открыто Красноярское отделение. Предполагалось, что осенью часть бывших сотрудников Пермского и Уфимского отделений будет использована для пополнения Оренбургского и Семипалатинского отделений, в первом из которых имелся только его начальник, а во втором – начальник, его помощник и всего один сотрудник 25 [Сводка материалов…, 1922. С. 97].
Имеющиеся документы позволяют утверждать, что большинство начальствующего, оперативного и технического персонала Особого отдела было принято на службу в порядке вольного найма. В то же время не исключено, что некоторые начальствующие и оперативные сотрудники были откомандированы, прикомандированы или даже тайно внедрены в Особый отдел отделом контрразведки военного контроля, существовавшего при штабе Верховного главнокомандующего 26. В результате в Особом отделе на ключевых должностях оказалось довольно много офицеров, военных чиновников и гражданских лиц, уже служивших в структурах, занимавшихся информационноосведомительной или внешкольной работой в армии.
Так, заведующим агентурой Особого отдела являлся профессионал оперативно-розыскной деятельности полковник А. В. Караулов. До Февральской революции он служил начальником Тифлисского, Нижегородского и Южного охранных отделений, а после колчаковского переворота сначала занимал должность помощника начальника отдела контрразведки военного контроля при штабе Верховного главнокомандующего, а затем возглавлял центральное отделение военной контрразведки. Правда, его лучшие годы, когда он отличался инициативой и деловой хваткой, прошли. По оценке сменившего его на посту заведующего агентурой Я. Д. Гусева, у А. В. Караулова сохранилась пунктуальность, но не осталось воли.
Начальником политического отделения состоял штабс-капитан В. И. Ильинский, а его помощником – служивший в Егерском батальоне Ставки Верховного главнокомандующего Г. В. Маслов, откомандированный в распоряжение Особого отдела по ходатайству самого Т. В. Бутова.
Начальником Пермского прифронтового отделения с конца июня до начала августа 1919 г. был учитель по профессии Я. Д. Гусев. Ранее в разное время он служил помощником начальника информационного отделения штаба Сибирской армии, куда его зачислил сам начальник штаба полковник П. П. Белов, затем – инструктором внешкольного образования при Главном штабе и сотрудником информационного отдела штаба Сибирской армии. Заместителем Я. Д. Гусева являлся поручик Ф. П. Петровский.
В середине августа Я. Д. Гусева на посту начальника Пермского отделения сменил поручик М. О. Поллак – немец по национальности, имевший высшее образование, которого его предшественник аттестовал в целом положительно: «чрезвычайно настойчивый и энергичный, но слабо заинтересованный агентурным делом». Уфимское отделение возглавлял поручик В. Г. Степанов, должность его заместителя по агентурной (секретной) части исполнял поручик Шпильманс. После объединения Пермского и Уфимского отделений в Западное, руководство которого перебралось в Тюмень, его начальником стал М. О. Поллак.
Первым начальником Красноярского отделения в июне 1919 г. состоял подпоручик Ханжин, вторым с середины октября – подпоручик И. А. Лошкарев. В конце июля Ханжин возглавил Семипалатинское отделение, а его заместителем 6 сентября был назначен штабс-капитан М. И. Белоусов. Во главе Оренбургского отделения находился поручик Антропов, ранее исполнявший должность штаб-офицера для поручений при коменданте города Омск 27 [Сводка материалов…, 1922. С. 94–97; Кирмель, 2008. С. 174, 451].
Что касается оперативного состава Особого отдела, то он формировался из представителей разных социальных слоев, вероятно, в зависимости от того, какие задачи предстояло решать тем или иным его группам. Например, среди чинов для поручений и агентов Центрального, Пермского и Уфимского отделений, которым предстояло вести работу в советском тылу, было несколько офицеров и чиновников военного времени.
Иным был состав персонала Красноярского отделения, которое должно было заниматься преимущественно агитационнопропагандистской работой среди местного населения и в тыловых воинских частях. В октябре 1919 г. его первыми сотрудниками стали вольнонаемные гражданские лица, имевшие хорошее образование. В их числе оказался выпускник исторического отделения историко-филологического факультета Московского университета В. И. Будрин – ученик В. О. Ключевского, знаток русской истории и общественно-политической мысли, получивший широкую политическую известность в конце 1917 – начале 1918 г. благодаря организации в Екатеринбурге союза педагогов, боровшегося против большевиков.
Заметной фигурой в Красноярском отделении был учитель по профессии В. В. Протопопов. Ранее он служил инспектором народных училищ Кустанайского уезда и директором Саткинской гимназии, являлся издателем-редактором газеты «Саткинский листок». Широкую известность во время Мировой войны В.В. Протопопов приобрел как учредитель в Златоустовском уезде Уфимской губернии Народного университета на 300 слушателей и организатор культурно-просветительной работы в лазаретах. Лекторами отделения являлись выпускник физико-математического отделения Петроградского университета Акимов, бывший учитель, помощник уполномоченного министерства народного просвещения в Пермской губернии Е. Н. Строгин, юрист П. И. Попов, студентка Екатеринбургского Горного института Е. А. Сибирякова 28.
Среди начальствующего и оперативного состава Особого отдела были сотрудники, выбравшие службу в нем по разным причинам. В их числе имелось немало людей, сделавших свой выбор вполне осознанно в целях борьбы с большевиками. Сохранилось около двух десятков заявлений, поданных в конце лета – начале осени 1919 г. в Уфимское отделение на должность секретных агентов, предназначенных для засылки на советскую территорию. Очевидно, что эти заявления были написаны под диктовку начальствующих лиц отделения, поскольку текстуально они почти не различаются. Но поданы заявления о приеме на службу были совершенно добровольно, поскольку рассчитывать на успех в секретной работе в случае принуждения со стороны не приходилось.
Вот текст одного из таких заявлений, принадлежавшего С. Г. Купцову и датированного 7 октября 1919 г. «Желая активно работать по борьбе с большевизмом и его уничтожению, – говорится в нем, – прошу зачислить меня на службу во вверенный вам отдел, причем сообщаю, что я сознательно согласен отправиться в советскую Россию с ответственным поручением, в чем и подпи-суюсь» 29.
В то же время, как свидетельствуют архивные источники, кадровая проблема при формировании Особого отдела решалась с большим трудом. Не случайно в сентябре 1919 г. Деминов был вынужден дать в омских газетах объявление, гласившее, что он ищет «смелых, решительных людей для опасных поручений» 30.
И главное, проблема кадров таила в себе много скрытых угроз. Дело в том, что набрать сотрудников Особого отдела предстояло в кратчайшие сроки, тогда как людей, профессионально подготовленных для предстоявшей работы, было мало. Показателен хотя бы случай с прикомандированным к Генеральному штабу полковником кавалерии Ковалевским, находившимся в резерве чинов Омского военного округа. Первого июня 1919 г. по распоряжению ге- нерал-квартирмейстера штаба Верховного главнокомандующего генерал-майора П. Ф . Ря-бикова он был направлен в распоряжение управляющего делами Верховного правителя и Совета министров с последующим назначением сотрудником Особого отдела. Но не прошло и трех недель, как Ковалевский заявил, что для несения возложенных на него обязанностей «считает себя совершенно неподготовленным, так как ему никогда не приходилось работать по делам печати». Ковалевский попросил откомандировать его из Особого отдела для службы в строю, что и было сделано в конце июня 1919 г. 31
К тому же тех, кто добровольно предлагал свои услуги, надлежало протестировать на благонадежность колчаковскому режиму, что в условиях динамичной гражданской войны сделать было исключительно сложно, поскольку политические симпатии и антипатии, настроения и даже взгляды людей довольно быстро менялись, очень часто – в зависимости от положения на фронтах. В такой обстановке почти невозможно было обойтись без ошибок.
Несомненно, крупнейшей из них оказался прием на службу уже неоднократно упоминавшегося Я. Д. Гусева. С формальной точки зрения Я. Д. Гусев имел хороший послужной список за июль 1918 – июнь 1919 г., который стал его своеобразной визитной карточкой. Но, скорее всего, при устройстве в Особый отдел Я. Д. Гусев не дал о себе исчерпывающей информации. В противном случае он едва ли был бы принят на службу.
Его более полная биография позволяет предположить, что в политическом отношении Я. Д. Гусев являлся совсем другим человеком. Он родился в 1890 г. в крестьянской семье, но смог окончить учительский институт. Правда, по специальности так и не работал, а сначала служил на постройке Северо-Донецкой железной дороги, затем принимал участие в научных исследованиях по этнографии Среднего Урала. С началом Мировой войны был призван в армию, но на фронт не попал: служил солдатом 5-го Сибирского железнодорожного батальона, потом – писарем в штабе Северного фронта. После Февральской революции активно участвовал в политических событиях: до октября 1917 г. состоял членом Псковского
Совета рабочих и солдатских депутатов, с 11 ноября – членом исполкома Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов Северо-Западной области, был заведующим делами культурно-просветительного комитета Северного фронта.
Двадцать первого декабря 1917 г. Я. Д. Гусев получил освобождение от военной службы, после чего переехал в Екатеринбург. Здесь с 7 марта 1918 г. он служил секретарем городского комиссариата просвещения, избирался членом городского Совета рабочих и солдатских депутатов, был одним из организаторов и товарищем председателя союза учителей-интернационалистов. Полтора года спустя свои тогдашние политические взгляды сам Я. Д. Гусев определял так: «Был анархистом, активно содействующим коммунистам (большевикам)».
Видимо, в конце мая или в начале июня 1918 г. Я. Д. Гусев по заданию советских властей выехал в Челябинск, где к тому времени власть большевиков уже была свергнута Чехословацким корпусом. В Челябинске он был арестован чехословаками, заключен в одиночную камеру и должен был предстать перед военно-полевым судом по обвинению в шпионаже. Спасло Я. Д. Гусева заступничество известного меньшевика П. П. Маслова, являвшегося в то время председателем Челябинского исполнительного комитета народной власти, по ходатайству которого он был освобожден 32.
В ноябре 1919 г. Я. Д. Гусев попытался свою деятельность в органах власти сибирской контрреволюции представить как подрывную, а устройство на службу в Особый отдел объяснил стремлением находиться «у центра колчаковской власти» для борьбы с ней.
Я. Д. Гусев утверждал, что, познакомившись с Деминовым и поступив на службу в Особый отдел, он внедрил в его аппарат несколько сторонников Советской власти: начальником Уфимского отдела поручика В. Г. Степанова; своим заместителем по Пермскому отделению Ф. П. Петровского, которого он называл офицером-коммунистом; делопроизводителем отделения художника А. П. Беляева (Белова), якобы разделявшего взгляды большевиков; помощника делопроизводителя Гунина, который в начале 1918 г. работал под руководством видного большевика Б. П. Позерна делопроизводителем в управлении войсками Северного фронта. Более того, Я. Д. Гусев заявлял, что в июне 1919 г. он, А. П. Беляев и Ф. П. Петровский создали в Перми подпольную коммунистическую ячейку.
Все названные люди действительно являлись сотрудниками Особого отдела, а сам Я. Д. Гусев быстро поднялся в нем по служебной лестнице. Примерно в середине августа 1919 г. он добился своего перевода из Пермского отделения в Омск, где сначала занимался хозяйственно-финансовыми вопросами отдела, с конца сентября стал начальником его агентурного отделения, а 1 октября занял вторую по значимости должность – стал инспектором отдела 33. Если сообщенные Я. Д. Гусевым данные соответствуют действительности, то, стало быть, в Особом отделе изначально имелась внушительная «пятая колонна» большевиков.
Информации о практической деятельности Особого отдела (поскольку значительная ее часть носила секретный характер) сохранилось немного. Можно утверждать, что разные его структурные подразделения занимались различными направлениями работы. Тем более, неодинаковыми были ее результаты.
Главной задачей находившегося в Омске Центрального отделения изначально была печатная пропаганда в советском тылу и среди населения Сибири. А. Л. Посадсков утверждал, что наиболее удачной акцией Особого отдела стала «операция с “лже-керенками”, проводившаяся в июне – июле 1919 г.» [2001. С. 165]. Ее суть заключалась в том, что на одной стороне листовки предполагалось напечатать керенки, являвшиеся главным финансовым инструментом советской России, а на другой стороне с помощью штемпелей нанести разного рода надписи, разъяснявшие населению, что покупательная способность этих денег ничтожна и, следовательно, таким образом большевики, по сути дела, эксплуатируют и грабят рабочих и крестьян. Тем самым, считал разработчик этой идеи Деминов, будет подрываться доверие населения не только к советской финансовой политике, но и к Советской власти в целом.
Действительно, к концу июня 1919 г. по заказу Особого отдела при содействии министерства внутренних дел были напечатаны 300 тыс. экз. воззваний о керенках. Никаких сведений о том, что их проштемпелевали и распространили в советском тылу, в источниках нет. А. Л. Посадский же представил намерения Деминова о заброске этих воззваний в советский тыл с аэропланов и о доставке их разведывательными партиями как на практике осуществленную акцию 34. Более вероятно, что этот план не получил воплощения в жизнь из-за трудности его реализации.
Не исключено, что из-за провала пропагандистской операции в советском тылу в начале августа 1919 г. у Деминова возник новый проект, более реальный по возможности его выполнения: создать на наиболее крупных железнодорожных станциях по линиям Омск – Тюмень, Омск – Челябинск и Омск – Новониколаевск 15 пунктов по складированию и распространению печатных изданий. Предполагалось, что каждый такой пункт будут обслуживать по два постоянных и по несколько разъездных агентов, задачей которых станет распространение агитационной продукции в прилегающих населенных пунктах. Намечалось, что сеть агентов только на трех названных железнодорожных участках составит 85 чел. В планах было открыть дополнительные пункты на линии Новониколаевск – Семипалатинск, Новониколаевск – Бийск и Татарская – Славгород.
Есть косвенные данные о том, что 9 августа 1919 г. это предложение Деминова получило поддержку руководства управления делами или Совещания по делам печати 35. Но работа в этом направлении, видимо, не начиналась до конца месяца. Во всяком случае с просьбой к Т.В. Бутову срочно внести представление в Совещание по делам печати о выделении бумаги «для предстоящей издательской деятельности Особого отдела» Деминов обратился только 1 сентября 36.
По первоначальным планам Деминова другим направлением работы Центрального отделения являлся сбор и анализ информации о положении советской России. Но явной фантазией следует признать утвержде- ние А. Л. Посадского о том, что «Особый отдел мыслился его создателем и как некий аналитический антикоммунистический и контрразведывательный центр, своего рода “институт” по изучению большевизма»! [2001. С. 165].
О том, что таких амбициозных намерений у Деминова не существовало, свидетельствует кадровая ситуация в Особом отделе. До середины июня 1919 г. в него для анализа большевистской литературы был приглашен всего лишь один сотрудник – бывший управляющий делами ведомства иностранных дел Самарского Комуча В. М. Широкогоров. Но и его по требованию И. И. Сукина почти сразу же уволили из Особого отдела, поскольку В. М. Широ-когоров был привлечен к уголовной ответственности за несдачу им подотчетных денежных сумм и движимого имущества 37. Отсутствие в архивах не только аналитических материалов за подписью руководства или сотрудников Центрального отделения, но и каких-либо упоминаний о такого рода деятельности (даже по сбору информации!) свидетельствует о том, что это начинание Деминова не получило своего развития.
Посылка агентов в советский тыл – это было третье направление работы Центрального отделения. Есть сведения, что за все время его существования за линию фронта им было направлено не более десятка сотрудников: в конце июля – агент А. В. Попов, в августе – в район Белебея и Самары для создания повстанческих отрядов «черных гусар» прапорщик Ф. Ластухин, в середине сентября – на Северный Урал мичман Воронин и в район Орска прапорщик Калиниченко, в начале октября по рекомендации П. Ф. Рябикова во главе группы из четырех человек – в район Перми «для боевой работы» бывший начальник отделения личного состава штаба Верховного главнокомандующего подполковник М. Я. Савич (по одним данным, с документами на фамилию рабочего пермского завода Лесснера Козлова, по другим – под кличкой «Романовский»). Все названные агенты получили значительные суммы денег. Например, В. Ластухину выдали 10 тыс. руб., Воронину – 15 тыс., М. Я. Савичу – 60 тыс. руб.
Но Ф. Ластухин не выполнил задание Особого отдела, по сути дела дезертировав.
Воронин и Калиниченко не выходили на связь с руководством отдела, хотя ему удалось установить, что Воронин отправился в Петроград, где проживала его семья, а Калиниченко укрылся в Атбасаре. М. Я. Савич в начале 1920-х гг. оказался в Харбине, что ставит под сомнение выполнение им порученного задания 38 [Сводка материалов…, 1922. С. 95–96; Греков, 1999. С. 42].
А. Л. Посадсков считал, что осенью 1919 г. Особый отдел «все более и более расширяет свои функции и пределы компетенции, устремляясь “на прорыв” туда, где обнаруживается слабость “белой” государственности. Он участвует во всех культурно-пропагандистских акциях армии и правительства – “Дне книги”, “Дне солдата” и т. д.» [2001. С. 166].
Все эти утверждения плохо соответствуют фактам и не содержат объяснения подлинных мотивов, руководствуясь которыми Деминов накануне оставления колчаковцами Омска активизировал деятельность Центрального отделения, хотя ее эффективность была нулевой. В действительности поведение Деминова имело совсем иные причины и характер. Понимая, что все его многообещающие затеи потерпели полный провал, Деминов развил лихорадочную активность в Омске, чтобы продемонстрировать свое усердие, оправдать финансовые затраты и хоть как-то обезопасить себя от гнева недавних покровителей, которых он крупно подвел.
Что касается Пермского и Уфимского прифронтовых отделений, то летом 1919 г. они установили контакты со штабами Сибирской и 3-й (бывшей Западной) армий, приступили к агентурной, осведомительной и агитационно-пропагандистской работе как за линией фронта, так и в прифронтовой полосе. Существуют доклады Я. Д. Гусева и Ф. П. Петровского Деминову, содержащие сведения о том, что только Пермское отделение направило в советскую Россию, как минимум, 29 своих агентов. Правда, позднее Я. Д. Гусев утверждал, что эти сведения являются ложными. Более того, при отступлении колчаковцев из Перми руководство отделения якобы преднамеренно не эвакуировало в Тюмень имевшиеся в его распоря- жении типографии и бумагу, благодаря чему они достались красным 39.
На 1 октября 34 секретными агентами (резидентами, агитаторами, наблюдателями, организаторами, осведомителями, «разрушителями»), подавшими заявления, принятыми на службу с присвоением кличек, получившими предписания с перечнем поставленных перед ними задач и реально находившимися в советском тылу, располагало Уфимское прифронтовое отделение 40.
Вот одно из таких предписаний, которое получил от руководства Уфимского отделения 31 августа 1919 г. агент-«разрушитель» и организатор отрядов А. С. Свечников (кличка – «Миша маленький»): «[…] Отправиться в советскую Россию в район Самаро-Златоустовской ж[елезной] д[ороги], где Вам надлежит организовать в самом широком масштабе разрушительную работу в тылу красных между станциями Челябинск и Самара. Район от Кургана до Челябинска также должен попутно быть использован Вами. В частности, Вам поручается устройство крушений поездов, порча железнодорожного полотна, пожаров складов и вообще возможно большее нанесение действительного вреда красным. Параллельно с этим собирайте все сведения, могущие принести пользу в деле искоренения большевизма» 41.
Большинство агентов Уфимского отделения служило за деньги. Вознаграждение, как правило, было небольшим: 250–500 руб. «керенками» или «сибирками». Но шесть агентов работали бесплатно, причем двое из них – из идейных соображений. В то же время резиденты С. С. Гаврилов (кличка – «Активный»), А. С. Лаврик («Верный») и упоминавшийся А. Ф. Свечников получили в свое распоряжение по 20 тыс. руб., а еще пять «разрушителей» – в размере от 4,5 до 8 тыс. руб.
До 1 октября 1919 г. руководство Уфимского отделения получило информацию о проделанной работе только от двух агентов-резидентов: С. С. Гаврилова, который лично прибыл для отчета из Бердяуша в Петропавловск, а потом вернулся обратно, и А. С. Лав-рика из Уфы, пересланную им с курьером 42. На основании этих сведений оценить эф-
39 Там же. Л. 8.
фективность работы отделения не представляется возможным.
Я. Д. Гусев позднее утверждал, что начальник Уфимского отделения В. Г. Степанов представил Деминову фиктивный отчет об израсходовании 120 тыс. руб. и интерпретировал этот факт как целенаправленное нанесение ущерба колчаковской власти. Похоже, что злоупотребление на самом деле имело место, поскольку в октябре 1919 г. военный следователь военно-окружного суда Восточного фронта пытался получить доступ к данным об агентурной сети Особого отдела и расходах на ее содержание, но безуспешно43. Поэтому на вопрос о том, имело ли это злоупотребление политическую подоплеку, остается открытым.
Довольно активно с конца июля 1919 г. начало работать малочисленное Семипалатинское отделение. Его начальник подпоручик Ханжин оказался инициативным офицером. Он смог оперативно собрать важные данные о причинах возникновения, руководителях и ходе борьбы с антиколчаковскими восстаниями в смежной с Семипалатинской областью Алтайской губернии. В своем докладе, представленном Деминову, Ханжин проанализировал имевшуюся информацию и высказал ряд заслуживавших внимания суждений. Главный его вывод заключался в необходимости «обратить серьезное внимание на местный административный аппарат», так как «действия местных властей, с одной стороны, вызывали раздражение населения превышением данной им власти, с другой стороны, обнаружено было бездействие власти, равно ничего не было предпринято для предупреждения и пресечения возможности возникновения вооруженного восстания» 44.
Нужно отметить, что деятельность Семипалатинского отделения Особого отдела протекала в трудной обстановке, созданной традиционным неприятием частью армейских офицеров разведывательных и контрразведывательных структур. «Нас, – доносил Ханжин Деминову, – подозревают в слежке за местной властью […]». Исходя из такого понимания задач Особого отдела, штаб дислоцировавшегося в Семипалатинске 2-го Степного Сибирского отдельного корпуса считал деятельность отделения вредной и систематически мешал заниматься порученными ему делами, вплоть до ареста Ханжина и откомандирования всех сотрудников отделения на антиповстанческий фронт 45.
Еще хуже обстояло дело в Оренбургском отделении. Оно так и не вышло из эмбрионального состояния. К тому же его начальник поручик Антропов был по какой-то причине арестован генерал-квартирмейсте-ром Южной армии полковником К. Г. Язви-ным [Сводка материалов…, 1922. С. 97]. Это поставило крест на перспективах отделения.
Видимо, в начале октября 1919 г. было принято решение о восстановлении Красноярского отделения. Предполагалось, что его штат составит примерно шесть десятков человек. Семнадцатого числа в Красноярск прибыл новый начальник отделения подпоручик И. А. Лошкарев. Умный, образованный и энергичный офицер, он быстро установил контакт с местными военными и гражданскими властями и добился поддержки с их стороны. С конца октября, когда было сформировано ядро сотрудников отделения, было начато распространение печатных изданий по губернии, стали проводиться лекции и доклады среди горожан, выступления агитаторов в войсках и среди селян, особенно вблизи Северо-Канского (Тасеевского) и Минусинского партизанских фронтов.
Большой успех среди населения имела написанная В. В. Протопоповым листовка «Кровавая годовщина», посвященная событиям 25 октября (7 ноября) 1917 г. С огромным интересом встретили красноярцы лекции В. И. Будрина и председателя местного военно-промышленного комитета И. С. Казанцева, прочитанные в Общественном собрании. Первая из них называлась «Две смуты» и была посвящена сравнительному анализу событий XVII и XX вв., тема второй – «Государство и большевизм». Если к началу лекции В. И. Будрина в большом зале Общественного собрания были заняты все места, то во время лекции И. С. Казанцева слушатели стояли даже в проходах.
Однако и в Красноярске быстро обнаружилось, что набрать в отделение необходимое по штату количество квалифицирован- ных сотрудников не представляется возможным. Местные воинские начальники, в распоряжении которых находились удовлетворявшие требованиям агитационно-пропагандистской и культурно-просветительной работы военнослужащие, категорически отказывались откомандировать их. Они скептически относились к утверждениям, что с большевизмом можно бороться не только штыком, но и словом. К тому же из-за потери связи с руководством Особого отдела Красноярское отделение оказалось без финансов и типографской бумаги. Седьмого декабря 1919 г. И. А. Лошкарев, минуя не отвечавшего на его телеграммы Деминова, направил в Иркутск на имя Т. В. Бутова обстоятельный доклад о работе отделения, в котором написал, что «отсутствие уверенности в своевременном получении для работы средств подрывает в корне намеченный план работы и распределение сил» 46. Похоже, что так оно и случилось, поскольку никаких новых данных о деятельности Красноярского отделения обнаружить не удалось.
Между тем еще 7 ноября 1919 г. Деми-нов, захватив с собой жену, отца и сестру, вместе с частью сотрудников Центрального и Западного отделений выехал по железной дороге из Омска в Красноярск, который был назначен новым местом расположения Особого отдела. Добравшись до Новониколаевска, Деминов отдал по телеграфу последнее распоряжение И. А. Лошкареву об экстренной подготовке пропагандистской литературы о добровольческом движении. Первого декабря эшелон, в котором находились сотрудники и архив Особого отдела, вышел из Новониколаевска в Красноярск. Но несколько сотрудников отдела, включая М. О. Поллака и Шпильманса, решили остаться в Новониколаевске. Еще часть сотрудников осела на станции Тайга. Судя по всему, до Красноярска удалось добраться немногим, включая Деминова и А. В. Караулова. О возобновлении деятельности Особого отдела на новом месте не могло быть и речи, поскольку колчаковская власть стремительно разваливалась.
Перед эвакуацией Особого отдела из Омска Я. Д. Гусев добился у Деминова согласия возглавить работу в Омске. Это позволило Я. Д. Гусеву получить в свое рас- поряжение дела ряда агентов и служебные документы Особого отдела, а также значительную сумму денег (около 330 тыс. руб. «керенками»). Четырнадцатого ноября красные войска вошли в Омск. А три дня спустя Я. Д. Гусев подал на имя главы Советской власти в Сибири – председателя Сибирского революционного комитета и члена реввоенсовета 5-й армии И. Н. Смирнова – пространный доклад о своей деятельности в 1918–1919 гг. В этом докладе он сообщил ключевую информацию об Особом отделе, о его начальствующем и оперативном персонале, значительная часть которой была ранее приведена в настоящей статье.
И. Н. Смирнов по достоинству оценил предоставленные Я. Д. Гусевым сведения. Несколько дней Я. Д. Гусев находился в непосредственном распоряжении председателя Сибревкома. Нахождение в ближайшем окружении И. Н. Смирнова открыло перед ним двери, в буквальном смысле этих слов, во все властные кабинеты. Во всяком случае всего лишь десять дней спустя Я. Д. Гусев имел два удостоверения, подписанные председателем Омского губернского ревкома Е. В. Полюдовым: одно – члена временного бюро по народному образованию при Омском ревкоме, второе – сотрудника для поручений при Омском губернском ревкоме 47.
Затем был сделан следующий шаг: Я. Д. Гусев стал сотрудником Омской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Сохранившиеся источники не позволяют выяснить, когда и при каких обстоятельствах это произошло, кто из них кого «нашел»: Я. Д. Гусев – губчека или губчека – Я. Д. Гусева.
Скорее всего, И. Н. Смирнов передал доклад Я. Д. Гусева члену коллегии ВЧК С. Г. Уралову, являвшемуся в то время председателем Омской губчека и исполнявшему обязанности председателя Сибирской чека при Сибревкоме. Информация, содержавшаяся в докладе Я. Д. Гусева, представляла для чекистов исключительный интерес. Они посчитали, что Особый отдел управления делами является белогвардейской спецслужбой, аналогичной особым отделам, существовавшим в ВЧК, и жаждали как можно быстрее обнаружить и захватить своих визави из колчаковского лагеря. Во всяком случае где-то в начале января 1920 г. за подписью руководства Сибчека из Омска в Новониколаевск, Томск и Красноярск последовали шифрованные телеграммы, адресованные местным губчека, в которых сообщалось о том, что между Новониколаевском и Красноярском должен находиться эшелон с сотрудниками Особого отдела, назывались фамилии, имена и отчества руководителей отдела, содержалось описание их внешнего вида. Местным губчека предписывалось принять чрезвычайные меры по розыску всех служащих Особого отдела, арестовать их и под усиленной охраной доставить в распоряжение Сибчека 48.
Сам же Я. Д. Гусев, являвшийся сотрудником Омской губернской чека, 26 января 1920 г. получил постоянный пропуск за подписью С. Г. Уралова, дающий ему право на вход в Сибчека «во всякое время дня и ночи» 49. Последнее свидетельствовало о высоком доверии, которое Я. Д. Гусев заработал у С. Г. Уралова. Об этом же говорит тот факт, что вслед за Я. Д. Гусевым на службу в Омскую губчека были приняты являвшиеся его подчиненными по Пермскому прифронтовому отделению Особого отдела А. П. Беляев (Белов) и Ф. П. Петровский.
Полученные от Я. Д. Гусева сведения не пропали даром. В последних числах января 1920 г. в Красноярске сотрудники особого отдела ВЧК 5-й армии обнаружили и арестовали Деминова, А. В. Караулова, И. А. Лошкарева и В. В. Протопопова. Правда, в марте 1920 г. А. В. Караулов умер в красноярской тюрьме, но Деминов и И. А. Лошкарев были доставлены в Омск в распоряжение Сиб-чека.
Однако в это время совершенно неожиданный поворот произошел в судьбе Я. Д. Гусева, А. П. Беляева (Белова) и Ф. П. Петровского. Десятого марта 1920 г. они были арестованы сотрудниками Омской губчека. Содержание архивно-следственного дела не позволяет со ссылкой на документы ответить на вопрос о том, что послужило причиной их ареста. При аресте ничего предосудительного у них также не было найдено. Например, у арестованного на собственной квартире Я. Д. Гусева сотрудники губчека
Гераськин и Максимов изъяли 32 259 руб., служебный браунинг, семь патронов к нему, пять записных книжек, полевую карту, 21 лист переписки и три колоды игральных карт.
Более того, содержание архивно-следственного дела порождает дополнительные недоуменные вопросы. Например, в нем отсутствуют ордера на арест, анкеты арестованных и протоколы их допросов. Причем на Ф. П. Петровского в деле не имеется совершенно никаких анкетных данных, а сведения на А. П. Беляева (Белова) ограничиваются указанием его возраста, профессии, места службы и проживания. Только на Я. Д. Гусева имеется арестный лист с минимальными фактическими сведениями.
Я. Д. Гусев, А. П. Беляев (Белов) и Ф. П. Петровский провели в подвале Омской губчека без мало почти три месяца. За это время всего лишь один раз, 27 апреля 1920 г., был допрошен только Я. Д. Гусев. Начальник агентуры особого отдела Омской губчека А. И. Мосолов, производивший этот допрос, по его итогам вынес о Я. Д. Гусеве такое впечатление: «[…] Чувствует себя спокойно, видимо, убежден, что его дело склонится в его пользу, охотно распространяется ответами на задаваемые вопросы» 50.
Если Я. Д. Гусев действительно так думал, то он глубоко заблуждался. Постановлением Омской губчека от 5 июня 1920 г. Я. Д. Гусев и оба его подельника за контрреволюционную деятельность были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны. Можно высказать предположение, что такой роковой исход обусловили два обстоятельства. Во-первых, после завершения процесса над колчаковскими министрами Я. Д. Гусев, выложивший чекистам все, что он знал об Особом отделе, перестал интересовать чекистов как источник информации. Во-вторых, возглавлявший в то время Полномочное представительство ВЧК по Сибири И. П. Павлуновский отличался маниакальной подозрительностью и крайней жестокостью. Он не верил в искренность Я. Д. Гусева, а его службу в Особом отделе колчаковского правительства расценивал как контрреволюционное преступление, не допускавшее снисхождения.
Восемь десятилетий спустя прокуратура Омской области изучила материалы «расстрельного» дела Я. Д. Гусева, А. П. Беляева (Белова) и Ф. П. Петровского. Она пришла к выводу, что материалами дела «участие в контрреволюции не установлено, доказательств их вины нет, отсутствует состав преступления, политической репрессии подвергнуты необоснованно, подлежат реабилитации». Восьмого сентября 2000 г. все трое были реабилитированы 51 [Забвению не подлежит, 2001. С. 353; 2002. С. 280].
Несколько иначе складывались дела у доставленных в Омск Деминова и И. А. Лошкарева. В конце мая 1920 г. Деминов проходил в качестве свидетеля на процессе над колчаковскими министрами [Процесс…, 2003. С. 161–167, 174, 176]. Одновременно, как утверждает Н. В. Греков, Деминов в течение нескольких месяцев «детально рассказывал следователям [Полномочного представительства ВЧК по Сибири] все, что знал о колчаковской разведке и контрразведке, активно формируя образ незаслуженно обижаемого товарищами подпольщика-одиночки. Чекисты уже готовы были поверить, но подвела Деминова случайность: неожиданно всплыли документы о его “подвигах” на посту начальника Особого отдела. Оказалось, что он проявил большую настойчивость и изобретательность при разоблачении красных разведчиков. Конец чекистским сомнения положила краткая резолюция Представителя ВЧК в Сибири Пав-луновского: “Деминова – расстрелять!”» [Греков, 1997. С. 215].
Н. В. Греков не сообщил, на основе каких источников он сформулировал процитированные выводы. Но предложенная им версия плохо вписывается в контекст уже известных событий. Напомним, что омские чекисты с конца 1919 г. абсолютно точно знали от Я. Д. Гусева, кто такой Деминов, и именно поэтому целенаправленно его разыскивали. В свою очередь Деминов во время процесса над колчаковскими министрами открыто и без каких-либо комментариев сообщил о своей деятельности на посту начальника Особого отдела. К тому же судьба Я. Д. Гусева, уже апробировавшего аналогичный вариант спасения, убедительно свидетельствует о том, что никакие новые ар- гументы Деминова не могли переломить ситуацию в его пользу. Сомнительно также, что в июне – июле 1920 г. чекисты могли случайно найти какие-то документы, содержавшие сведения об участии Деминова в «разоблачении красных разведчиков». Наконец, важен тот факт, что 17 июля 1920 г. Полномочное представительство ВЧК по Сибири приговорило Деминова за контрреволюционную деятельность не одного, а вместе с И. А. Лошкаревым. На следующий день они оба были расстреляны. Только 30 декабря 1991 г. И. А. Лошкарев был реабилитирован прокуратурой Омской области [Забвению не подлежит, 2002. С. 149], тогда как в отношении Деминова это не сделано до сих пор.
Последним из начальствующего состава Особого отдела чекисты взяли М. О. Поллака, который после эвакуации из Омска около года легально прожил в Новониколаевске под своей фамилией и дослужился до заведующего отделом местного губернского продовольственного комитета. Но 3 января 1921 г. он был арестован и почему-то этапирован в Москву. Ему вменялось в вину стандартное обвинение в «службе у Колчака», из которого трудно понять, знали или нет чекисты о его работе в Особом отделе. Приговор М. О. Поллаку был вынесен почти год спустя, 14 февраля 1922 г., президиумом ВЧК: лишение свободы «до обмена с Польшей». Как складывалась его дальнейшая судьба, неизвестно. Но известно, что 26 декабря 2002 г. М. О. Поллак был реабилитирован прокуратурой Новосибирской области [Книга памяти…, 2005. С. 236].
Особый отдел управления делами Верховного правителя и Совета министров был создан в системе государственной власти контрреволюции на востоке России довольно поздно – в мае 1919 г., когда войска А. В. Колчака уже утратили стратегическую инициативу. Изначально Особый отдел замышлялся как гражданский орган для решения задачи, предельно четко обозначенной в его первом, но официально не закрепленном названии: для «дезорганизации неприятельского тыла». Аналогичных органов в истории российских государственных ведомств и служб никогда не было. Вопреки действовавшим нормам и существовавшим в практике отечественного государственного управления традициям статус и компетенция Особого отдела не получили законода- тельного оформления. Его начальником был назначен амбициозный, энергичный и волевой, но непрофессиональный и не имевший опыта государственной службы Деминов.
Все это привело к тому, что характер и объем задач, решить которые Деминов обещал своему начальству силами Особого отдела, и соответственно внутренняя структура последнего постоянно видоизменялись. В результате Особый отдел параллельно пытался заниматься разными видами деятельности: разведывательно-диверсионной, агитационно-пропагандистской и информационно-аналитической. Как следствие, он не являлся ни разновидностью спецслужб, ни частью пропагандистского ведомства, и находился довольно обособлено от других органов власти, которые вели аналогичную работу.
Из-за недостатка квалифицированного персонала и дефицита отпущенного историей времени справиться со взятыми Демино-вым обязательствами Особый отдел не смог. Ситуация усугублялась тем, что при комплектовании начальствующего и оперативного персонала были допущены серьезные ошибки. Поэтому вполне закономерно, что ни советский, ни колчаковский тыл не ощутили воздействия со стороны Особого отдела. Дополнительным аргументом в пользу его неэффективности может послужить тот факт, что окончательную оценку деятельности Особого отдела в присущей ей манере дала ВЧК, которая в короткий срок выявила и расстреляла его руководителя, несколько начальствующих и оперативных сотрудников.
THE SPECIAL DEPARTMENT OF ADMINISTRATION OF THE SUPREME RULER
AND COUNCIL OF MINISTERS OF THE RUSSIAN GOVERNMENT (MAY – DECEMBER, 1919)