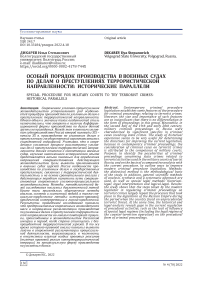Особый порядок производства в военных судах по делам о преступлениях террористической направленности: исторические параллели
Автор: Дикарев Илья Степанович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 4 (70), 2022 года.
Бесплатный доступ
Современное уголовно-процессуальное законодательство устанавливает ряд особенностей процедуры производства по уголовным делам о преступлениях террористической направленности. Однако объем и значение таких особенностей столь незначительны, что говорить о наличии дифференцированной формы производства по делам данной группы не приходится. Между тем в военном уголовном судопроизводстве России второй половины XIX - начала XX в. производство по уголовным делам о преступлениях государственных характеризовалось существенной спецификой. Учитывая, что в современном уголовном процессе рассмотрение уголовных дел о преступлениях террористической направленности также отнесено к компетенции военных судов, изучение накопленного исторического опыта представляется весьма полезным для определения направлений совершенствования действующего законодательства. Цель: выявить применявшиеся в военных судах царской России особенности производства по уголовным делам о государственных преступлениях, связанных с террористической деятельностью, и на основе сравнительного анализа с действующим порядком наметить пути совершенствования современного уголовно-процессуального законодательства. Методы: методологической базой исследования послужил диалектический метод. Кроме того, применялись общенаучные методы анализа, синтеза и системный подход, а также специально-юридические методы: историко-правовой, юридической интерпретации и логико-юридический. Результаты: проведенное исследование показало, что предпринимаемые современным законодателем шаги в направлении регламентации производства по уголовным делам о преступлениях террористической направленности во многом повторяют процессы, происходившие в законодательстве Российской империи в период, когда страна столкнулась с беспрецедентной террористической угрозой. В то же время историко-правовой анализ позволил выявить лакуны в современной регламентации процессуальной деятельности, выражающиеся, в частности, в отсутствии влияния особых правовых режимов (включая правовой режим контртеррористической операции) на процессуальную форму производства по уголовным делам.
Военный суд, подсудность, процессуальная форма, гласность, терроризм, преступления террористической направленности
Короткий адрес: https://sciup.org/142236908
IDR: 142236908 | УДК: 343.7 | DOI: 10.33184/pravgos-2022.4.18
Текст научной статьи Особый порядок производства в военных судах по делам о преступлениях террористической направленности: исторические параллели
Действующее российское законодательство определяет сущность противодействия терроризму как деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, а также физических и юридических лиц, нацеленную на решение задач по предупреждению терроризма; выIявлению, предупреждению, пресечению, раскрыIтию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом) и минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма1.
Противодействие терроризму может быть эффективныIм, только когда такая деятельность носит комплексныIй характер, связанны1й с применением норм различной отраслевой принадлежности. При этом в рамках отдельных отраслей права формируется группа специализированных правовых норм, регламентирующих средства (в том числе материально-правовые и процессуальные) противодействия терроризму. В частности, уголовно-процессуальное право регламентирует такие элементыI борьбыI с терроризмом, как расследование и судебное рассмотрение уголовных дел о преступлениях террористической направленности.
Российское уголовно-процессуальное законодательство предусматривает ряд особенностей производства по уголовны1м делам о преступлениях террористической направленности, которые можно разделить на несколько групп: 1) допускающие повышенныIй уровень ограничения прав и свобод лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование; 2) направленные на выIяснение специфических для данной группы дел обстоятельств, входящих в предмет доказыIвания; 3) императивно определяющие подсудность уголовных дел и состав суда [1].
Система уголовно-процессуальныIх средств борьбыI с терроризмом проходит в на-
-
1О nОnпротиводействии)pтерроризму>e:1 федер.:oза от 06.03.2006 № 35-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.08.2022).
стоящее время этап становления. Своего решения ждет целый ряд вопросов, касающихся регламентации деятельности по расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел террористической направленности. Ответы[ на многие из них можно найти, обратившись к истории военного уголовного судопроизводства, накопившего огромныIй опыт противодействия террористическим угрозам. Изучение истории полезно не только тем, что оно знакомит исследователя с принимавшимися в свое время законодательны1ми решениями, но - и это главное - позволяет судить об их эффективности и целесообразности применения в современных условиях.
ВОЕННАЯ ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПрАВЛЕННОСТИ
Обращаясь к законодательству дореволюционной России, нельзя не увидеть очевидных параллелей с современностью. Вторая половина XIX - начало XX в. характеризовались бес-прецедентны1м ростом числа противоправных деяний, которые в наши дни принято именовать преступлениями террористической направленности. Здесь надо отметить, что ни Уголовное уложение 1845 г., ни даже разработанное с учетом накопленного за десятилетия опыта противодействия терроризму Уголовное уложение 1903 г. не выIделяли терроризм или террористический акт в качестве самостоятельного состава преступления - такого рода деяния охватыIвались понятием «государ-ственныIе преступления» [2, с. 103]. Поэтому, когда в нормативных актах рассматриваемого периода идет речь о «преступлениях госу-дарственны1х»I, следует понимать, что в виду имеются, прежде всего, преступления террористической направленности. Именно против них в первую очередь были направленыI чрез-выIчайныIе законыI последних десятилетий существования Российской империи.
н Одним из первых ответов законодателя на активизацию революционного движения, широко практиковавшего в своей борьбе терро- ристические методыI, стало временное подчинение дел о государственныIх преступлениях ведению военного суда. Сразу отметим, что в настоящем исследовании основное внимание будет уделено вопросам, связанныIм с рассмотрением военны1ми судами уголовныIх дел в отношении гражданских лиц. Такой выIход за пределыI традиционной для военныIх судов персональной подсудности, с одной стороны, был свидетельством чрезвыIчайного характера принимаемых законов, а с другой - обусловил существенную специфику процессуальной формы.
Именным ВыIсочайшим указом от 9 августа 1878 г. было предусмотрено предание военному суду лиц, обвиняемых в вооруженном сопротивлении властям, нападении на должностных лиц, находящихся при исполнении или в связи с исполнением ими должностных обязанностей, если такие действия сопровождались убийством (покушением на убийство), нанесением ран, увечий, тяжких побоев или поджогом2. Надо отметить, что законодатель не относил такие дела прямо к подсудности военных судов - передача уго-ловныIх дел осуществлялась на основании дискреционных решений сначала органов военного управления соответству,ющих местностей в лице главных начальников военныIх округов, а позднее также по распоряжениям генерал-губернаторов3.
Как не вспомнить здесь недавние изменения в современном уголовно-процессуальном законодательстве4, предусмотревшие передачу по решению Верховного Суда РФ, вынесенному на основании ходатайства Генерального прокурора РФ или его заместителя, для рассмотрения в окружной (флотский) военный суд уголовных дел о ряде преступлений (большинство из которых террористической направленности) при наличии реальной уг-розыI личной безопасности участников судебного разбирательства, их близких родст-
-
2 О временном подчинении дел о государственных преступлениях и о некоторых преступлениях против должностных лиц ведению военного суда, установленного для военного времени : [Именной Высочайший указ от 09.08.1878] // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1880. Собр. 2. Т. LIII. Отд. II, ст. 58778.
-
3 О назначении временных генерал-губернаторов в городах С.-Петербурге, Харькове и Одессе и о предоставлении, как сим генерал-губернаторам, так и генерал-губернаторам в Москве, Киеве и Варшаве некоторых особых прав для охранения порядка и общественного спокойствия во вверенном им крае : [Именной Высочайший указ от 05.04.1879] // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1881. Собр. 2. Т. LIV. Отд. I, ст. 59476.
-
4 О внесении изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федер. закон от 27.12.2009 № 346-ФЗ // Российская газета. 2009. 29 дек.
венников, родственников или близких лиц. Обратим внимание на то, что как по указам от 9 августа 1878 г. и 5 апреля 1879 г., так и по Федеральному закону от 27 декабря 2009 г № 346-ФЗ компетенция военныIх судов распространена на гражданских лиц, обвиняемых в совершении преступлений террористической направленности.
Несмотря на очевидность исторической параллели законодательныIх решений, приня-тыIх с разницей в 130 лет, надо сказать о том, что мотивыI, лежащие в их основании, различны. Дело в том, что уголовныIе дела о преступлениях террористической направленности передавались в военные суды для суждения их по законам военного времени, что предполагало назначение виновныIм повышенной ме-рыI наказания (лишение всех прав состояния и смертная казнь). Другими словами, дореволюционный законодатель своим решением преследовал цель ужесточения ответственности террористов. В современных условиях рассмотрение уголовного дела военныIм судом такого эффекта не обеспечивает.
Примечательно, что главныIе начальники военных округов и генерал-губернаторыI по передаваемыIм ими в военныIе суды уголовным делам наделялись чисто процессуальными полномочиями, свойственны1ми судопроизводству в военное время. В частности, они были вправе «прощать виновных и смягчать им наказание», утверждать приговорыIк смертной казни, а также не давать движения поданныIм по делу кассационныIм жалобам.
Убийство императора Александра II продемонстрировало невозможность обеспечения общественной безопасности не только законами, «сообразованныIми с обычныIм состоянием мирного общежития», но и «разроз-ненныIми чрезвыIчайны1ми законами». В это время законодатель осознает необходимость конструирования особых правовых режимов, создающих оптимальную «среду» для противодействия преступныIм посягательствам террористической направленности. 14 августа 1881 г. издается Высочайше утвержденное Положение о мерах к охранению государственного порядка и общ ественного спокойствия5, предусматривавшее возможность введения в отдельных местностях исключительного положения нескольких видов: 1) усиленной ох-раныI; 2) чрезвы1чайной охраныI и 3) режима, вводимого в губерниях и областях, смежных
-
5 Пол ПоложениеSо мерах каохранению^государстве го порядка и общественного спокойствия : [Высочайше утвержденное Положение Комитета Министров от 14.08.1881] // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1885. Собр. 3. Т. I, ст. 350.
с объявленны1ми в исключительном положении. На территориях, состоявших на положении усиленной охраныI, генерал-губернаторы, а в не подчиненных им губерниях - министр внутренних дел сохранили право передавать на рассмотрение военного суда для суждения по законам военного времени отдельные дела об общеуголовных преступлениях, когда это признавалось необходимыIм в интересах ограждения общественного порядка. Если же объявлялось положение чрезвыIчайной охраны, то генерал-губернатор имел право изъятия из общей подсудности с передачей на рассмотрение военного суда уже целых категорий дел «об известного рода преступлениях и проступках». По сути, генерал-губернатор, реализуя такое право, получал возможность изменения в отдельных местностях регламентации подсудности уголовных дел. Своим решением он устанавливал императивную подсудность военныIм судам определенных категорий уголовных дел, среди которых основную массу составляли деяния террористического характера.
Понятно, что подобный алгоритм регламентации подсудности немыслим в современных условиях. Но вместе с тем оставить без внимания положения действующего законодательства, предусматривающие прямое отнесение к подсудности военных судов целого ряда уголовных дел о преступлениях террористической направленности, нельзя. Напомним, что в соответствии с Федеральны1м законом от 5 мая 2014 г. № 130-Ф З6 уголовныIе дела о преступлениях, предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, ч. 4 ст. 211 УПК РФ, которые ранее могли передаваться в военные суды по решению Верховного Суда РФ только при наличии реальной угрозыI личной безопасности участников судебного разбирательства, их близких родственников, родственников или близких лиц, а также уго-ловныIе дела о преступлениях, предусмотренных ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, если их совершение было сопряжено с осуществлением террористической деятельности, с 1 января 2015 г. были отнесены к исключительной подсудности Московского окружного военного суда и Северо-Кавказского окружного военного суда7. Таким образом, как в законодательстве дореволюционной России, так и в действу-
-
6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ // Российская газета. 2014. 7 мая.
-
7 В настоящее время перечень преступлений и круг военных судов [включая их наименования) изменились, однако подробный анализ этих изменений выходит за пределы тематики настоящей статьи.
ющем уголовно-процессуальном законе четко просматривается интенция законодателя установить специализацию военных судов по уголовны1м делам о преступлениях террористической направленности [3].
В л иян и е о с о бы I х правовы I х режимов на уголовно - процессуальную форм у
Следует сказать о том, что на рубеже XIXXX вв. российский законодатель всегда сопровождал регламентацию особых правовых режимов установлением специальных правил судопроизводства по уголовны1м делам. И это, несомненно, правильно, поскольку объективные условия, служащие основанием введения особого правового режима в той или иной местности, всегда требуют приспособления к ним процессуальной формы [4]. Несомненно, это касается и процедуры производства по уголовны1м делам о преступлениях террористической направленности. Положение от 18 июня 1892 г.8 о местностях, объявленныIх состоящими на военном положении, предоставляя генерал-губернаторам право передавать на рассмотрение военного суда отдельные дела о преступлениях, предусмотренных общими уголовны]ми законами [прежде всего, дел о вооруженном сопротивлении властям, нападении на должностных лиц, находящихся при исполнении или в связи с исполнением ими должностных обязанностей, если такие действия сопровождались убийством, покушением на убийство, нанесением ран, увечий, тяжких побоев или поджогом), устанавливало ряд процессуальных правил производства по таким делам. В частности, закон требовал каждый раз особого назначения временных членов суда, причем исключительно из числа штаб-офицеров, и рассмотрения уголовныIх дел только при закрытых дверях, а избрание и назначение защитника проводить по правилам, предусмотренныIм положениями Военно-судебного устава. Местные начальники полиции в период военного положения получали право задерживать на срок не более двух недель любых лиц, «внушающих основательное подозрение» в совершении преступлений государственных или нарушающих сущест-венныIе интересы: армии, в принадлежности к противозаконныIм сообществам, а также производить в любое время обыски и наложение ареста на всякого рода имущество, указыIваю-щее на преступность действий или намерений.
-
8 О меО местностях,Fобъявляемых состоящими на3воен положении : [Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета от 18.06.1892] // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1895. Собр. 3. Т XII, ст. 8757.
Если говорить о современном законодательстве, то оно почти не содержит примеров дифференциации уголовно-процессуальной формы, применяемой в местностях, где вве-деныI особые правовые режимы (исключение составляет только положение п. «ж» ст. 12 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ9). Между тем очевидно, что общий порядок судопроизводства непригоден для расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в условиях военного времени (а тем более в боевой обстановке). Особые правила судопроизводства требуются и в условиях действия правового режима контртеррористической операции. К сожалению, в направлении разработки дифференцированных форм процессуальной деятельности, адекватныIх специфическим условиям ее осуществления на территориях, где действуют особые правовые режимы, пока еще сделано очень мало.
ОГРАНИЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА
В Положении о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 г. появляется важныIй элемент процессуальной формы производства по уголовны1м делам о преступлениях террористической направленности -ограничение гласности. Действовавший в рас-сматриваемыIй период Военно-судебныIй устав 1 867 г. также предусм атривал ограничение гласности по уголовныIм делам о государственных преступлениях, но они касались глав-ныIм образом дел об обвинении подсудимых в произнесении дерзких и оскорбительных слов против государя императора или членов Императорского Дома (ст. 1 120)10. При объявлении положения усиленной охраныI генерал-губернаторыI, а в не подчиненных им губерниях - министр внутренних дел получили право требовать рассмотрения при закрытых дверях «судебных дел, публичное рассмотрение коих может послужить поводом к возбуждению умов и нарушению порядка».
Тенденция к ограничению гласности судопроизводства по делам о преступлениях террористической направленности прослеживается
-
9 О чрезвычайном положении : федер. конституц. закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 25.08.2022).
-
10 Устав военно-судебный (С.В.П., 1869 г., XXIV). Дополнен позднейшими узаконениями и распоряжениями по 1879 год. - Казань : Губернская тип., 1879. С. 219.
и в современном уголовно-процессуальном законодательстве. В 2014 г. перечень уголовныIх дел, по которыIм допускается оглашать только вводную и резолютивную части приговора, был расширен за счет уголовных дел, относящихся к рассматриваемой группе11. Причем основаниями для такого законодательного решения послужили соображения, связанныIе с обеспечением безопасности судей, а также стремление не допустить распространения сведений об организации и структуре преступных сообществ, совершающих террористические актыI и вооруженные мятежи. Надо учитывать, что террористам зачастую бывает важно показать общественности, особенно тем группам населения, которых они оценивают как потенциальную социальную базу своей поддержки, что они выIнужденыI обращаться к терроризму ввиду наличия неких объективных и непреодолимых обстоятельств [5]. Очевидно, что открытое судебное заседание вкупе с предусмотренной законом возможностью его видеозаписи и даже трансляция по радио, телевидению или в сети Интернет создает для этого оптимальные условия. В этой связи ограничение гласности судопроизводства по такого рода делам необходимо распространить не только на этап оглашения приговора, но и на все судебное разбирательство. В этой связи в уголовно-процессуальное законодательство целесообразно включить положение, согласно которому рассмотрение уголовных дел о преступлениях террористической направленности всегда осуществляется в закрыIтом судебном заседании [6, с. 20].
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Процессуальная форма производства в военных судах по делам о государственных преступлениях изначально отличалась упрощением и ускорением 12. Так, если преступление было очевидны1м, предание суду осуществлялось без производства предварительного
-
11 О внесении изменений в статьи 241 и 293 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федер. закон от 21.07.2014 № 251-ФЗ // Российская газета. 2014. 25 июля.
-
12 О порядке производства дел о лицах гражданского ведомства, передаваемых военному суду на основании Высочайших указов 9 августа 1878 года и 5 апреля 1879 года : [Именной Высочайший указ от 08.04.1879] // Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1881. Собр. 2. Т. LIV. Отд. I, ст. 59491.
следствия, на основании сведений, собранных в ходе дознания. Дело могло слушаться без вызова свидетелей, если таковыIе не могли явиться в суд в течение трех дней, на основе оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном следствии или дознании. Всего один день давался прокурору - на представление полученного после производства предварительного следствия уголовного дела генерал-губернатору со своим заключением о дальнейшем направлении дела; суду - на то, чтобыI дать законныIй ход делу, полученному от прокурора, а также на изготовление приговора после его оглашения; сторонам - на обжалование приговора. Как писал Н.А. Троицкий, главной чертой военно-судебного разбирательства оказывалась чисто воинская оперативность, неминуемо сопряженная в данном случае с крайней бесцеремонностью [7, с. 209].
Особое место в истории российского контртеррористического законодательства занимают Правила о военно-полевых судах от 20 августа 1906 г.13Надо сказать, что те немногие научные работыI, в которых рассматривается деятельность этих судов, дают резко негативную оценку военно-полевой юстиции. Во многом это объясняется тем, что такие работы публиковались в советское время [8; 9], когда иной взгляд на борьбу царской военной юстиции с революционныIм движением был немыIслим. Мы не будем здесь судить о справедливости таких оценок, поскольку это выIхо-дит за пределыI тематики настоящей статьи. В то же время нельзя недооценивать сложность ситуации, в которой оказалась правоохранительная система царской России на рубеже XIX-XX вв. Идеи массового террора в этот период охватили практически все революционные структурыI страныI, причем в их число входили не только анархистыI, социалистыI-революционерыI, но и социал-демократыI. Российское общество стало привыкать к насилию как к совершенно нормальному и обыденному способу противостояния монархической власти [10, с. 7-8]. Соответственно, жестким и ка-тегоричныIм оказался и ответ на террористические угрозы1.
Особые условия и масштабыI противоправной деятельности неизбежно требуют корректировки процессуальной формы. В рассматриваемыIй период в столицу поступали многочисленные сообщения с мест об увеличении числа террористических актов
-
13 FlpaiПравила)оHвоенно-полевомeсуде от 20.08.190 Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1909. Собр. 3. Т. XXVI. Отд. I, ст. 28257.
и подготовке широкомасштабных вооруженных восстаний. Выступая 8 июня 1906 г. перед депутатами Государственной думыI, министр внутренних дел П.А. Столыпин приводил статистику террористических актов за год - с апреля 1905 г. по апрель 1906 г.: всего пострадало 671 должностное лицо, из которых убито 288 человек, остальныIе раненыI. Сообщалось также о 156 неудачных покушениях [10, с. 147]. При этом, как отмечают М.Б. Ко-лотков и С.М. Лоскутов, все усилия полиции пропадали даром ввиду несовершенства судебной системыI, позволявшей многим террористам оставаться безнаказанны1ми или получать сравнительно небольшие наказания. В сложившихся условиях становилось очевидно, что обычное правосудие не в силах справиться с террором и следует прибегнуть к вре-менныIм экстраординарныIм мерам [2, с. 120].
Ключевая особенность военно-полевой юстиции состояла в ее быстроте (неслучайно ее прозвали «скорострельной»). Интенцию развитию процессуальной формы в данном направлении придавали не только уже апробированные прежде правила производства в военных судах, но и личные взглядыI императора Николая II, признававшего смертныIе приговорыI только тогда правильны1ми, когда они приводятся в исполнение через 48 часов после совершения преступления. В ином случае, считал самодержец, такие приговорыI являются «актами мести и холодной жестокости» [8, с. 90].
Военно-полевые судыI учреждались немедленно после совершения преступления, причем решение о предании суду содержалось непосредственно в приказе соответствующего военного начальника об учреждении военно-полевого суда. Сразу после формирования военно-полевой суд приступал к разбирательству дела и был обязан рассмотреть его не позднее двух суток. Разбирательство уголовного дела происходило в закрыIтом судебном заседании, а приговор вступал в силу немедленно по провозглашении и в течение суток подлежал исполнению.
Низкий уровень процессуальных гарантий в военно-полевых судах, обеспечивавший быстроту и «безотказность» военной юстиции, выIзыIвал тревогу у ряда политических деятелей. В марте 1907 г. группа депутатов II Государственной думыI внесла законодательное предложение об отмене военно-полевых судов. В Государственном совете эта инициатива поддержки не нашла, а во время обсуждения в /Государственной думе П.А. Столыпин признал, что в ситуации с военно-полевыIми судами
«государственная необходимость стоит выIше права»14.
Опыт использования военно-полевой юстиции в борьбе с терроризмом со всей очевидностью показал, что трансформация порядка судопроизводства, приспосабливаемого к особыIм условиям, должна иметь разумные пределыI, не переходя ту границу, за которой судебная деятельность утрачивает чертыI правосудия.
З а к 'лючение
Проведенное исследование наглядно показало наличие в судопроизводстве по уголов-ныIм делам о преступлениях террористического характера ряда значимых особенностей, которые воспроизводятся законодателем всякий раз, когда уголовныIй процесс мобилизуется на борьбу с терроризмом. Ключевое значение имеет расширение военной подсудности, придание военны1м судам специализации по уголовны1м делам о преступлениях террористической направленности. Кроме того, неизменно ограничивается гласность судопроизводства, что обусловлено различными причинами, главная из которых состоит в предупреждении распространения террористической идеологии и использования обви-няемыIми по таким делам скамьи подсудимых в качестве пропагандистской трибуныI.
В то же время анализ контртеррористического законодательства царской России вскрывает ряд лакун в современной регламентации аналогичных правоотношений. Речь идет прежде всего об отсутствии дифференцированных форм судопроизводства, приспособленных к условиям особых правовых режимов. Одним из таких является правовой режим контртеррористической операции, в рамках которого если не судебное разбирательство, то уж как минимум досудебное производство по уголовны1м делам обязательно должно вестись по особым правилам, которых современное законодательство до сих пор не содержит.
-
14 Основные положения законопроекта об отмене положения о военно-полевых судах. 9 марта 1907 г. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.historyrussia.org/ ru/nodes/37159 [дата обращения: 03.08.2022).
Список литературы Особый порядок производства в военных судах по делам о преступлениях террористической направленности: исторические параллели
- Дикарев И.С. Уголовно-процессуальные особенности производства по уголовным делам о преступлениях террористической направленности / И.С. Дикарев // 20 лет действия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: уроки и перспективы : тезисы докладов и сообщений международной научно-практической конференции (26-28 мая 2022 г.) / пред. редкол. А.В. Павлов. - Омск : Омская академия МВД России, 2022. - С. 21-24.
- Колотков М.Б. Антитеррористическая политика Российской империи: историко-правовое исследование : монография / М.Б. Колотков, С.М. Лоскутов. - Москва : Юрлитинформ, 2020. - 168 с.
- Дикарев И.С. Специализация военных судов по уголовным делам о преступлениях террористической направленности / И.С. Дикарев // Вестник военного права. - 2021. - № 4. - С. 26-31.
- Дикарев И.С. Дифференциация уголовно-процессуальной формы и факторы, ее обусловливающие / И.С. Дикарев // Российская юстиция. - 2013. - № 12. - С. 18-21.
- Петрищев В.Е. Противодействие террористической идеологии - приоритетное направление профилактики терроризма. Статья для II Всероссийской научно-практической Конференции в МГУ им М.В. Ломоносова. Москва, 13-14 октября 2010 г. / В.Е. Петрищев [Электронный ресурс]. URL: http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/petrishchev-ve-protivodeystvie.html.
- Дикарев И.С. Гласность уголовного судопроизводства в контексте противодействия терроризму (часть вторая) / И.С. Дикарев, С.Л. Никонович // Вестник военного права. - 2022. - № 2. - С. 16-22.
- Троицкий Н.А. Царские суды против революционной России. Политические процессы 1871-1880 гг. / Н.А. Троицкий. - Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1976. - 408 с.
- Гернет М.Н. История царской тюрьмы : в 5 т. Т. 4. Петропавловская крепость. 1900-1917 / М.Н. Гернет. -3-е изд. - Москва : Госюриздат, 1962. - 303 с.
- Полянский Н.Н. Царские военные суды в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / Н.Н. Полянский. - Москва : Изд-во Московского университета, 1958. - 240 с.
- Колотков М.Б. Террор и антитеррор в России: историко-правовой аспект : монография / М.Б. Колотков. - Москва : Юрлитинформ, 2018. - 184 с.