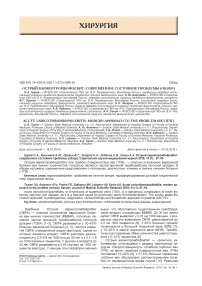Острый варикотромбофлебит: современное состояние проблемы
Автор: Царев О.А., Анисимов А.Ю., Пронин Ф.Г., Захаров Н.Н., Лобанов А.В., Сенин А.А.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Урология
Статья в выпуске: 1 т.14, 2018 года.
Бесплатный доступ
Острый варикотромбофлебит, или тромбоз поверхностных вен (ТПВ), — опасное осложнение варикозной болезни вен нижних конечностей, поскольку является частой причиной тромбоэмболии легочной артерии. В обзоре изложены современные представления о патогенезе, диагностике, клинике и тактике лечения больных с ТПВ.
Варикотромбофлебит, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, тромбоэмболия легочной артерии, хирургическая тактика
Короткий адрес: https://sciup.org/149135072
IDR: 149135072
Текст научной статьи Острый варикотромбофлебит: современное состояние проблемы
выше, что обусловлено существенным преобладанием женщин, страдающих ВБВНК. До 30 лет жизни дебют ОВТФ выявляют у 0,31 на 1000 женщин, с возрастом частота выявления ОВТФ увеличивается до 2,2 на 1000 пациенток [6]. У 95% больных процесс локализуется в большой подкожной вене (БПВ) [7], у 10-20% в малой подкожной вене (МПВ). Тромботическое поражение обеих конечностей диагностируется у 5-10% пациентов [8].
Острый варикотромбофлебит — ургентное заболевание, относящееся к разделу неотложной хирургии. Распространенность тромбоза глубоких вен (ТГВ) на фоне тромбоза поверхностных вен (ТПВ) составляет 10-40% [9]. У 57,6% больных поражение глубоких вен обусловлено распространением тромбов по перфорантным венам голени [10]. Реальная угроза развития ТЭЛА выявляется более чем у 35% больных ОВТФ. Клинически проявляющаяся тромбоэмболия легочной артерии у больных ОВТФ составляет до 13% [10]. Распространенность бессимптомной ТЭЛА, выявленной с помощью сцинтиграфии легких, составляет до 49% [11].
Несмотря на успехи, достигнутые флебологией в последние десятилетия, проблема лечения ТПВ еще далека от разрешения и чрезвычайно актуальна [11].
Вопросы терминологии. Термином «варико-тромбофлебит» на протяжении нескольких десятилетий обозначают наиболее распространенную форму тромбофлебита, при которой тромб формируется в варикозно расширенных поверхностных венах. У подавляющего большинства больных ТПВ является осложнением варикозной болезни, значительно реже возникает при посттромбофлебитическом синдроме [3, 10].
Впервые термин «тромбофлебит» был предложен в 1939 г. A. Ochsner и М. Debakey для обозначения тромботического процесса в подкожных венах, связанного с воспалительным процессом венозных стенок [2, 8]. На протяжении многих лет считалось, что ТПВ является следствием первичного тромбооб-разования с последующим присоединением воспаления, поэтому данное заболевание называют тромбофлебитом. Образование тромбов в глубоких венах считалось вторичным на фоне флебита, соответственно тромбоз глубоких вен (ТГВ) называли флеботромбозом [2, 3]. До недавнего времени «тромбофлебит» считали самостоятельным заболеванием, отличным от ТГВ «флеботромбоза», имеющим особые подходы к диагностике и лечению. Исследования последних лет показали, что ТПВ протекает по тем же закономерностям и таит в себе те же угрозы, что и ТГВ. Доказано, что у пациентов с ТПВ частота выявления симультанного ТГВ составляет 6-40% [12-14]. В значительном эпидемиологическом исследования «POST» было доказано, что ТПВ у 25% больных сопровождается ТГВ, причем у 4% больных при ТПВ развивается ТЭЛА. На протяжении трех месяцев более чем у 10,2% больных отмечался рецидив тромбоэмболических осложнений [15]. Результаты других эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что ТПВ у 6-44% больных сопровождается ТГВ, в 20-33% случаев служит причиной бессимптомной, а в 2-13% симптомной ТЭЛА [16].
Полученные результаты показали единую природу тромботического поражения поверхностных и глубоких вен, что определяет необходимость проведения антикоагулянтной терапии у больных с ТПВ по общим принципам для всех венозных тромбоэмболических осложнений [16–18].
Вопросы терминологии обсуждались на американском и европейском флебологических форумах (2015) [14]. В международных консенсусах вместо термина «тромбофлебит» в качестве синонима рекомендуют использовать термин «тромбоз поверхностных вен», подчеркивая тем самым общность патогенетических механизмов, возможных осложнений и лечебной тактики у больных с ТПВ и ТГВ [14, 15].
Термины «флеботромбоз» и «тромбофлебит», указывающие, как считалось ранее, на первопричину заболевания, сегодня имеют историческое значение. Исследования последних лет показали отсутствие принципиальных отличий в патогенезе «тромбофлебита» и «флеботромбоза», поэтому целесообразно в соответствии с международными рекомендациями применять термин «тромбоз» с указанием локализа- ции процесса [3, 11]. При тромбозе как поверхностных, так и глубоких вен на участке недавно сформированного тромба у подавляющего большинства больных отсутствуют признаки воспаления венозной стенки, а в дальнейшем асептическое воспаление неизбежно. Исключение составляют лишь крайне редкие в наши дни случаи гнойного расплавления тромботических масс, которое может возникнуть как в поверхностной, так и в глубокой венозной системе. Флебит чаще всего носит асептический характер, роль инфекции ограничивается вторичными изменениями гемокоагуляции. Случаи флебита без тромбоза представляют собой казуистику [3]. Вместе с тем большинство флебологов до сих пор пользуются термином «тромбофлебит, варикотромбофлебит» при поражении подкожных и «флеботромбоз» при поражении глубоких вен, понимая условность подобного деления. Переход на объединенный диагноз «Тромбоз поверхностных или глубоких вен» в настоящее время представляется целесообразным [3]. Внедрение в клиническую практику единого диагноза для тромботического поражения поверхностных и глубоких вен имеет принципиальное значение, поскольку ломает многолетний стереотип легковесного отношения к тромбозу поверхностных вен, выравнивает серьезность точки зрения врачей в диагностической и лечебной тактике на тромботическое поражение глубоких вен нижних конечностей [2, 3, 6, 10].
Патогенез тромбоза поверхностных вен нижних конечностей. Тромбоз и воспаление в поверхностных венах может быть как самостоятельным заболеванием, так и осложнением какого-либо патологического процесса, сопровождающегося явлениями гиперкоагуляции. Важно подчеркнуть, что явления тромбоза и воспаления венозной стенки при ТПВ у большинства больных идут параллельно и поддерживают друг друга. В связи с этим в патогенезе ТПВ сложно выделить инициирующий фактор [2, 3, 10].
Тромбообразованию в системе поверхностных вен способствуют те же факторы, которые вызывают тромбоз глубокой венозной системы нижних конечностей: возраст старше 40 лет, наличие варикознорасширенных вен, тяжелые расстройства сердечно — сосудистой системы, онкологические заболевания, гиподинамия после тяжелых операций или перенесенного инсульта, ожирение, обезвоживание, различные виды инфекции, сепсис, беременность и роды, прием оральных контрацептивов, травма конечностей и оперативные вмешательства в зоне прохождения венозных стволов [17, 18, 19].
Самой распространенной причиной ТПВ нижних конечностей является ВБВНК, приводящая к нарушению венозной гемодинамики и дистрофическим изменениям в стенках вен. Варикозная трансформация вен, недостаточность их клапанного аппарата приводят к появлению турбулентного характера тока крови по измененным венам, а развивающиеся повреждения интимы венозного сосуда на фоне персистирующего воспалительного процесса создают условия для тромбообразования. При ВБВНК присутствуют два фактора тромбообразования из классической триады Вирхова: замедление скорости кровотока и нарушение целостности сосудистой стенки. Третий фактор триады Вирхова: повышенная свертываемость крови — может приводить к развитию тромботического процесса как в поверхностных, так и в глубоких венах. Гиперкоагуляционные состояния развиваются вследствие различных приобретенных и врожденных факторов [2, 10, 19].
Одной из серьезных причин развития ТГВ являются хирургические вмешательства, при которых отмечаются нарушение сосудистой стенки и выброс большого количества тканевого фактора в кровоток [11].
Повышение свертывающего потенциала крови возникает при применении ряда фармакологических препаратов. Например, прием оральных контрацептивов увеличивает риск развития венозного тромбоза в 5 раз [11, 12, 16].
Венозные тромбозы часто развиваются у больных cо злокачественными новообразованиями. В 1865 г. Armand Trousseau установил, что злокачественная опухоль способствует специфической предрасположенности крови больного к гиперкоагуляции даже при отсутствии воспалительных изменений. Онкологические заболевания повышают риск венозных тромбозов в 4–7 раз [20]. Риск ТПВ значительно возрастает при увеличении индекса массы тела [21]. Гиперкоагуляция возникает у пациентов с антифосфолипидным синдромом. Антитела к фосфолипидам выявляются у 3% пациентов, перенесших эпизод венозного тромбоза [22].
Большое значение в патогенезе венозного тромбоза имеют наследственные тромбофилии. Данные о тромбофилии впервые опубликованы в 1965 г. О. Эгеберг описал семью, в которой было выявлено снижение уровня антитромбина III в плазме крови. Дж. Гриффин наблюдал пациентов с дефицитом протеина С, который инактивирует факторы Va, VIIIa и активирует фибринолиз [23]. В 1984 г. Ч. Эсмон и П. Компо описали предрасположенность к тромбозам у пациентов с дефицитом протеина S, являющегося кофактором протеина С [24]. В 1993 г. Дальбек выявил неспособность крови пациента реагировать на активированный протеин С в результате генетического дефекта. В дальнейшем эта мутация получила название «болезнь фактора V Лейден» [25]. Наиболее часто встречаемыми наследственными факторами тромбофилии выступают мутация фактора V, или «лейденская мутация» (4-5%); дефицит протеина С (0,2-0,4%); дефицит протеина S (0,2%); дефицит антитромбина III (0,02%) [25, 26]. Лейденскую мутацию (V фактор) выявляют у 22,4% пациентов с ТПВ, мутацию II фактора G2021OA у 8,4%. У больных ТПВ наряду с лейденской и протромбиновой G20210A мутациями нередко выявляют дефициты антитромбина, кофактора гепарина 2, протеинов С и S, а также наличие волчаночного антикоагулянта, антител к антикардиолипину и сниженную фибринолитическую активность крови [26]. Часто ТПВ развивается на фоне аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка, васкулиты, болезни Бехчета и Бюргера. В частности, при болезни Бехчета ТПВ выявляется у 53,3% больных, а ТГВ у 29,8% [27]. Острый ТПВ сопровождается изменениями в работе свертывающей и фибринолитической системы, имеющими связь с эндотелиальной дисфункцией [27].
Исследования последних лет показали значение недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) в патогенезе ТПВ. НДСТ является нарушением развития в эмбриональном и постнатальном периодах вследствие генетически измененного фибриллогенеза внеклеточного матрикса [28]. Сосуды, кожа и ее производные, опорно-двигательный аппарат, лицевой череп имеют общность мезенхимального происхождения, в связи с чем морфогенетические отклонения от нормы характерны для всех дериватов соединительнотканного матрикса данного организма, включая вены нижних конечностей [28;
29]. НДСТ имеет фенотипические проявления врожденной патологии соединительной ткани. По своей сути это предикторы функциональной и органической патологии, что делает возможным прогнозирование развития заболеваний, включая варикозную болезнь вен нижних конечностей и ее осложнения [28]. Авторы предполагают, что анализ совокупности фенотипических признаков, характеризующих НДСТ, может быть основой для разработки экспертной системы оценки индивидуальных особенностей патогенеза ВБВНК и ТПВ для прогнозирования вариантов их клинического течения [28, 29].
В целом тромботические поражения поверхностных и глубоких вен нижних конечностей имеют единые патогенетические механизмы, что является основанием для объединения подходов к диагностике и выбору тактики лечения [2, 10, 30].
Клиническая картина тромбоза поверхностных вен нижних конечностей . ТПВ является самым распространенным острым заболеванием сосудов, с которым в той или иной степени встречается врач любой клинической специальности. Клиническая картина ТПВ зависит от объема поражения. Ведущим клиническим синдромом ТПВ является воспаление, которое проявляется гиперемией, инфильтрацией и отеком мягких тканей над пораженной веной. У большинства больных отмечается выраженный болевой синдром. Чем значительней зона тромбоза, тем более значительны болевые ощущения в конечности, что вынуждает пациента ограничить ее движение. Часто отмечается повышение температуры тела до 38–39°С с ознобом. При локализации тромба в МПВ местные проявления выражены в меньшей степени, чем при поражении ствола БПВ, что обусловлено особенностями анатомии. Поверхностный листок собственной фасции голени, покрывающий вену, препятствует переходу воспалительного процесса на окружающие ткани [2, 4].
Несмотря на яркую клиническую картину ТПВ у большинства больных, нельзя не согласиться с мнением профессора П. Г. Швальба (2010), утверждавшего, что сложности диагностики ТПВ связаны с непрогнозируемостью его клинического течения [10]. В настоящее время отсутствуют критерии, позволяющие прогнозировать варианты клинического течения ТПВ с учетом индивидуальных особенностей патогенеза заболевания [28]. Более чем у 30% больных истинная граница тромба распространяется на 15–20 см выше клинически определяемых признаков [2, 4, 7, 10]. Тромб в БПВ имеет тенденцию к росту. Скорость нарастания тромбоза может достигать 20 см и более в сутки. Распространение тромба на глубокие вены далеко не всегда определяется клинически. В настоящее время нет четких клинических критериев, фиксирующих момент перехода тромба на глубокие вены. Для определения истинной проксимальной границы тромбоза необходимо применение инструментальных методов диагностики, в частности ультразвукового сканирования вен [7, 29, 34, 35].
Клиническое течение ТПВ имеет два варианта развития [9, 10, 32, 33]. Первый из них наиболее благоприятный: когда спонтанно или в результате проводимого лечения прогрессирование тромбооб-разования прекращается, уровень тромботического поражения БПВ не повышается, местные клинические проявления воспаления быстро купируются, начинается процесс организации тромба с последующей реканализацией [2, 33, 34]. Однако возможен и другой, крайне неблагоприятный и чрезвычайно опасный вариант клинического течения ТПВ: когда отмечается восходящий характер тромботического поражения БПВ, формируется флотация тромботических масс в ее просвете, тромб распространяется до остиального клапана и даже переходит на глубокую венозную систему конечности, возникает реальная угроза тромбоэмболии легочной артерии [33, 35, 36]. Особенностью клинического течения ТПВ является склонность его к рецидивам, которые возникают более чем у 40% больных [33]. Наличие НДСТ является фактором риска рецидива ТПВ [29]. Распространение тромбоза до верхней трети бедра и выше имеется у 33,3% больных ТПВ [35, 36]. Тромбоз БПВ более чем у 25% больных ТПВ носит флотирующий характер. В процессе хирургического вмешательства приходится выполнять тромбэктомию из сафенофе-морального соустья — чрезвычайно опасную манипуляцию, сопряженную с риском ТЭЛА [2, 4, 32]. Эмбологенно опасная форма ТПВ наблюдается при локализации тромботического процесса не только на бедре, как это считали до недавнего времени, но и на всем протяжении БПВ [35].
В целом главной опасностью клинического течения ТПВ является угроза развития ТЭЛА, источником которой может быть флотирующий тромб из системы малой или большой подкожной вены, а также вторично возникший ТГВ нижних конечностей [18, 36, 38, 48].
Диагностика тромбоза поверхностных вен нижних конечностей. Основная роль в диагностике ТПВ в настоящее время отводится неотложной и качественной топической диагностике, основанной на ультразвуковом сканировании вен с цветовым кодированием кровотока. Исследование может проводиться в нескольких проекциях в динамике, что значительно повышает его диагностическую ценность [33–35]. Вместе с тем вряд ли следует идеализировать дуплексное сканирование вен, относить ультразвуковые методики в некоему «золотому стандарту» диагностики ТПВ, поскольку, несмотря на высокую чувствительность 63% и специфичность 88%, ультразвуковая диагностика далека от идеала и имеет существенные субъективные ограничения, зависящие от квалификации специалиста [1, 33, 34]. В настоящее время не разработаны однозначные эхографические характеристики венозных тромбозов, четко не определены ультразвуковые критерии их эмболо-опасности. Существуют различные мнения относительно надежности диагностики флотирующих тромбов, а также применимости данной терминологии к характеристике тромба, располагающегося в подкожных венах. Не разработаны достоверные ультразвуковые критерии трансформации тромботических масс в динамике, особенно флотирующих тромбов [33, 34, 36]. На сегодняшний день нет критериев, позволяющих четко определить степень активности тромбообразования и, следовательно, установить опасность ТЭЛА, а соответственно, тактику лечения. Крайне сложно оценить характер течения ТПВ на основании дуплексного сканирования вен, поскольку при дуплексном сканировании вен «свежие» тромбы на стадии формирования попросту не визуализируются [1, 33, 35]. Во время проведения исследования в В-режиме используется методика периодической компрессии. При этом отмечается полное сжимание непораженной и отсутствие компрессии пораженной тромбом вены. Однако в случае присутствия «свежего», мягкого тромба в просвете вены проба с компрессией будет иметь ложноотрицательный характер. В этом случае необходимо дополнительное использование режима цветового допплеровского кодирования для определения наличия кровотока в исследуемой вене [33–35].
Сегодня известны лишь единичные исследования, посвященные ультразвуковому мониторингу проксимальной границе тромба, для своевременной диагностики их эмбологенной опасности [34]. Дуплексное сканирование вен целесообразно проводить в динамике, однако сроки проведения не определены. Обосновывается необходимость динамического ультразвукового исследования вен нижних конечностей при ТПВ через сутки, семь суток с момента поступления для контроля прогрессирования тромбообразования, независимо от клинических проявлений заболевания [35]. По мнению одних авторов, это позволяет своевременно выполнить операцию и предотвратить риск развития ТЭЛА [35]. В динамике рекомендуется исследовать не только поверхностные вены пораженной конечности, но также глубокие и перфорантные вены обеих конечностей [3, 7, 33–35]. По мнению других исследователей, частоту проведения динамического ангиосканирования вен нижних конечностей следует проводить на основании индивидуальных критериев прогнозирования вариантов клинического течения ТПВ. В качестве критериев для прогнозирования предлагаются фенотипические признаки, характеризующие недифференцированную дисплазию соединительной ткани [28, 29].
В настоящее время очевидно, что ультразвуковое ангиосканирование вен занимает ведущие позиции в диагностике ТПВ и определении тактики лечения [2, 33], однако, учитывая известные недостатки, методики дуплексного сканирования вен требуют дальнейшей научной разработки и совершенствования [1, 33].
Стремительное развитие ультразвуковых методов диагностики венозного тромбоза существенно сузило показания для флебографических исследований. Необходимость флебографии возникает лишь в тех случаях, когда результаты дуплексного сканирования сомнительны. При этом следует подчеркнуть, что чувствительность и специфичность флебографического исследования сопоставимы с дуплексным сканированием вен [1–3].
Роль лабораторной диагностики при ТПВ невелика. Маркеры тромбообразования (D-димер, растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК), тромбин-антитромбиновый комплекс, фибринопеп-тид А) не позволяют определить уровень ТПВ и оценить вероятность ТЭЛА. Данные показатели не являются специфичными, поскольку РФМК и D-димер повышаются также в случае ряда инфекционных процессов, при системных заболеваниях соединительной ткани, беременности и т.д. [16, 36].
Определением проксимальной границы и эмбологенных форм восходящего характера ТПВ не решаются все проблемы, связанные с диагностикой и выбором тактики лечения. Многообразие форм ТПВ, конечно, связано с многообразием форм ВБВНК, на фоне которой он развивается, являясь ее осложнением. Прогнозирование вариантов клинического течения варикозной болезни и ТПВ, безусловно, является краеугольным камнем для определения тактики лечения [29]. В связи с этим представляют интерес исследования ряда авторов, которые предлагают для прогнозирования индивидуальных особенностей клинического течения варикозной болезни и ТПВ проводить анализ фенотипических признаков, характеризующих НДСТ [28, 29, 34]. Показана возможность создания на осно- вании анализа фенотипических признаков дисплазии экспертной системы для прогнозирования клинического течения варикозной болезни и ТПВ [28]. Особое значение для выбора тактики лечения больного ТПВ имеет ранняя диагностика процесса с помощью ультразвуковых методов, что сопряжено с нерешенными проблемами организации круглосуточной ультразвуковой службы в ряде стационаров и поликлиник [10]. Ранняя диагностика ТПВ особенно актуальна, так как эмболоопасные тромбы чаще образуются при отсутствии адекватного лечения именно в ранние сроки заболевания [11, 16].
Выбор тактики лечения больных с тромбозом поверхностных вен. Для успешного лечения больного с ТПВ необходимо: 1) предотвратить распространение тромбоза на глубокие вены; 2) купировать воспалительные явления в стенках вены и окружающих тканях; 3) исключить рецидив тромбоза варикозно расширенных вен [36].
При выборе тактики лечения пациента с ТПВ прежде всего учитывают восходящий характер тромбо-образования с угрозой перехода тромбоза в глубокую венозную систему и развитием ТЭЛА, а также распространенность воспалительно-тромботических изменений в подкожных венах. Наибольшую опасность представляет локализация тромба в сафенофемо-ральном или сафенопоплитеальном соустьях. В этих случаях прибегают к высокому лигированию магистральной вены. В остальных случаях используют системную антикоагулянтную и противовоспалительную терапию с использованием профилактических доз антикоагулянтов [2, 3, 7, 36–38]. На сегодняшний день нет единого мнения по вопросу выбора тактики лечения больного ТПВ [1, 36]. Существуют два принципиально отличающихся подхода к решению данной проблемы: консервативный и хирургический. Сторонники первого подхода считают, что лечения больных ТПВ должно быть преимущественно консервативным с использованием антикоагулянтных, противовоспалительных и флеботропных средств [36, 37, 39]. Прибегать к хирургическому лечению рекомендуют только при распространении тромба до уровня сафенофеморального или сафенопопли-теального соустья [36, 37]. Однако при определении объема консервативной терапии, а также критериев ее эффективности высказываются различные мнения. Основные принципы лечения больных ТПВ являются общими как для консервативного, так и для оперативного лечения: воздействие на очаг воспаления, предупреждение перехода тромба на глубокие вены, профилактика рецидива ТПВ [7, 11]. Консервативное лечение показано большинству больных с тромбозом БПВ ниже коленного сустава [37]. Эффективное и быстрое лечение ТПВ определяет необходимость комплекса мероприятий, включающих компрессионную, системную и местную терапию, а также режим рациональной физической активности и локальную гипотермию. Компрессионная терапия с использованием бандажей, эластичных чулок 2-го класса ускоряет кровоток в поверхностных и глубоких венах, тем самым препятствуя росту тромба. Кроме того, компрессия оказывает обезболивающее действие [11]. При ТПВ адекватная компрессионная терапия препятствует реканализации и способствует фиброзной инволюции варикозной вены [36]. Системная терапия подразумевает использование различных антикоагулянтных препаратов [36–38]. У пациентов с ТПВ целесообразно применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).
Их применение возможно как в виде инъекций, таблетированных форм, так и местно в виде различных мазей и гелей [8, 10]. Средняя длительность проведения противовоспалительной терапии у пациентов c ТПВ составляет 7–10 суток. Известно пять рандомизированных клинических исследований (РКИ), в которых оценивалась эффективность НПВС при ТПВ. Показано, что НПВС в сравнении с плацебо достоверно снижают на 67% риск прогрессирования тромба и рецидива ТПВ, при этом применение НПВС не предупреждает развитие ТЭЛА [11]. В целях снижения проницаемости венозной стенки, увеличения ее эластичности и уменьшения отека у пациентов с ТПВ целесообразно применение венотоников. Наибольшей доказательной базой в настоящее время располагает микронизированный диосмин [1, 2, 11, 16, 38].
Ключевое значение в комплексе консервативной терапии имеет назначение антикоагулянтов. Сегодня нет единого мнения, какие препараты и в какой дозировке для этого следует использовать. Схема антикоагулянтной терапии у больных ТПВ однозначно не определена. Несмотря на то что доказано патогенетическое единство ТПВ и ТГВ, рекомендуемая антикоагулянтная терапия различается [16, 38]. Низкомолекулярные гепарины (НМГ) прочно заняли нишу профилактики и лечения тромбозов в практике интенсивной терапии благодаря их общепризнанным преимуществам, к числу которых относятся: 1) удобство назначения; 2) отсутствие необходимости в лабораторном мониторинге в большинстве случаев; 3) относительная безопасность [16, 37, 45]. В РКИ доказано, что при ТПВ специфическая антикоагулянтная терапия НМГ как в профилактической, так и в лечебной дозировке эффективна. Вместе с тем исследование не дает ответа на вопрос о продолжительности антикоагулянтной терапии [37, 43]. В ряде РКИ показано, что назначение НМГ в профилактической и лечебной дозах сроком на 1 месяц пациентам с ТПВ снижает риск развития ТГВ, а также ТЭЛА и рецидива ТПВ до 2,5% против 30% у больных из группы плацебо. При этом значимых различий эффективности между профилактическими и лечебными дозами НМГ зафиксировано не было [41]. В настоящее время для лечения ТПВ с позиции эффективности предотвращения ТГВ и ТЭЛА наибольшей доказательной базой обладает синтетический пентасахарид фондапаринукс [43–45].
Применение НМГ превратилось в повседневную рутину и часто остается за рамками размышлений клиницистов. Вместе с тем эта группа препаратов не совсем однородна, эффективность НМГ не всегда очевидна, а кроме того, появляются их «фармакологические конкуренты», которые могут применяться длительно для профилактики тромбозов без лабораторного контроля, так называемые новые оральные антикоагулянты [38–41, 47].
Проводятся исследования эффективности и безопасности применения ривароксабана у больных с ТПВ [40, 41]. Однако в настоящее время не рекомендуется применение новых оральных антикоагулянтов (дабигатран, ривароксабан) у пациентов с ТПВ нижних конечностей ввиду отсутствия доказательств эффективности и безопасности этих препаратов, подтвержденных клиническими испытаниями [42, 47]. Согласно Российским клиническим рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений антикоагулянтную терапию необходимо применять в лечении пациентов со спонтанным ТПВ вен нижних конечностей [42].
Препаратами выбора лечения таких пациентов являются фондапаринукс или низкомолекулярные гепарины, применяемые в профилактических или промежуточных дозах (50-75% от лечебной). Длительность применения может составлять до полутора месяцев. [16]. Применение антибактериальных препаратов у пациентов с ТПВ в настоящее время признано нецелесообразным, что связано с асептическим характером процесса [2, 3]. Антибиотики назначают в случаях наличия сопутствующей инфекции или при септическом ТПВ [16, 42].
Следует подчеркнуть, что консервативная терапия далеко не всегда останавливает процесс тром-бообразования. Несмотря на антикоагулянтную терапию, у 14,3% тромбоз из сафенофеморального соустья распространился на бедренную вену [45]. После лечения антикоагулянтами частота рецидива ТПВ составляет от 7,5 до 20% [43].
Хирургическое лечение тромбоза поверхностных вен нижних конечностей. Согласно современным рекомендациям при восходящем тромбозе БПВ без тромботического поражения малой подкожной, глубоких и перфорантных вен конечности для предотвращения ТЭЛА достаточно выполнить операцию Троянова — Тренделенбурга [48] с приустьевым лигированием коллатеральных вен, чаще такую операцию называют кроссэктомией [42]. В отдаленном периоде, после купирования острого воспаления, рекомендуется произвести второй этап хирургического лечения больного — флебэктомию [16, 42]. Воспаление поверхностной вены обычно купируется через 2–6 недель. В настоящее время нет четких рекомендаций относительно сроков выполнения флебэктомии после операции Троянова — Трен-деленбурга [2, 3]. Рецидив ТПВ в отдаленные сроки наблюдения развивается почти у 40% больных, что оказывает существенное влияние на тактику хирургического лечения [8]. Кроме того, после перенесенной кроссэктомии по поводу восходящего ТПВ далеко не у всех больных отмечается прогрессирование варикозной болезни [4, 11, 28]. У ряда пациентов операция Троянова — Тренделенбурга предотвращает прогрессирование ВБВНК и флебэктомия не требуется [28]. Анализ литературы не дает оснований утверждать, что кроссэктомия при ТПВ является надежным методом профилактики ТГВ и ТЭЛА [9, 10, 15, 36]. Имеющиеся в мировой литературе сведения позволяют говорить, как минимум, о равной эффективности консервативной терапии с использованием антикоагулянтов и кроссэктомии у пациентов с ТПВ в профилактике ТГВ и ТЭЛА [6, 9, 13, 31]. Вместе с тем говорить о доказанных преимуществах того или иного подхода на сегодняшний день оснований нет [26, 34, 36]. В настоящее время двухэтапное хирургическое лечение ТПВ рекомендуют использовать у больных старших возрастных групп [36]. Сложности при определении сроков для выполнения второго этапа лечения больных после операции Троянова — Трен-деленбурга обусловлены отсутствием критериев, позволяющих прогнозировать варианты клинического течения варикозной болезни и ТПВ в отдаленные сроки наблюдения с учетом индивидуальных особенностей патогенеза и клинического течения заболевания [4, 13, 14, 19, 28]. В ряде работ показано влияние НДСТ на хирургическую тактику у больных с ТПВ после операции Троянова — Тренделенбурга [25–28].
При двухэтапной тактике хирургического лечения ТПВ сохраняется риск распространения тромботического процесса на глубокие вены через сафенопо- плитеальное соустье, а также перфорантные вены с угрозой ТЭЛА [10, 15], что является обоснованием для рекомендации одноэтапного хирургического лечения — флебэктомии в условиях острого воспаления тканей конечности [15, 46]. Однако сторонники одноэтапного хирургического лечения больных ТПВ подчеркивают повышенные риски лечения, связанные с травматичностью и длительностью радикального хирургического вмешательство в условиях острого воспаления в тканях конечности у неподготовленного, недостаточно обследованного больного. Выполнять флебэктомию рекомендуется не позже двух недель с момента манифестации воспалительного процесса [36, 46]. В литературе есть сообщения о клинической эффективности пункционной минитромбэктомии из варикозных узлов подкожных вен [4, 42]. Авторы показывают, что мини-флебэктомия у больных с ТПВ дает косметический результат, не уступающий плановой флебэктомии [4, 7]. Вместе с тем очевидно, что хирургическое вмешательство в острую фазу ТПВ нежелательно, в связи с чем далеко не все хирургии разделяют целесообразность выполнения флебэктомии в условиях воспаленных тканей, отдают предпочтение разобщению сафено-феморального или сафенопоплитеального соустья при распространении тромба в БПВ выше средней трети бедра, в малой подкожной вене — выше середины голени, проводят консервативную терапию с обязательным ультразвуковым контролем состояния тромба в динамике. После купирования острого воспаления оценивают показания для плановой флебэк-томии [42].
Заключение. Таким образом, несмотря на бурное развитие доказательной медицины, лечение больных с ТПВ оказалось на обочине научного интереса мировой флебологической и хирургической общественности. Подходы к тактике лечения больных с ТПВ часто эмпирические, в значительной степени определяются традициями клиники, а также индивидуальными предпочтениями хирургов, что, безусловно, не может способствовать поиску правильного решения проблемы. Ранняя диагностика, патогенетически обоснованное лечение и своевременная операция у больных ТПВ в настоящее время являются основой для предотвращения ТЭЛА. Однако до сих пор отсутствуют однозначные теоретические и тактические установки, прежде всего с позиции прогнозирования вариантов клинического течения ТПВ, что требует дальнейшего научного поиска.
Авторский вклад: написание статьи — О. А. Царев, А. Ю. Анисимов, Ф. Г. Прокин, Н. Н. Захаров, А. В. Лобанов, А. А. Сенин; утверждение рукописи для публикации — О. А. Царев.
Список литературы Острый варикотромбофлебит: современное состояние проблемы
- Покровский А. В., Градусов А. В., Бредихин PA. Диагностика и лечение варикозной болезни. М.: РМАПО, 2013; 125 с.
- Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М. Основы клинической флебологии. М.: Шико, 2013; 336 с.
- Кириенко А. И., Матюшенко А. А., Андрияшкин В. В. Острый тромбофлебит. М.: Литтерра, 2006; 108 с.
- Калинин РE., Нарижный M.B., Сучков И. А. Эмболоопасность острого восходящего тромбофлебита поверхностных вен нижних конечностей. Российский медико-биологический вестник им. акад. И. П. Павлова 2011; (2): 126-130
- Сабадош P. В. Роль малой подкожной вены в развитии тромбоза глубоких вен при остром варикотромбофлебите нижних конечностей. Новости хирургии 2014; (2): 184-190
- Galanaud J, Genty С, Sevestre М, et al. Predictive factors for concurrent deep-vein thrombosis and symptomatic venous thromboembolic recurrence in case of superficial venous thrombosis: The OPTIMEV study. Thromb Haemost 2011; 105 (1): 31-39
- Бокерия Л.А., Прядко С. И., Сергеев А. В. Современные тенденции диагностики и лечения варикотром-бофлебита (обзор литературы). Бюл. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания 2008; 9 (6): 64-69
- Савельев B.C., Кириенко A.M., Андрияш-кин В. В. и др. Территория безопасности от венозных тром-боэмболических осложнений: промежуточные итоги второго этапа проекта. Флебология 2013; (4): 4-8
- Frappe Р, Buchmuller-Cordier A, Bertoletti L, et al. Annual diagnosis rate of superficial vein thrombosis of the lower limbs: the lower limbs: the STEPH community - based study. J Tromb Haemost 2014; 1 (6): 831-838
- Швальб П. Г., Бирюков С. А., Сучков И. А., Калинин Р. Е. Специализированная профилактика тромбоэмболии легочной артерии. Рязань: Узорочье, 2010; 118 с.
- Богачев В.Ю., Болдин Б. В., Дже-нина О.В., Лобанов В.Н. Тромбофлебит (тромбоз поверхностных вен): современные стандарты диагностики и лечения. Амбулаторная хирургия 2016; (3-4): 16-23
- Milio G, Siragusa S, Mina С, et al. Superficial venous thrombosis: prevalence of common genetic risk factors and their role on spreading to deep veins. Thromb Res 2008; 12 (3): 194-199
- Wichers IM, Di Nisio M, Buller HR, Middeldorp S. Treatment of superficial vein thrombosis to prevent deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a systematic review. Haematologica 2005; (90): 672-679
- Богачев В.Ю. Диагностика и лечение хронических заболеваний вен: Обзор практического руководства европейского общества сосудистых хирургов. Амбулаторная хирургия 2015; (3-4): 6-11
- Decousus Н, Bertoletti L, Frappe P. Spontaneous acute superficial vein thrombosis of the legs: do we really need to treat? J Thromb Haemost 2015, 13 (Suppl 1): 230-237
- Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений. Флебология 2015; 9 (4): 1-52
- Гаибов А.Д., Садриев O.H., Джуракулов Э.С., Султанов Д. Д. Важнейшие аспекты диагностики и лечения острого варикотромбофлебита. Вестник Авиценны 2016; 3 (68): 95-103
- Manzoli L, De Vito С, Marzuillo С, et al. Oral contraceptives and venous thromboembolism; a systematic review and meta-analisis. Drug Sat 2012; (35): 191-205
- Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, et al. Prevention of venous thromboembolism: The Seventh ACCR Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest 2004; 126 (Suppl 3): 338-400
- Stein P, Beemath A, Olson R, et al. Obesity as a risk factor in venous thromboembolism. Am J Med 2005; 118 (9): 978-980
- Бокарев И.Н., Попова Л. В., Козлова Т. В. Тромбозы и противотромботическая терапия в клинической практике. М.: Мед. информ. агентство, 2009; 512 с.
- Griffin J, Gruder A, Fernandez J. Reevalution of total, free and bound protein S and С and C4b-binding protein levels in plasma anticoagulated with citrate or hirudin. Blood 1992; (79): 3203-3211
- Esmon C, Protein О Progress in Hemostasis and Thrombosis. Spaet TH, ed. Orlando: Grune and Stratton, 1984; vol. 7, p. 25
- Dahlback B, Stenflo J. The protein С anticoagulant system in stamatoyannopoulos: The molecular basis of blood diseases. Philadelphia, PA: Saunders, 1994; p. 599-628
- Whilatch NL, Orfel TL. Thrombophilias: When should we test and how does it help? Semin Respir Crit Care Med 2008; (29): 27-36
- Frappe P, Buchmuller-Cordier A, Bertoletti L, et al. Annual diagnosis rate of superficial vein thrombosis of the lower limbs: the STEPH community based study. J Thromb Haemost 2014; 12 (6): 831-838
- Брюшков А. Ю., Ершов П.В., Серегева Н.А., Богачев В.Ю. О возможной роли эндотелиальной дисфункции в развитии острого венозного тромбоза. Ангиология и сосудистая хирургия 2016; (1): 91-96
- Царев О.А., Анисимов А. Ю., Захаров H.H., Коробов А. В. Хирургическая тактика у больных варикотромбофлебитом с недифференцированной дисплазией соединительной ткани. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; (1): 66-71
- Свистунов А.А., Царев О.А., Маслякова Г. H. Клиническое течение варикозной болезни у больных с различной степенью выраженности дисплазии соединительной ткани. Саратовский научно-медицинский журнал 2009; (5): 261-266
- Черняков А. В. Современные аспекты лечения пациентов с острым тромбофлебитом поверхностных вен нижних конечностей. РМЖ2016; (8): 519-522
- Jeanneret С, Brunner S, Jeanneret С. Superficial venous thrombosis. A review Hautarzt 2012; 63 (8): 609-615
- Werth S, Bauersachs R, Gerlach H. Superficial vein thrombosis treated for 45 days with rivaroxaban versus fondaparinux: rationale and design of the SURPRISE trial. J Thromb Thrombolysis 2016; 42 (2): 197-204
- Чуриков Д.А. Ультразвуковая диагностика болезней вен: руководство для практикующих врачей. М: Литтерра, 2015; 176 с.
- Цуканов Ю.Т., Цуканов А. Ю., Николайчук А. И. Мониторинг состояния проксимальной части тромба при консервативном лечении больных варикотромбофлебитом. Ангиология и сосудистая хирургия 2015; 21 (4): 64-70
- Нузова О. Б., Демин Д. Б., Авченко М.Т. и др. Повышение эффективности диагностики и лечения острого варикотромбофлебита. Оренбургский медицинский вестник 2013; 1 (3): 23-25
- Пустовойт А. А. Сравнительная оценка кроссэктомии и антикоагулянтной терапии в предотвращении осложнений острого восходящего варикотромбофлебита большой подкожной вены: дис.... канд. мед. наук. М., 2014; 100 с.
- Ройтман E.B. Принципы индивидуализации терапии и профилактики венозных тром-боэмболических осложнений. Флебология 2014; 8 (2): 98
- Stebelski L, Brichant J, Pierard L, et al. Perioperative management of direct oral anticoagulants: not much evidence but several different approaches. Rev Med Liege 2014; 69 (12): 671-679
- Van Montfoort ML, Meijers JO Anticoagulation beyond direct thrombin and factor Xa inhibitors: indications for targeting the intrinsic pathway? Thromb Haemost 2013; 110 (2): 223-232
- Счастливцев И. В., Лобастое К. В., Ларионов М.В. и др. Ривароксабан при лечении острого тромбоза поверхностных вен: первый опыт применения. Хирург 2016; (11-12): 73-82
- Finazzi G, Ageno W. Direct oral anticoagulants in rare venous thrombosis. Intern Emerg Med Mar 2016; 11 (2): 167-170
- Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений. Флебология 2015; 9 (4): 1-52
- Кеагоп С, Akl Е, Ornelas J, et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: Chest Guideline and Expert Panel Report. Chest 2016; 149 (2): 315-352
- Werth S, Bauersachs R, Gerlach H, et al. Superficial vein thrombosis treated for 45 days with rivaroxaban versus fondaparinux: rationale and design of the SURPRISE trial. J Thromb Thrombolysis 2016; (42): 197-204
- Кричевский Л. А. Низкомолекулярные гепарины в современной системе управления свертываемостью крови. Доктор.Ру: Анестезиология и реаниматология: Медицинская реабилитация 2015; 15 (116): 42-48
- Макарова Н.П. Тактика и результаты лечения восходящих форм поверхностного тромбофлебита. В сб.: Материалы Пятой конференции ассоциации флеболо-гов России. М., 2004; с. 78-79
- Суховатых Б.О, Середицкий А. В., Мурадян В.Ф. и др. Результаты применения пероральных антикоагулянтов при лечении больных с венозными тромбоэмболическими осложнениями. Ангиология и сосудистая хирургия 2017; 23 (3): 82-87
- Tpoянов А.А. Случай изолированной перевязки большой подкожной вены. Больничная газета Боткина 1891; (3): 73-77.