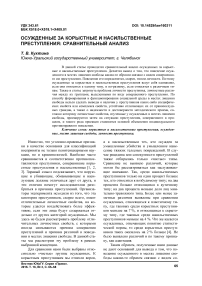Осужденные за корыстные и насильственные преступления: сравнительный анализ
Автор: Кухтина Татьяна Владимировна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Проблемы и вопросы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Статья в выпуске: 3 т.16, 2016 года.
Бесплатный доступ
В данной статье проводится сравнительный анализ осужденных за корыстные и насильственные преступления. Делается вывод о том, что поведение осужденного в местах лишения свободы каким-то образом связано с видом совершенного им преступления. Поведение его определяется, скорее, типом личности. Поэтому осужденные за корыстные и насильственные преступления ведут себя одинаково, если они относятся к одному типу, и по-разному, если относятся к различным типам. Также в статье затронута проблема личности преступника, личностные различия между их группами, выделенными по виду совершенного преступления. По способу формирования и функционирования социальной среды в местах лишения свободы нельзя сделать выводы о наличии у преступников каких-либо специфических свойств или комплекса свойств, устойчиво отличающих их от правопослушных граждан, а также о надежности и достоверности методического приема, согласно которому личностные свойства, изученные у осужденных в местах лишения свободы, проецируются затем на ситуацию преступления, совершенного в прошлом, и такого рода проекция становится основой объяснения индивидуального противоправного поведения.
Корыстные и насильственные преступления, осужденные, место лишения свободы, личность преступника
Короткий адрес: https://sciup.org/147150092
IDR: 147150092 | УДК: 343.61 | DOI: 10.14529/law160311
Текст научной статьи Осужденные за корыстные и насильственные преступления: сравнительный анализ
Известно, что уголовно-правовые признаки в качестве основания для классификаций восприняты не только пенитенциарными науками, но и криминологией. Наиболее часто сравниваются и соответственно противопоставляются преступники, совершившие корыстные преступления и насильственные [1, 2, 3]. Здравый смысл подсказывает, что ворующие и убивающие, обманывающие и насилующие должны отличаться друг от друга, и эти отличия помогут исследователям разобраться в причинах преступлений. Организаторы эксперимента исходили из того, что эта категория преступников, скорее всего, имеет отличительные личностные свойства, на которые удастся воздействовать более эффективно, если эти лица будут содержаться отдельно от других категорий осужденных. Мы здесь не будем рассматривать проблему отличительных личностных свойств, с которыми иногда связываются причина совершения преступлений и причина различий в поведении в местах лишения свободы. В данной статье мы рассмотрим эту проблему в рамках выбранной концепции.
Для сравнения нами были выбраны относительно «чистые» группы осужденных. К корыстным преступникам мы отнесли воров, Вестник ЮУрГУ. Серия «Право».
2016. Т. 16, № 3, С. 65–68
а к насильственным тех, кто осужден за умышленные убийства и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. В случае рецидива или совокупности преступлений также отбирались только «чистые» типы. Сравнение не выявило различий, которые могли бы рассматриваться как заслуживающие внимание. Так, среди насильственных преступников только на один процент больше тех, кто относится к возбудимому типу; на два процента больше относящихся к аутичному типу; на два процента меньше доля лиц мнительно-тревожного типа. Более или менее заметные различия выявлены при сравнении осужденных, относящихся к пластичному типу, где таковых среди корыстных преступников меньше на 7 %, и относящихся к скрытому типу, где таковых среди насильственных преступников меньше на 4 %. Что же касается осужденных, отвечающих понятию статистической нормы, то среди корыстных преступников таких оказалось на 2 % больше [4]. Не было выявлено различий и по такому признаку, как адаптация.
Таким образом, полученные нами данные не дают оснований для вывода о том, что поведение осужденного в местах лишения свободы каким-то образом связано с видом со- вершенного им преступления. Поведение его определяется, скорее, типом личности. Поэтому осужденные за корыстные и насильственные преступления ведут себя одинаково, если они относятся к одному типу, и по-разному, если относятся к различным типам. Разумеется, что говоря о типе, мы имеем в виду не только характер акцентуации, но и совокупность взаимосвязанных признаков. В этой связи необходимо учитывать то обстоятельство, что воры относительно чаще по сравнению с насильственными преступниками принадлежат к «отрицательным» и реже к «отверженным». Это, по-видимому, объясняется тем, что они в среднем имеют больше судимостей. До осуждения, как правило, были знакомы с ранее судимыми к лишению свободы и пользуются их покровительством, то есть они лучше знают порядки, сложившиеся в местах лишения свободы, и эффективнее используют опыт, связи и т.п.
Сравнительные данные дают возможность для выдвижения и обоснования некоторых предположений. Даже если допустить, что корыстные и насильственные преступники до помещения в места лишения свободы отличались выраженностью личностных свойств, то в условиях мест лишения свободы под влиянием среды эти отличия сгладились. Однако необходимо учитывать две поправки. Первая из них относится к тому, что в случае наличия нескольких судимостей акцентуации уже должны были проявиться и существовать как наличные до нашего исследования. Они, скорее всего, также не должны отличать одну группу от другой, так как и в исследованиях они не являются основанием для различий. Вторая поправка относится к тому, что акцентуированная личность развивается из той, которая отвечает понятию нормы. Однако это не означает того, что акцентуация не имеет в самой личности предрасположенности к ней. Скорее всего (если не считать подростков), это свойство уже существовало, как и сложившиеся способы психологической защиты. Одним словом, вряд ли можно надеяться, что корыстные и насильственные преступники до помещения в места лишения свободы отличались друг от друга характером акцентуированных личностных свойств, чтобы на этом основании судить о каких-то значимых для совершения преступлений различий.
Рассмотренные предположения нужны для того, чтобы мы еще раз затронули проблему личности преступника, личностных различий между их группами, выделенными по виду совершенного преступления. Можно сказать о том, что по способу формирования и функционирования социальной среды в местах лишения свободы нельзя сделать выводы о наличии у преступников каких-либо специфических свойств или комплекса свойств, устойчиво отличающих их от правопослушных граждан, а также о надежности и достоверности методического приема, согласно которому личностные свойства, изученные у осужденных в местах лишения свободы, проецируются затем на ситуацию преступления, совершенного в прошлом, и такого рода проекция становится основой объяснения индивидуального противоправного поведения [5]. Этот тезис подтверждается данными исследований на уровне личности. Причем вводится уточняющий прием: сравниваются две группы преступников. Но и он свидетельствует о том же: вряд ли на личностном уровне существуют различия, значимые для объяснения причин различных видов преступлений. Скорее всего, их надо искать в содержании таких регуляторов поведения личности, которые сформировались в процессе ее социализации и отражают связь личностных свойств психологического порядка с элементами внешней среды, внешнего окружения.
Исследование еще раз подтвердило следующую зависимость: определенные личностные свойства имеют тенденцию к усилению, выраженности в условиях изоляции от общества. Но такого рода зависимость заставляет вернуться к утверждению, высказанному ранее: наличие тех или иных личностных свойств у преобладающего числа осужденных будет свидетельствовать скорее не о качественном отличии личности осужденного от любого другого типа личности, так как индивиды с отмеченными свойствами могут встречаться везде, а о качественном отличии среды мест лишения свободы, поскольку индивидов с отмеченными свойствами здесь больше, и о прерогативе в воздействии среды на личностные свойства осужденных, так как индивиды, отличающиеся друг от друга рядом признаков (признаки социальной структуры, признаки совершенного преступления и пр.), не отличаются ни характером, ни структурой распределения личностных свойств по группам.
Кухтина Т. В.
Конкретные данные свидетельствуют о том, что в местах лишения свободы какие-то типы встречаются чаще, а какие-то реже. Но и эти данные вряд ли можно интерпретировать в пользу понятия «личность осужденного» как определенного личностного типа. Можно, конечно, предположить, что при сложившейся ситуации в обществе, отличающейся определенным нормативным и правовым порядком, у каких-то психологических типов, живущих в примерно одинаковых условиях и принадлежащих к одинаковым социальным группам, существует большая вероятность создать конфликтную ситуацию или оказаться в ней и совершить правонарушение. В то же время вполне допустимо предположение о том, что при изменении социальной ситуации в обществе та же самая вероятность может возрасти для индивидов другого типа.
Список литературы Осужденные за корыстные и насильственные преступления: сравнительный анализ
- Алимов, С. Б. Личность преступника/С. Б. Алимов, Н. Н. Кондрашков, В. Н. Кудрявцев, Н. С. Лейкина и др. -М.: Юрид. лит., 1971. -356 c.
- Питерцев, С. К. О понятии, содержании и структуре типологии преступников/С. К. Питерцев//Методологические проблемы учения о личности преступника. Тезисы выступлений. -Горький, 1976. -С. 34-36.
- Личность преступника как объект психологического исследования: сборник научных трудов Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности/отв. ред. А. Р. Ратинов и др. -М., 1979. -178 с.
- URL: http://www.crimestat.ru/.
- Хохряков, Г. Ф. Социальная среда и личность. Значение элементов социальной среды в процессе достижения целей исполнения наказания, исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ/Г. Ф. Хохряков. -М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1982. -88 с.