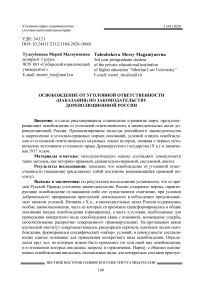Освобождение от уголовной ответственности (наказания) по законодательству дореволюционной России
Автор: Тулеубекова Мерей Магауияевна
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право
Статья в выпуске: 3 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение: в статье рассматривается становление и развитие норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности, в законодательных актах дореволюционной России. Проанализированы подходы российского законодательства к закреплению в уголовно-правовых нормах оснований, условий и видов освобождения от уголовной ответственности на разных этапах истории, начиная с первых исторических источников уголовного права Древнерусского государства (X в.) и заканчивая 1917 годом. Материалы и методы: методологическую основу составляют совокупности таких методов, как историко-правовой, сравнительно-правовой, системный, анализ. Результаты исследования: показано, что освобождение от уголовной ответственности (наказания) представляет собой постоянно развивающийся правовой институт. Выводы и заключения: по результатам исследования установлено, что со времен Русской Правды уголовное законодательство России содержало нормы, гарантирующие освобождение от наказания либо его существенное смягчение, при условии добровольного прекращения преступной деятельности и соблюдении предписываемых законом условий. Начиная с Х в., в законодательных актах России содержались особые законоположения, часть из которых со временем трансформировалась в общие основания (виды) освобождения (примирение), а часть в условия, необходимые для применения конкретного вида освобождения (явка с повинной, возмещение ущерба, способствование раскрытию совершенного правонарушения). На протяжении веков изучаемый институт совершенствовался, расширялся перечень основных видов освобождения, формировался специфический «набор» условий, в совокупности составляющих единое основание для применения конкретного вида освобождения. Определялся круг дел, по которым можно было применять тот или иной вид освобождения, и в отношении которых вводились запреты и ограничения. Наряду с общими основаниями освобождения вводились специальные виды для конкретных составов преступлений, которые могли применяться в тех ситуациях, когда отсутствовали основания для применения общих норм.
Уголовное законодательство, освобождение от наказания: институт освобождения от уголовной ответственности, условия освобождения от уголовной ответственности, позитивное послепреступное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/143173221
IDR: 143173221 | УДК: 343.21 | DOI: 10.24411/2312-3184-2020-10061
Текст научной статьи Освобождение от уголовной ответственности (наказания) по законодательству дореволюционной России
Одной из функций, возлагаемых на уголовный закон, является предупреждение совершения преступлений. Для этого принимаются специальные социально-обусловленные уголовные нормы, призванные оказывать превентивное воздействие на потенциальных правонарушителей. В то же время в нормах уголовного законодательства предусматриваются и специальные формы воздействия на лиц, уже совершивших преступные деяния, но решивших встать на путь исправления, помогающие им с выбором предпочтительных для государства и общества вариантов поведения. И, как далее будет показано, эти нормы появились уже в первых исторических источниках уголовного права Древнерусского государства.
Законодательство Древней Руси об освобождении от уголовной ответственности (наказания). Предваряя рассмотрение вопроса, отметим, что в тексте российского уголовного законодательства вплоть до 20 годов XX в. не применялось понятие «освобождение от уголовной ответственности», а говорилось об отмене или смягчении наказания либо указывались обстоятельства «устраняющие наказуемость» деяния. Это было обусловлено тем, что в законодательстве дореволюционной России институты уголовной ответственности и наказания еще не были между собой разделены, и, соответственно, не проводилось различий между освобождением от наказания и освобождением от ответственности.
Анализ исторических источников уголовного права показывает, что отечественное законодательство еще с древних времен содержало в себе нормы, гарантирующие освобождение лиц, совершивших преступные посягательства, от наказания либо его существенное смягчение, в том случае если они добровольно прекратят свою преступную деятельность и изберут предпочтительные варианты положительного поведения. В литературе деятельность лица, которую оно осуществляет после совершения преступного деяния, принято называть послепреступным (постпреступным), либо посткриминальным поведением [8, с. 146]. Положительное после преступное поведение лица, направленное на уменьшение последствий, причиненных преступлением (например, возмещение нанесенного ущерба), способствование раскрытию, расследованию совершённого преступного деяния и т. п., составляет содержание такого института уголовного права, как деятельное раскаяние.
Уже Русская Правда — первый законодательный памятник Древнерусского государства (принятый в X в.) — содержала в себе ряд норм, указывающих на возможность освобождения лица, совершившего преступление, от наказания в связи с его раскаянием. В частности, в соответствии с положениями этого закона лицо, допустившее растрату товара, освобождалось от наказания в случае уплаты его стоимости владельцу, а в отношении дел о воровстве было установлено: «кто, не будучи задерживаемым, сам приносил владельцу похищенное..., не подвергался никакой ответственности» [11, с. 57].
Русская Правда также закрепляла возможность для примирения между сторонами конфликта. Так, лицо виновное, в причинении смерти другому лицу, наказывалось уплатой штрафа (виры), а также привлекалось к головничеству — т. е. возме- щению ущерба родственникам убитого [6, с. 35]. Закрепление данного положения было обусловлено тем, что одной из основных целей ответственности являлось возмещение вреда, причиненного преступлением. Родственникам, членам семьи убитого, было важно получить возмещение материального и морального ущерба, и именно примирение виновного с ними способствовало возмещению этого ущерба. Примирение сторон с последующим возмещением членам семьи убитого причиненного ущерба могло свидетельствовать о деятельном раскаянии лица, совершившего преступление, поэтому родственники убитого, принимая от убийцы плату, примирялись с ними, отказываясь от кровной мести. Для того исторического периода было характерно с целью примирения конфликтующих сторон прибегать к посредничеству, поэтому для урегулирования конфликтов часто привлекались авторитетные представители общественности.
Возможности для примирения были предусмотрены и в последующих историко-правовых документах, в частности в отдельных нормах Псковской судной грамоты. Так, ст. 80 этого документа предусматривала положение, в соответствии с которым в случае драки было возможно разрешить дело миром: «промеж себе прощение возьмут» [11, с. 332]. Следует иметь в виду, что уже в тот исторический период времени круг дел, по которым можно было завершить конфликт посредством примирения сторон, подлежал ограничению. Как отмечает Н. Ефремова, «примирение по так называемым лихим делам не допускалось » [6, с. 37] .
Положения о примирении сторон содержатся и в тексте Соборного уложения, принятого в 1649 году во время царствования Алексея Михайловича. Так, в ст. 154 этого документа был установлен запрет для повторного пересмотра дела, который был завершен в результате примирения сторон, предусматривая в отношении лица, которое внесет повторный иск, применение телесных наказаний: «бить батоги» [12, с. 116]. В соответствии с положениями этого Уложения, примирение исключалось с «лихим человеком» (рецидивистом) совершавшим «лихое дело», т. е. преступление, входящее в категорию тяжких — душегубство, разбой, иные деяния, посягающие на установленный государством порядок.
Законодательство Российской империи об освобождении от уголовной ответственности (наказания). В законодательстве, которое было принято в правление Петра I, примирение уже не освобождало лицо, совершившее преступное деяние, от наказания, а только выступало в качестве смягчающего обстоятельства. Так, в частности, ст. 170 Артикула воинского, принятого 1715 году, закрепляла следующее: «Ежели невинной супруг за прелюбодеющую супругу просить будет и с нею поми-ритца ... то мочно наказание умалить» [13, с. 360]. При этом примирение было возможно только за деяния, дела по которым возбуждались на основании заявления, поданного частным лицом. В эту категорию дел, в частности, входили деяния, совершенные против семьи и нравственности, против чести и достоинства и т. п.
В военно-уголовных законах Петра I также имеются нормы, содержащие положения, освобождающие виновного от наказания, либо смягчающие его, в случае наличия у него конкретного позитивного послепреступного поведения. При этом в некоторых нормах имеются положения, характерные для современных специальных оснований освобождения от уголовной ответственности. Так, в артикуле 96, регламентирующем ответственность за дезертирство из воинской части, закреплялось правило, согласно которому, если после побега виновный раскается в содеянном и добровольно явится в полк, то самое суровое наказание в отношении него не должно использоваться: «оный живота лишен не имеет быть», а «по рассмотрению, шпицрутенами или иным каким наказанием наказать подобает» [13, с. 374]. По мнению А. Г. Антонова: «Эта норма не стимулировала возвращения беглых солдат, так как приведенные положения не исключали наказуемости» [4, с. 97]. В то же время в тот исторический период нередко дезертиры освобождались от наказания в случае их раскаяния после побега и добровольной явки в воинскую часть на основании специальных указов и манифестов [13, с. 374].
Отметим, что почти аналогичные положения чуть позже были закреплены в ст. 65 Морского устава, принятого в 1720 году [7, с. 328]. В этих нормах можно увидеть предпосылки формирования положений, содержащихся в примечаниях к ст. 337 и 338 действующего УК РФ[1].
Военно-уголовные законы Петра I предусматривали и другие обстоятельства, позволяющие судье освободить виновного в совершении преступления от наказания либо значительно смягчить его. Так, в ч. 3 артикула 195 закреплялось следующее установление: «Наказание воровства обыкновенно умаляется или весьма оставляется, ежели кто из крайней голодной нужды (которую он доказать имеет) съестное или питейное, или иное что невеликой цены украдет, <...> или вор будет младенец, которых дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны быть» [5, с. 51]. Как видно, в данном конкретном случае такими обстоятельствами признаются — совершение деяния (кражи) вследствие «крайней голодной нужды», а также несовершеннолетие преступника («вор будет младенец»).
Дальнейшее развитие исследуемый институт получил в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных (далее — Уложение 1845 года) [2]. Это Уложение, стало основой для всего уголовного законодательства Российской империи, и действовало на её территории (включая и Казахское ханство, окончательное вошедшее в состав империи в 60-х годах XIX в.), вплоть до революционных событий, произошедших в 1917 году. В этом правовом акте впервые в отечественной истории были выделены в отдельной специальной норме так называемые общие виды освобождения от наказания.
Так, в ст. 160, входящей в структуру гл. 4 «О смягчении и отмене наказания», законодатель, помимо ранее известного освобождения «вследствие примирения с обиженным», предусмотрел и два новых: «за смертью преступника» и «вследствие давности» [2, с. 54]. Следует сразу сказать, что эти виды освобождения затем были закреплены в ст. 22 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, разработанного и принятого в 1864 г. в рамках проведения судебной реформы (далее — Устав 1864 года) [14, с. 394].
Условия применения каждого вида были регламентированы в отдельной статье. Так в ст. 161 Уложения 1845 г. закреплялось: «За смертью осужденного, приговор о наказании его сам собой отменяется; но частные, вследствие преступления его, иски и казенные взыскания, за исключением налагаемых в наказание по суду, обращаются на его имущество» [2, с. 54].
Согласно ст. 163 этого нормативного акта «наказание отменяется за давностью» учинения преступления или проступка. При этом давность, как обстоятельство устраняющее применение наказания, имела четыре срока, продолжительность которых определялась в ч. 1 (прошло 10 лет), ч. 2 (прошло 8 лет), ч. 3 (прошло 5 лет), ч. 4 (прошло три года) в зависимости от тяжести совершённого преступного деяния[2, с. 54—55].
Согласно ст. 162 Уложения 1845 г., примирение было возможным, но только до момента исполнения приговора, и лишь по делам, возбужденным по жалобе потерпевшего (частное обвинение), обиженного или оскорбленного через то противозаконное деяние (преступление или проступок). К числу таких деяний относились: письменная клевета, нанесение легких ран, жестокое обращение мужа с женой, прелюбодеяние, неповиновение детей родителям и пр. [6, с. 38]. В этой же норме закреплялся перечень норм (ст. ст. 426, 1998 — 2005, 2007, 2027, 2028, 2040—2042), содержащих составы преступлений, по которым примирение исключалось. В их числе: оскорбление подчиненным своего начальника; насильственное растление девицы, не достигшей 14 лет; изнасилование; изнасилование со смертельным исходом, с растлением; похищение женщины с покушением на изнасилование; похищение девицы с целью обольщения; обольщение несовершеннолетней опекуном, учителем, иным лицом, осуществляющим за ней надзор; незаконное лишение свободы, сопровождающееся истязаниями похищенного; похищение незамужней женщины с целью вступления против ее воли в брак; понуждение через насилие или угрозы такого насилия к вступлению в брак и пр.
В Уложении 1845 года была предусмотрена возможность освобождения от наказания несовершеннолетних преступников в возрасте от 7 до 14 лет. Так, ст. 143 гласила: «Дети, коим более семи, но менее 10 лет от роду, и которые не имеют надлежащего о своих обязанностях разумения, не подвергаются определенному в законах наказанию, но отдаются родителям или благонадежным родственникам для строгого за ними присмотра, исправления и наставления, между прочим и через духовника их или другого священнослужителя. Сие правило распространяется и на имеющих от десяти до четырнадцати лет от роду, когда с достоверностью известно, что преступление учинено ими без разумения» [2, с. 46].
В Уложении 1845 года предусматривались и другие обстоятельства, позволяющие судье освободить виновного от наказания. Так, в ст. 1222 Уложения была предусмотрена возможность освобождения от уголовной наказания родителей и опекунов за допущение детей к прошению милостыни. В соответствии с этой нормой: «Родители или опекуны, допускающие своих или вверенных им детей к прошению милостыни, если не докажут, что были вынуждены к сему особенною или крайнею необходи- мостью, подвергаются за сие аресту на время от трех до семи дней». Из этой нормы следует, что в случае наличия определенных обстоятельств деяние было ненаказуемым. В этой статье Уложения можно увидеть положения, характерные для современного специального основания освобождения от уголовной ответственности, предусмотренного в примечании к ст. 151 УК РФ. Отличие заключается в том, что современный законодатель предусмотрел освобождение от ответственности родителей за вовлечение несовершеннолетнего не в прошение милостыни (по действующему законодательству — занятие попрошайничеством), а в занятие бродяжничеством, если это было обусловлено стечением тяжелых жизненных обстоятельств.
В ст. 559 Уложения (в редакции 1885 года), устанавливающей уголовную ответственность за фальшивомонетничество, так же предусматривалась возможность освобождения от наказания в случае выполнения желательного для государства поведения: «те из соучастников, которые откроют правительству о своих соумышленниках и сами дадут средство их обнаружить и пресечь преступные действия, освобождаются от всякого наказания, а имена их сохраняются в тайне».
В Уложении 1845 г. также был предусмотрен ряд обстоятельств, позволяющих значительно смягчить наказание виновному при наличии у него позитивного послеп-реступного поведения. Так ст. 322 Уложения предусматривала специальное основание для снижения наказания, виновному в составлении подложных указов, определений, постановлений, предписаний и иных официальных бумаг от имени губернских правлений и других судебных и правительственных мест, начальств, общественных учреждений. В силу предписаний это статьи, в случае раскаяния виновного в подлоге, его заблаговременной явки с повинной в преступлении к суду или начальству, и тем самым предупреждения всякого вредного последствия сделанного подлога, наказание ему существенно снижалось. Так, вместо лишения всех прав состояния и ссылки на житье в Томскую или Тобольскую губернию от двух до трех лет либо отдачи в исправительную арестантскую роту на срок от четырех до шести лет виновный наказывался арестом на срок от семи дней до трех недель [2, с. 131—133].
Статья 402 этого Уложения также предусматривала специальное основание для снижения наказания взяткополучателя, в случае его чистосердечного раскаяния. В соответствии с этой нормой, если виновный в злоупотреблении власти, принявший «в дар деньги, вещи или что иное», прежде нарушения своих обязанностей «объявит о том с раскаянием своему начальству», то вместо сурового наказания, ему могло быть назначено одно из следующих дисциплинарных взысканий: исключение со службы, отстранение от должности, строгий выговор, с внесением либо без внесения в послужной список [2, с. 175].
В рассмотренных нормах содержатся положения, стимулирующие виновного на положительное послепреступное поведение (объявит с раскаянием своему начальству, заблаговременно явится с повинной, предупреждение вредного последствия и т. д.), которые сейчас предусмотрены в нормах-примечаниях к отдельным статьям Особенной части действующего УК РФ, закрепляющих специальные основания осво- бождения от уголовной ответственности, содержащие элементы деятельного раскаяния.
Во второй половине ХIХ в. в Российской империи принимались отдельные законодательные акты, в которых, помимо Уложения 1845 года и Устава 1864 года, так же предусматривались специальные нормы, закрепляющие обстоятельства, устраняющее наказуемость деяния. Такими обстоятельствами, в частности, признавалась «добровольная уплата пени и вознаграждения потерпевшему» [10, с. 108]. Как отмечает А. Г. Антонов, впервые подобная норма была оформлена в Законе 1867 г. «Об охране частных лесов» [3, с. 100]. В соответствии с этим законом, в отношении лица, совершившего в казенном или частном лесу «маловажный» проступок, за который было предусмотрено наказание только в виде денежного взыскания (штраф), могло быть прекращено производство по делу, в том случае, если обвиняемый, осознавая свою виновность, добровольно внесет причитающееся с него денежное взыскание в максимальном размере, определенном в законе, а также следующую владельцу леса сумму. Помимо этого, он должен возвратить лесовладельцу похищенный или самовольно срубленный лес либо возместить его стоимость.
Дальнейшее развитие исследуемый институт получил в Уголовном уложении 1903 года. Отметим, что этот уголовно-правовой акт не содержал нормы с перечнем видов освобождения от наказания. Но в нём, так же, как и в Уложении 1845 года, в ст. 41 была предусмотрена возможность освобождения от наказания несовершеннолетних преступников. В этой норме «содержались предписания об освобождении от уголовного наказания несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет и отдаче их под надзор родителей и других лиц, а в случае учинения несовершеннолетними тяжких преступлений они могли быть помещены в воспитательно-исправительные учреждения, а лица женского пола — в женские монастыри их исповедания» [9, с. 39].
В рассматриваемой кодификации законодатели также предусмотрели положения о давности (ст. 68). Здесь давность рассматривалось как «обстоятельство, устраняющее наказание или уголовное преследование. Если лицо не совершило в течение длительного времени новое преступление, его следовало считать исправившимся» [15, с. 699].
В Уложении 1903 года содержались и нормы с элементами деятельного раскаяния, которое в некоторых случаях рассматривалось в качестве основания для полного освобождения виновного лица от наказания. Так, в ст. 124—126 была предусмотрена уголовная ответственность за организацию «противозаконного сообщества» и участие в нем, вместе с тем для участников таких сообществ было предусмотрено условие, при соблюдении которого они могли рассчитывать не только на смягчение наказания, но и на полное освобождение от него. Так, согласно ч. 2 ст. 127: «Участнику противозаконного сообщества, статьями 124—126 предусмотренного, донесшему о таком сообществе прежде обнаружения существования оного, наказание смягчается на основаниях, статьей 53 установленных, или же он может быть вовсе освобожден от наказания» [5, с. 52].
В Уложении 1903 года появляются новые обстоятельства, позволяющие смягчить наказание виновному при наличии у него позитивного послепреступного поведения. Так, содержались предписания о снижении наказания в случае устранения виновным лицом наступивших последствий применительно к присвоению (ст. 574), неквалифицированному воровству (ст. 581) и мошенничеству (ст. 591) [16, с. 8].
Следует отметить, что в нормах Уложения 1903 года не было норм, предусматривающих возможность освобождения от наказания «вследствие примирения с обиженным». Это было обусловлено тем, что в этом уголовно-правовом акте не регламентировалась ответственность за совершение маловажных преступлений (уголовных проступков), выделенных в сферу действия Устава 1864 года (сохранявшего свое действие), в котором была предусмотрена общая норма (ст. 20), закреплявшая возможность для примирения сторон в указанных законом случаях.
Результаты анализа законодательных актов дореволюционной России позволяют сделать ряд следующих выводов:
Со времен Русской Правды уголовное законодательство России содержало нормы, гарантирующие освобождение от наказания либо его существенное смягчение, при условии добровольного прекращения преступной деятельности и соблюдении предписываемых законом условий.
Начиная с Х в., в законодательных актах содержались особые законоположения, часть из которых со временем трансформировалась в общие основания (виды) освобождения (примирение), а часть в условия, необходимые для применения конкретного вида освобождения (явка с повинной, возмещение ущерба, способствование раскрытию совершённого правонарушения).
На протяжении веков изучаемый институт совершенствовался, расширялся перечень основных видов освобождения, формировался специфических «набор» условий, в совокупности составляющих единое основание для применения конкретного вида освобождения. Определялся круг дел, по которым можно было применять тот или иной вид освобождения, и в отношении которых вводились запреты и ограничения. Наряду с общими основаниями освобождения вводились специальные виды для конкретных составов преступлений, которые могли применяться в тех ситуациях, когда отсутствовали основания для применения общих норм. Эти виды предусматривали положения, стимулирующие виновного на положительное послепреступное поведение (объявление с раскаянием своему начальству, предупреждение вредного последствия и т. д.), которые сейчас предусмотрены в нормах-примечаниях к отдельным статьям Особенной части действующего УК РФ.
На протяжении изученного периода широко применялся метод освобождения от ответственности посредством издания узконаправленных подзаконных нормативных актов.
К началу ХХ в. в уголовном законодательстве России была осуществлена унификация оснований и условий отдельных видов освобождения от наказания, усовершенствована законодательная техника их закрепления. Хотя в тот период времени институт освобождения от наказания не имел четко структурированной системы, но в целом дореволюционным законодателям удалось сформировать основные элементы, составляющие основы современного института освобождения от уголовной ответственности.
К сожалению, положительный опыт, аккумулированный в дореволюционном законодательстве, после революционных событий октября 1917 года оказался не востребованным в Советской России. Новая власть рабочих и крестьян приняла решение отказаться от всего, что могло быть связано с прежним монархическим режимом, включая и «репрессивное» уголовное законодательство, поэтому советские законодатели начали разрабатывать уголовно-правовые нормы, так сказать, «с нуля». В процессе создания новейшего законодательства начали применяться новые инструменты правового регулирования, в результате этого институт освобождения от уголовной ответственности претерпел существенные изменения.
Список литературы Освобождение от уголовной ответственности (наказания) по законодательству дореволюционной России
- Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Рос. газ. - № 113. - 1996.
- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. - Санкт-Петербург. - 1845 (онлайн-версия) [Электронный ресурс]. - URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=2 (дата обращения: 19.06.2019).
- Антонов А. Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности (наказания) в законодательстве России в период утверждения и развития капитализма (1861-1917 гг.) // Вестник Томского государственного университета. - 2010. - № 330. - С. 100-101.
- Антонов А. Г. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности (наказания) в законодательстве России в период абсолютной монархии // Человек: преступление и наказание. - 2009. - № 1. - С. 96-98.
- Гезгиев М. А. Институт освобождения от уголовной ответственности в историческом дискурсе // Бизнес в законе. - 2009. - № 5. - С. 50-53.
- Ефремова Н. Институт примирения в истории российской юстиции (дореволюционный период) // Вестник восстановительной юстиции. - 2010. - № 7. - С. 35-40.
- Законодательство Петра I / Под ред. А. А. Преображенского и Т. Е. Новицкой. - М.: Юрид. лит., 1997. - 880 с.
- Мачульская Е. А. Юридические аспекты явки с повинной // Журнал российского права. - 2008. - № 9. - С. 142-151.
- Кашапов Р. М. История возникновения и развития института освобождения от уголовной ответственности // Российский следователь. - 2010. - № 13. - С. 38-42.
- Пирогов П. П., Бойко О. Г. Становление и развитие норм российского уголовного права об освобождении от уголовной ответственности // Вестник Международного института экономики и права. - 2013. - С. 105-114.
- Российское законодательство X-XX веков: Законодательство Древней Руси. В 9-ти тт. Т. 1 / Отв. ред. Янин В. Л.; Под общ. ред. О. И. Чистякова. - М.: Юрид. лит., 1984. - 432 c.
- Российское законодательство X-XX веков: Акты Земских соборов. В 9-ти т. Т. 3 / Отв. ред.: Маньков А. Г.; Под общ. ред.: О. И. Чистякова. - М.: Юрид. лит., 1985. - 512 c.
- Российское законодательство X-XX веков: Законодательство периода становления абсолютизма. В 9-ти тт. Т. 4 / Отв. ред. А. Г. Маньков; Под общ. ред. О. И. Чистякова. - М.: Юрид. лит. 1986. - 512 c.
- Российское законодательство X-XX веков: Судебная реформа. В 9-ти тт. Т. 8 / Отв. ред. Б. В. Виленский; Под общ. ред. О. И. Чистякова. - М.: Юрид. лит., 1991. - 496 c.
- Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник для вузов / Н. Н. Белокобыльский, Г. И. Богуш, Г. Н. Борзенков и др.; под ред. В. С. Комиссарова, Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. - М.: Статут, 2012. - 879 с.
- Щерба С. П., Савкин А. В. Деятельное раскаяние в совершённом преступлении. - М., 1997. - 110 с.