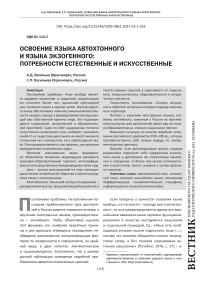Освоение языка автохтонного и языка экзогенного: потребности естественные и искусственные
Автор: Васильев Александр Дмитриевич, Васильева Светлана Петровна
Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu
Рубрика: Филологические науки. Языкознание
Статья в выпуске: 1 (55), 2021 года.
Бесплатный доступ
Постановка проблемы. Язык вообще является орудием мышления и средством социализации его носителя, более того, идеальной субстанцией для сложения нации в единое целое. Фактор родного языка обеспечивает наличие уникальной ментальности каждого народа и формирование принадлежащей ему собственной картины мира. Это подтверждается социальной, исторической и образовательной практикой. Сами по себе надуманные попытки искусственно возвеличить или, наоборот, принизить какой-то из существующих языков не имеют никакого отношения ни к лингвистике, ни к любой другой науке. Они предпринимаются, как правило, для решения определенных политических задач. Изучение иностранного языка традиционно объясняется желанием индивидуума расширить культурно-образовательный горизонт, интенсифицировать непосредственные международные связи и др. Цель - анализ высказываний на тему лингводидактических потребностей общества в обучении родному языку и иностранному. Методология. Основной метод исследования - дискурсивный анализ, предполагающий выявление в текстах важных смыслов в зависимости от социального, психологического, образовательного и исторического контекста. Результаты исследования. Сегодня актуальность обретают импульсы в первую очередь социального характера. Интерес к изучению иностранных языков, особенно английского, заметный в России на протяжении последних трех десятилетий, имеет ряд не столько образовательных, сколько социальных причин. Возникает ситуация, во многом подобная галломании российского дворянства XVIII-XIX вв., которое противопоставило себя своему народу по лингвоментальному признаку. Выводы. Если доминирующая группа социума радикально подчиняет себя парадигмам экзогенного языка и диктуемым им стереотипам мышления и поведения, то более или менее оптимистичные перспективы такого социума в целом довольно туманны.
Автохтонный язык, экзогенный язык, изучение английского языка, социальная дифференциация, лингвоментальная специфика, информационно-психологическая война
Короткий адрес: https://sciup.org/144161903
IDR: 144161903 | УДК: 81-114.2 | DOI: 10.25146/1995-0861-2021-55-1-263
Текст научной статьи Освоение языка автохтонного и языка экзогенного: потребности естественные и искусственные
DOI:
•< m

m
П остановка проблемы. На протяжении последних приблизительно трех десятилетий в России заметно оживился интерес к изучению иностранных языков, преимуществен-
Если говорить о важности освоения языка вообще, а в частности - прежде всего автохтонного1, то она предопределяется двумя его важнейшими имманентными чертами: функциони-
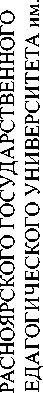
но – английского. Чтобы объективно оценить этот феномен, его наиболее вероятные причины и уже довольно очевидные последствия, необходимо рассмотрение актуализирующих факторов по возможности в совокупности, по крайней мере, в двух аспектах: лингвистическом и социокультурном. Естественно, что в рамках данной публикации освещение подобной проблематики является относительно кратким.
рованием в качестве инструмента мышления и социальной природой. Ср.: «Язык есть необходимое условие мысли отдельного лица <…>, потому что понятие образуется только посредством слова, а без понятия невозможно истинное мышление» [Потебня, 1976, с. 57] – и:
1 Термины «автохтонный» и «экзогенный» подчеркивают противопоставление в освоении родного языка и иностранного. URL:
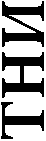
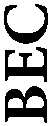
«Язык развивается только в обществе, и не только потому, что человек есть всегда часть целого, к которому принадлежит <^>, не только вследствие взаимного понимания как условия возможности общественных предприятий, но и потому, что человек понимает самого себя, испытавши на других людях понятность своих слов» [Потебня, 1976, с. 57–58]. Кроме того, язык – естественное орудие воспитания, а потому выступает и в функции эмансипатив-ной, то есть «как средство самоосуществления и формирования личного жизненного стиля» [Комлев, 2003, с. 191].
Обзор литературы. Этот аспект подчеркивается педагогами и методистами: «Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей»2.
Важное основание приоритетного обучения родному языку дошкольников и младших школьников, высказано психологом Л.С. Выготским: «Можно сказать, что усвоение иностранного языка идет путем, прямо противоположным тому, которым идет развитие родного языка. Ребенок никогда не начинает усвоение родного языка с изучения азбуки, с чтения и письма, с сознательного и намеренного построения фразы, с словесного определения значения слова, с изучения грамматики, но все это обычно стоит в начале усвоения иностранного языка. Ребенок усваивает родной язык неосознанно и ненамеренно, а иностранный начиная с осознания и намеренности. Поэтому можно сказать, что развитие родного языка идет снизу вверх, в то время как развитие иностранного языка идет сверху вниз» [Выготский, 1956, с. 291].
Отсюда следует, что овладение родным языком (при этом происходит одновременно подчинение сознания законам и формам того же языка, о чем далее) означает, с одной стороны, раз- витие и упорядочение мышления человека, с другой - возможность его успешной социализации и становления полноценной личности.
Поэтому отечественные классики лингво-дидактики неоднократно подчеркивали совершенную бесполезность и даже вредность приоритетного внимания к скрупулезному грамматическому разбору, шире - к схоластическому началу в преподавании языка, зачастую обретающему самодовлеющий характер [Срезневский, 1986, с. 126–129; и др.]. Такие методисты вполне разумно полагали: «Цель изучения родного языка - не счастливые ответы на каком-нибудь экзамене3, а овладение им в должной мере для жизни, для жизни внутренней и вместе той внешней, без которой и сама внутренняя жизнь <…> невозможна» [Срезневский, 1986, с. 140].
Трудно переоценить роль автохтонного языка в формировании этносоциума. Например, даже сам автоэтноним совокупности носителей одного из надрегиональных диалектов, объединявшего людей не только по языковым, но и по многим другим параметрам, питал «сознание славянского этнического единства, которое нашло выражение в едином наддиалектном самоназвании всех славян - *slovene, этимологически – что-то вроде «ясно говорящие, понятные друг другу» [Трубачев, 1997, с. 23].
Цель – анализ высказываний на тему лингводидактических потребностей общества в обучении родному языку и иностранному.
Методология. Основной метод исследования - дискурсивный анализ. Один из основоположников метода дискурсивного анализа Тен ван Дейк определил его таким образом: «...дискурс-анализ гораздо шире собственно лингвистики. Именно в силу его широкого предмета изучения, дискурсные исследования как междисциплинарная область может очень многое предложить обществу помимо результатов стандартных лингвистических исследований. Это, например, новые знания о политическом, медийном или образовательном дискурсах. Особенно критические дискурсные иссле- дования ориентированы на социальные проблемы» [Современный дискурс-анализ…, 2016, с. 7].
Определяя принципы дискурс-анализа, В.Е. Чернявская выделила как основные - уровень текста и экстралингвистический уровень. На уровне текста выявляются функции текста, тема, особенности актуализации в тексте его коммуникативных антропоцентров: автора и адресата. Уровень экстралингвистического анализа позволяет связать смыслы текста с «духом времени», т.е. историческими, психологическими, идеологическими, социальными, межличностными факторами4.
Иными словами, выявляются выраженные в текстах коммуникантов смыслы, понятные только в контексте социальных и исторических обстоятельств.
Результаты исследования. Ставшие сегодня популярными в отечественном официозе квазиглубокомысленные суждения о некоей идентичности (как обычно, индуцированные высказываниями с самого верха властной вертикали), иногда – совершенно фантастической, вроде городской идентичности , региональной идентичности и т.п., т.е. якобы свойственной конкретному городу либо определенному региону (впрочем, по-своему гармонирующие с мифами о многонациональном российском народе и т.д. [Васильев, 2013, с. 349-352; и др.]), конечно же, прежде всего являются модификациями пропагандистских лозунгов, предназначенных – за неимением полноценной и общеприемлемой идеологии – подчинить сознание социума неким векторам, в конечном счете обеспечивающим совершенное единомыслие и беспрекословное послушание масс «элите» и «топ-менеджерам». Такие элементы вербальных декораций в их совокупности формируют нечто вроде благостной имитации действительной реальности - и именно их очень многие сограждане считают объективно выражающими суть происходящих процессов и их результатов, невзирая даже на опыт собственного существования.
Однако (вероятно, не случайно) в низвергающихся речевых потоках довольно редко упоминается о фундаментальной функции языка - инструменте сложения, хранения и передачи национальной ментальности, главного компонента словесно тиражируемой и не очень внятной «идентичности» (пусть даже в малоосмысленном самими спичрайтерами представлении).
Между тем специалисты высказывались по этому поводу неоднократно, предлагая четкие дефиниции феномена (национальной ментальности): «это миросозерцание в категориях и формах родного языка, в процессе познания соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях» [Колесов, 2004, с. 15].
Значит, по мере усвоения родного языка в возможно большем объеме, включая расширение активного словарного запаса, познание потенциала грамматических норм и сочетаемости лексических единиц, конструирования синтаксически точных высказываний и осознания функционально-стилевого расслоения всего богатства языка, в ходе практического применения полученных сведений человек самым естественным образом приобщается к историческому опыту своего народа и проникается его уникальной ментальностью.
На ее фоне рельефно заметна фантом-ность так называемых «общечеловеческих ценностей», спекулятивных во всех отношениях вербально-магических конструкций, при этом несомненно прибыльных для их творцов и трансляторов (см. об этом: [Васильев, 2013, с. 186–201; 2017, с. 25–27]).
Кроме того, следует учитывать объективное присутствие в сознании человека весьма сложного комплекса представлений о себе самом и внешней среде, определяемого как «языковая картина мира». Этот «образ <…> может создать только коллективный субъект» [Васильева, 2005, с. 18], то есть народ как носитель национального языка, средства которого и формируют, и дифференцируют, и градуируют, и расцвечивают для индивидуума и социума множество реалий и связей между ними, психоэмоциональных со-
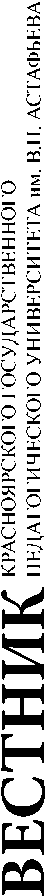
стояний, а также делают осуществимой рубрикацию аксиологической шкалы.
Разумеется, разные языки предоставляют их обладателям разные (иногда – кардинально) возможности для построения картины мира, но каждая из них, и это понятно при непредвзятом рассмотрении, руководствуется собственной логикой и по-своему рациональна [Васильев, 2017, с. 29–35].
А потому активно тиражируемые прежде всего через СМИ якобы бесспорные оценки достоинств и недостатков тех или иных конкретных национальных языков являются либо наивнодилетантскими, либо попросту провокационными измышлениями, изготовляемыми по лекалам заказчиков информационно-психологической войны с целью деморализации противника.
Сами по себе надуманные попытки искусственно возвеличить или, наоборот, принизить какой-то из существующих языков не имеют никакого отношения ни к лингвистике, ни к любой другой науке. Они предпринимаются, как правило, для решения определенных политических задач, хотя нередко оказываются ожидаемыми плодами заурядного недомыслия (подробнее об этом см. [Васильев, 2017, с. 37–48]).
Подытоживая сказанное, можно констатировать, что объективная необходимость усвоения родного языка диктуется рядом взаимосвязанных факторов. Они в конечном счете позволяют человеку самореализоваться как личности, как члену своего этносоциума и предоставляют возможность для постоянного культурнообразовательного развития – опять же в границах собственного национального сообщества (конечно, если оно заинтересовано в сохранении и естественном воспроизводстве самого́ себя).
Попутно заметим, что среди так называемых «рядовых носителей языка» [Голев, 2008, с. 5, 16], т.е. неспециалистов (разумеется, составляющих абсолютное большинство этноса), прочно утвердилась по отношению к изучению русского (родного) языка общая оценка, которую возможно определить как скептически-нигилистическую. Вот характерный пример такой оценки: автору в 1980-е гг. случилось стать свидетелем диалога вахтера и гардеробщицы столичного академического института по поводу преждевременного (после тяжелой болезни) появления известного тогда лингвотекстолога: «Говорит, работать надо, язык изучать!» – «А чего изучать-то?! Русский язык - не самолет и не морковка, чтобы изучать!».
В противовес приведенному бытовому мнению современный Интернет пестрит объявлениями: «Английский язык для детей от 4 до 12 лет».
«Почему занятия в Новакид эффективны?
С нами дети учат английский как родной! Ребенок приобретает практические навыки в ходе живого общения и сразу на английском языке. Урок проходит в игровой форме и длится всего 25 минут, чтобы ребенок не потерял концентрацию и лучше усвоил материал. Главный помощник учителя – виртуальная классная комната, которая превращает занятие в увлекательный квест! »5
Теперь о наиболее вероятных причинах, побуждающих наших сограждан к овладению иностранными языками - особенно в послесовет-ские годы (повторим, что пиетет к чужому языку, как и к чужому вообще, – в плане семиотики – результат не осознания высоких лингвистических параметров, но рекламных кампаний, воздействующих на незрелые умы, – а на практике играет лишь роль катализатора).
Прежде всего, это возможность непосредственного речевого общения с коренными носителями иностранного языка - находясь как в России, так и за рубежом, – возможность, которая стала очевидным следствием либерализации международных контактов соотечественников.
Далее, это расширение хозяйственных связей интернационального характера, причем в коммуникативных актах названной сферы для партнеров далеко не всегда желательно участие переводчиков.
То же в определенной степени касается области научно-технического общения, особенно когда возникают вопросы творческого приоритета и под.
Кажется, в меньшей мере актуально стремление к ознакомлению с текстами зарубежных авторов в оригинале, некогда столь популярное у ряда читателей.
Наконец, наверное, ключевым обстоятельством, стимулирующим изучение иностранного языка, прежде всего английского, является традиционное стремление доминирующей группы отграничиться от массы «низших» сограждан и противопоставить себя им радикально. Тем самым автоматически повышается и социальный статус элиты, и ее престиж в глазах «плебса» и, естественно, своих собственных. Такая дифференциация, подчеркиваемая и усугубляемая еще и в сфере речевой коммуникации, чрезвычайно характерна для общества, основанного на легитимизированном неравенстве его микро- и макрогрупп.
Наиболее известный из отечественных примеров гегемонии иностранного языка как средства общения внутри высшей страты - это, конечно, галломания значительной части русского дворянства в XVIII-XIX вв., когда «французский язык <^> есть нечто вроде чина в России» [Толстой, 1979, т. 3, с. 362]. Примечательно, что к концу названного периода эта мощная и устойчивая тенденция захватывает и мещанские круги; в частности, разбогатевших купцов, подрядчиков и прочих, прочно впитавших представления о «престижности» владения французским языком, непременного атрибута аристократии, то есть правящего класса (подробнее см. [Васильев, 2017, с. 76–96; Васильев, Васильева, 2019]).
Понятно, что абсолютно полные исторические аналогии невозможны. Однако в сегодняшней российской языковой ситуации есть некоторые типологические черты, отчетливо перекликающиеся с былой галломанией.
Прежде всего, позиции английского языка в России укрепляются типологически подобной прежней аристократии социальной стратой, по ряду критериев не совершенно гомогенной, но в целом предпочитающей именовать себя «элитой» (см. [Васильев, 2013, с. 447–499]).
Современных российских «элитариев» очевидно объединяет между собой набор релевантных признаков экстралингвистического ха- рактера. Среди них, в частности: наличие вкладов и недвижимости за пределами родины, обучение наследников в иностранных учебных заведениях, активное участие в деятельности мультинациональных корпораций, зарубежное гражданство и т.п. Средства для безбедного проживания, приобретенные в России самыми разнообразными способами, как правило, находят себе применение в одной из европейских столиц, в обиходе называемой Лондонград и предпочитаемой по некоторым весомым юридическим причинам. Естественно, что такой образ жизни подразумевает крайнюю потребность во владении английским языком.
Довольно естественно, что государственные руководители (в том числе даже бывшие), то есть безусловный сегмент «элиты», нередко явно следующие в кильватере англоязычных стран-лидеров, тоже стараются демонстрировать познания в английском языке, символизируя верность «сюзеренам» (см. [Васильев, 2013, с. 278, 557–559; и др.]).
Столь же естественно, что многие представители российских низших страт, среди которых, конечно, и принадлежащие к обширному «среднему классу» (так удачно квалифицированному в одном из недавних телеинтервью), стремятся овладеть элитарным средством речевой коммуникации, – вероятно, рассчитывая на места в пресловутых «социальных лифтах», в действительности для них вовсе не предназначенных.
Мощное веяние (вряд ли четко поняв его скрытую сущность) уловили и стали интенсивно тиражировать и деятели СМИ (особенно - провинциальных), и предприниматели (см. [Васильев, 2018, с. 33-41]), и администраторы образования. Так, красноярские городские начальницы «сферы образовательных услуг» всячески поощряют сомнительный опыт т.н. «мультилингваль-ного обучения», т.е. обучения английскому языку (причем неспециалистами) в детских садах малышей, еще не усвоивших родной русский.
Это происходит на фоне научно не обоснованных, а попросту - лживых измышлений об ущербности русского языка (см. об этом [Васильев, 2000, с. 80–84; 2003, с. 108–116; 2017, с. 37–48]).
Но стоит помнить: « Народ и язык - единица неразделимая. Народ – язык, язык – народ» [Срезневский, 1986, с. 106]. Следовательно, если какой-то конкретный национальный язык объявляется «плохим», то такая пейоративная характеристика автоматически переносится и на его исконных носителей. Этносоциум, в сознании которого прочно укреплено ощущение собственной неполноценности, заведомо деморализующее объект перед угрозой агрессии, оказывается не в состоянии дать отпор даже слабейшему противнику. «В информационной войне жертва сама должна себя похоронить и еще поблагодарить за это» [Расторгуев, 2003, с. 360].
Кроме того, смена языкового регистра неминуемо влечет за собой смену образа мышления и сопряженных категорий (ментальности, языковой картины мира и др.). Так, в период галломании многие русские дворяне (к тому же превратно воспринявшие тогдашние французские идеологические поветрия) «считали несчастьем быть русскими и, подобно Иванушке Фонвизина, утешались только мыслью, что хотя тела их родились в России, но души принадлежали короне французской» [Ключевский, 1990, т. 9, с. 37–38].
По всей вероятности, нечто подобное переживает сегодня российская «элита», добровольно подвергнувшая себя лингвоментальной трансформации: ведь теперь она «смотрит на мир глазами эталона» [Расторгуев, 2003, с. 136]. В этом отношении весьма показателен социолект ряда российских публичных речедеятелей. Так, официальная представительница МИД РФ постоянно использует англоязычные заимствования вроде фейк и подобных, обнаруживая тем самым, что ее позиция, декларируемая, вероятно, как патриотическая, в действительности глубоко соответствует векторам, навязанным номинальными оппонентами.
Выводы. Язык вообще является орудием мышления и средством социализации его носителя, более того, идеальной субстанцией для сложения нации в единое целое.
Изучение иностранного языка традиционно объясняется желанием индивидуума расширить культурно-образовательный горизонт, ин- тенсифицировать непосредственные международные связи и др.
Однако сегодня актуальность обретают несколько иные импульсы, в первую очередь - социального характера.
В результате известных процессов в России возникла ситуация, характеризующаяся противопоставленностью между высшей стратой, обладающей властью и материальными богатствами (она именует себя «элитой»), и всеми остальными гражданами (населением), не имеющими подобных ресурсов.
Заинтересованность «элитариев» в знании английского языка понятна, так как закономерно вытекает из наличия собственности за рубежом, почти / или постоянного проживания там же, различных контактов с местными партнерами и обучения наследников.
В свою очередь, многие представители населения простодушно рассчитывают, что владение английским поможет их детям попасть в «социальные лифты».
Массовые настроения в этом направлении поощряются измышлениями о достоинствах английского языка и ущербности русского, широко распространяемыми через СМИ, но совершенно несостоятельными с научно-лингвистической точки зрения.
Возникает ситуация, во многом подобная галломании российского дворянства XVIII–XIX вв., которое противопоставило себя своему народу по лингвоментальному признаку.
Если доминирующая группа социума радикально подчиняет себя парадигмам экзогенного языка и диктуемым им стереотипам мышления и поведения, то более или менее оптимистичные перспективы такого социума в целом довольно туманны.
Заключение. Следует сказать, что авторы данной статьи вовсе не являются противниками изучения иностранных языков. Оно полезно хотя бы потому, что, как ни парадоксально, попутно позволяет лучше понимать формы и процессы родного языка и закономерности их употребления. Кроме того, владение некоторым английским лексическим запасом сегодня делает в определенной степени доступным словесное оформление многих фрагментов дискурса российских СМИ.
Однако именно автохтонному языку безусловно должны принадлежать приоритетные позиции во всех сферах речевой коммуникации; пренебрегающая этим здравым постулатом страна неминуемо обретает статус колонии.
P.S. Следует напомнить, что ранее на захваченных советских территориях завоеватели вводили в школах, начиная с младших классов, расширенное преподавание немецкого языка; взрослым же туземцам предлагались самоучители того же языка. Эта «языковая политика была тесно связана с продвижением основных установок оккупационных властей в отношении местного населения» [Дацишина, 2012, с. 66; и др.]. В современных условиях вооруженная агрессия для овладения чужими материальными и человеческими ресурсами вовсе не обязательна.
Список литературы Освоение языка автохтонного и языка экзогенного: потребности естественные и искусственные
- Васильев А.Д. Игры в слова. Манипулятив-ные операции в текстах СМИ. СПб., 2013. 660 с.
- Васильев А.Д. Лингвокультурные процессы и возможности их прогнозирования. М., 2017. 264 с.
- Васильев А.Д. Письменность, алфавиты, орфография: история и современность Красноярск, 2018. 164 с.
- Васильев А.Д. Слово в российском телеэфире. Очерки новейшего словоупотребления. Красноярск, 2003. 224 с.
- Васильев А.Д. Слово в телеэфире. Очерки новейшего словоупотребления в российском телевещании. Красноярск, 2000. 166 с.
- Васильев А.Д., Васильева С.П. Элементы социальной маркированности в российском официозном дискурсе // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2019. № 3 (49). С. 185-195. DOI: https://doi.org/10.25146/ 1995-0861-2019-49-3-154
- Васильева С.П. Русская топонимия Приени-сейской Сибири: картина мира. Красноярск, 2005. 240 с.
- Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1956. 520 с.
- Голев Н.Д. Особенности современного обыденного метаязыкового сознания в зеркале обсуждения вопросов языкового строительства // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 3 (4). С. 5-17. URL: https://www.elibrary.ru/down-load/elibrary_12160348_70657937.pdf
- Дацишина М.В. Язык как инструмент власти: немецкий язык для временно оккупированных советских территорий. 1941-1944 гг. // Вопросы языкознания. 2012. № 1. С. 66-87. URL: https://www.elibrary.ru/download/eli-brary_17637266_25774667.pdf
- Ключевский В.О. Воспоминание о Н.И. Новикове и его времени // Ключевский В.О. Соч.: в 9 т. М., 1990. Т. 9. С. 28-55.
- Колесов В.В. Язык и ментальность. СПб., 2004. 240 с.
- Комлев Н.Г. Слово в речи. Денотативные аспекты. Изд. 2-е. М., 2003. 216 с.
- Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Эстетика и поэтика М., 1976. С. 35-220.
- Расторгуев С.П. Философия информационной войны. М., 2003. 496 с.
- Современный дискурс-анализ: повестка дня, проблематика, перспективы: кол. монография / под ред. Е.А. Кожемякина, А.В. Полонского. Белгород: ИД «Белгород», 2016. 244 с.
- Срезневский И.И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте // Срезневский И.И. Русское слово. М., 1986. С. 103-161.
- Толстой Л.Н. Декабристы // Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. М., 1979. Т. 3. С. 356-387.
- Трубачев О.Н. В поисках единства. 2-е изд., доп. М., 1997. 284 с.