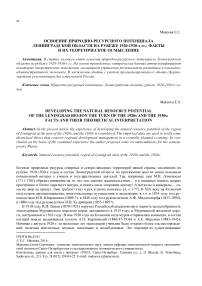Освоение природно-ресурсного потенциала Ленинградской области на рубеже 1920-1930-х гг.: факты и их теоретическое осмысление
Автор: Макеева Елена Сергеевна
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Экономика предприятий, регионов и отраслей
Статья в выпуске: 4 (100), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье изложен опыт освоения природно-ресурсного потенциала Ленинградской области на рубеже 1920-1930-х гг. На основе приведенных эмпирических данных автор верифицирует некоторые теоретические положения, касающиеся управления региональным развитием в командно-административной экономике. В заключении статьи с учетом проанализированного опыта сформулированы рекомендации для современной России.
Природно-ресурсный потенциал, ленинградская область, рубеж 1920-1930-х годов
Короткий адрес: https://sciup.org/14875709
IDR: 14875709
Текст научной статьи Освоение природно-ресурсного потенциала Ленинградской области на рубеже 1920-1930-х гг.: факты и их теоретическое осмысление
Богатые природные ресурсы северных и северо-западных территорий нашей страны, входивших на рубеже 1920-1930-х годов в состав Ленинградской области, на протяжении многих веков вызывали повышенный интерес у ученых и государственных деятелей. Так, например, еще М.В. Ломоносов (1711-1765) обратил внимание на то, что «по многим доказательствам… и в северных земных недрах пространно и богато царствует натура, и искать оных сокровищ некому! А металлы и минералы… сами на двор не придут. Они требуют глаз и рук в своих поисках» [4, с. 177]. В XIX веке на Кольский полуостров организовывались многочисленные путешествия и экспедиции, в т.ч. в 1834 году под руководством Н.В. Широкшина (1809-?), в 1840 году под руководством А.Ф. Миддендорфа (1815-1894), в 1880 году под руководством Н.В. Кудрявцева (1855-1893?).
В 1918 году В.И. Ленин (1870-1924) поручил Российской академии наук оценить целесообразность эксплуатации Мурманского морского порта, заложенного в 1915 году, и Мурманской железной дороги, построенной в 1916 году. В мае 1920 года на Кольский полуостров отправилась комиссия, в состав которой вошли выдающиеся геологи А.П. Карпинский (1846/47-1936) и А.Е. Ферсман (1883-1945). Начиная с августа 1920 г. за несколько лет экспедиций учеными было открыто более ста месторождений, включая апатитовые, медные, никелевые и молибденовые. Это опровергло существовавшее
ГРНТИ 06.43.91
Макеева Елена Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и экономической политики Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
убеждение в том, что «на Кольском полуострове ничего, кроме мхов да болот, нет» [15, с. 222]. Летом 1926 года в ходе другой экспедиции А.Н. Лабунцовым (1884-1963) были выявлены крупные залежи апатитов на склонах Плато Расвумчорр.
С 1926 по 1934 годы пост первого секретаря Ленинградского областного комитета ВКП(б) занимал Сергей Миронович Киров (1886-1934), получивший известность не столько как политический деятель, сколько как умелый хозяйственник-управленец [14, с. 36], интересовавшийся в т.ч. и вопросами регионального развития: «Я не считаю себя высокопробным экономистом… но мне… сдается, что в нашей стране, на нашей земле нет вообще ни одного района, которому суждено было бы деградировать» [19, с. 42-43]. При С.М. Кирове Ленинград превратился в крупный промышленный центр, обладающий собственной энергетической базой, а не «спустился по наклонной плоскости» [10, с. 13] и не остался, вопреки прогнозам Л.Д. Троцкого (1879-1940), сделанным еще в 1923 году, «революционной реликвией рабочего класса» [19, с. 42]. Ленинградские заводы не «умерли естественной смертью» [15, с. 222]. Этому способствовали активное освоение природно-ресурсного потенциала Ленинградской области и строительство на ее территории крупных инфраструктурных объектов.
По воспоминаниям А.Е. Ферсмана, С.М. Киров «был полон твердой воли и решимости создать новый промышленный центр на нашем Севере» [21, с. 309]. По иным свидетельствам современников, «везде и всегда Киров подчеркивал, что нужно искать и тогда мы найдем все, что хотим. К этому звал он научные силы, всех рабочих, работниц и молодежь… Академия наук, геологоразведочные учреждения и научно-исследовательские институты… все свое внимание обратили на изыскание богатств области. И что же?.. Нашли уголь, шунгит, сапропелит, медь, железо, вольфрам» [там же, с. 218].
В январе 1930 г. С.М. Киров посетил рабочий поселок в Хибинах (в 1931 году получивший статус города и названный Хибиногорском, в 1934 году переименованный в Кировск) с целью обсуждения вопросов регионального развития. В частности, предполагалось выбрать способ организации производства удобрений в области: поставлять сырье на ленинградские химические заводы или же учредить местное предприятие полного цикла. В итоге участники совещания постановили обосноваться в тундре «всерьез и надолго» [19, с. 120], открыв там рудники, апатито-нефелиновую обогатительную фабрику и электростанцию.
Экономическое объяснение подобного решения может быть следующим: «Если где-нибудь в центре страны, куда уже веками вкладывались деньги и труд, где уже есть поселки, города, телеграф, железные дороги, можно заниматься добычей десяти-двадцати тысяч тонн минерала, то здесь это немыслимо. Надо заново строить железнодорожные линии, надо создавать гидростанции (паросиловая не поднимет хозяйства), наконец, надо колонизировать край… Только при большом деле хозяйство будет рентабельно и конкурентоспособно на внешнем рынке, только при этом условии можно будет создать здесь культурную жизнь» [21, с. 311].
В 1933 году 90% апатитовых руд СССР добывалось в Хибиногорске [5, с. 126]. В 1934 году объем экспорта апатитов в Европу оценивался в 19,7 млн руб. [там же], в официальной печати отмечалось, что «пароходы, груженные апатитом – рудой и апатитом-концентратом, все чаще и чаще идут из Мурманска в Гамбург, Антверпен, Гдыню и другие порты Западной Европы и Америки» [4, с. 26]. В 1941 году, уже в первые дни Великой Отечественной войны, Кировск как стратегически важный для Советского Союза населенный пункт подвергся бомбардировкам вражеской авиации.
В 1932 году в Мончетундре (горный массив в районе города Мурманска) были обнаружены месторождения железной руды. Это позволило создать в регионе металлургическую базу и снизить зависимость предприятий Ленинграда от поставок с Украины и с Урала. О важности открытия свидетельствует и тот факт, что в 1931 году в СССР было произведено «всего около» 5,5 млн т чугуна [8, с. 176], а план на конец второй пятилетки (1937 год) составил целых 22 млн т [там же]. Похожая ситуация наблюдалась в угольной промышленности в связи с началом освоения Печорского угольного бассейна в 1934 году.
Нельзя не обратить внимания на то, что разработка природных ресурсов Кольского полуострова осуществлялась в основном силами политических заключенных и ссыльных крестьян. В марте 1930 года в Хибины прибыло 918 первых спецпереселенцев; в декабре 1930 года на стройках трудилось уже приблизительно 9 тыс. человек [18]. К лету 1933 года численность населения Хибиногорска насчитывала 42 тыс. человек [19, с. 191]. Условия жизни в тундре были крайне тяжелыми. Привилегиями, предоставлявшимися за ударный труд, не могли воспользоваться лица, осужденные за контрреволю- ционную деятельность. Вместе с тем, согласно некоторым источникам, «руководя освоением природных богатств Севера, Киров прежде всего заботился о людях, которым предстояло жить и работать в этом суровом краю. По свидетельству многих ученых и хозяйственников, Сергей Миронович постоянно интересовался тем, как налажен быт рабочих» [6, с. 181].
С.М. Киров также выступал против «перегибов» в деревне. Например, 16 июня 1933 года на Пленуме Ленинградского областного комитета ВКП(б) он раскритиковал комсомольца, предложившего «переселять тех, кто не сеет, отбирать имущество, делать все, что нужно» (суды, аресты, штрафы) [11, с. 33]. С другой стороны, 16 апреля 1932 года С.М. Киров лично подписал резолюцию о депортации 2 тыс. человек из Ленинграда в трудовой лагерь на реке Свирь [25, p. 102]. Кроме того, он утверждал, что «если работать по нормам, по законам Охраны Труда и Материнства, то из этого дела ничего не выйдет» [10, с. 61], и подчеркивал необходимость «вычистить из партии классово-враждебные элементы, оппортунистов, карьеристов и шкурников, рвачей, жуликов с партийным билетом» [11, с. 19].
В связи с этим представляется неоднозначным следующее его высказывание: «То, что вчера казалось совершенно непробудным, куда, как говорили, «Макар телят не гонял», куда в царское время только в ссылку людей ссылали, – теперь там волей большевиков, на базе природных богатств… в полутундре, куда до сих пор нога человеческая не ступала, создан новый, быстро растущий индустриальный центр Заполярного круга» [21, с. 308]. Заметим, что централизованное директивное планирование прочно ассоциируется с диктатурой и репрессиями. По утверждению одного из авторов теории общественного выбора Э. Даунса (Downs) (род. в 1930), принятие спорных экономических решений облегчено в государствах с недемократическими формами правления, поскольку необходимость в их одобрении избирателями отсутствует [23, p. 82]. Как следует из таблицы, на практике не было случаев, продемонстрировавших бы совместимость командно-административной экономики и полиархии (либеральной демократии).
Таблица
Совместимость различных экономических и политических систем [24, p. 384]
|
Политика |
|||
|
Авторитаризм |
Полиархия |
||
|
cd Ьй S § о о ЬЙ |
Рыночная |
Многие страны |
Многие страны |
|
Централизованная |
Многие страны |
Ни одной страны |
|
Значительные человеческие ресурсы были затрачены не только на освоение Кольского полуострова, но и на строительство крупных инфраструктурных объектов в Ленинградской области. Так, весной 1930 года было отдано распоряжение о начале строительства Беломорско-Балтийского канала. Проект должен был быть завершен за двадцать месяцев, при этом общая протяженность канала составляла 227 км. Для сравнения можно отметить, что Панамский канал длиной около 80 км сооружался девять лет, а Суэцкий канал длиной приблизительно 170 км – десять лет.
Сама идея облегчения подобным способом доступа к северным территориям страны высказывалась и ранее. Например, в 1915 году была опубликована работа краеведа и вице-губернатора Олонецкой губернии А.Ф. Шидловского (1863-1942) «Онего-Беломорский водный путь, его государственное и экономическое значение». Автор выделил следующие преимущества проекта [22, с. 5-8]: «открытие нового пути для сплава ( лесного материала - прим. авт.) к балтийскому району»; облегчение доступа к «рудным богатствам» Повенецкого уезда Олонецкой губернии и Кемского уезда Архангельской губернии; «развитие рыболовства на севере и сбыт его продуктов с Белого моря, Мурманского берега, а также тысяч озер Заонежья и Кемской Карелии к Петрограду и в центр России»; улучшение снабжения населения; активизация грузоперевозок; получение возможности применения «двигательной силы порогов рек и речек, входящих в систему Беломорского канала», и водопадов для выработки «большого количества дешевой энергии» и добычи «азотной кислоты и… селитры из воздуха»; появление
«возможности снабжения… Балтийского флота, а также всех фабрик, заводов и других промышленных предприятий Прибалтийского района, не исключая Петрограда, каменным углем наилучшего качества… с о. Шпицбергена». Тем не менее, в Российской Империи идеи А.Ф. Шидловского не были реализованы.
В 1930-е годы в процессе сооружения канала С.М. Киров «был в курсе всех дел, связанных с этим огромным строительством. Дважды лично был там. Увидев, что многие тяжелые работы ведутся вручную, Сергей Миронович принял меры для ускорения отправки на стройку имевшихся в то время машин и механизмов» [6, с. 182-183]. Тем не менее, основными орудиями труда оставались «лопата, мотыга, тачка» [26, p. 40], малопригодные в условиях каменистой и скалистой местности. По состоянию на декабрь 1932 года в Беломорско-Балтийском исправительно-трудовом лагере находилось 107 390 человек [5, с. 128]. Примечательно, что и А.Ф. Шидловский допускал использование принудительного труда: «При том условии, если на работах по проведению канала через водораздел, а также на всех сооружениях, будет применен в самом широком объеме труд военнопленных, которых у нас немало, возможно… оборудовать водный путь к Белому морю с таким расчетом, чтобы открыть движение по нему с начала сентября этого года» [22, с. 8].
Сведения, представленные далее, позволяют дать некоторую хозяйственную оценку итогам строительства. Так, протяженность морских путей, ранее проходивших вокруг Скандинавского полуострова, существенно сократилась: Санкт-Петербург – Шпицберген – примерно в 1,5 раза, Санкт-Петербург – Архангельск – в 4,1 раза, Архангельск – Лондон – в 1,1 раза, Архангельск – Щецин – в 1,6 раза [3, с. 413]. В 1920 году был разработан план электрификации нашей страны. Он предусматривал создание 30 крупных электростанций совокупной мощностью 1,5 млн кВт в течение десяти-пятнадцати лет [1, с. 8; 6, с. 187]. Данные цифры выглядели весьма амбициозно для своего времени и позволили английскому писателю и публицисту Г. Уэллсу (1866-1946) назвать В.И. Ленина «кремлевским мечтателем».
В декабре 1926 года была запущена в эксплуатацию Волховская ГЭС. С.М. Киров выступил с торжественной речью на ее открытии: «Созданная… гидростанция даст новую, живую силу нашей промышленности» [7, с. 73]. В процессе же возведения ГЭС он подчеркивал важность реализации стратегии импортозамещения: «Мы должны научиться так строить, чтобы избежать необходимости покупать оборудование за границей… чтобы все необходимое – от первого кирпича до сложной машины – было сделано собственными руками на наших заводах» [17, с. 21]. «Волховская энергия» поражала «дешевизной», так как обходилась «всего по 0,79 копейки за киловатт против 6,42 копейки, что стоила раньше энергия от паровых электростанций» [19, с. 44]. «Волховскую ГЭС осматривали шведы, осматривали американцы… Они говорят, что все налажено, станция работает без осечки» [там же]. В 1928 году «участие ГЭС в покрытии электропотребления Ленинграда… составило 63%» [17, с. 51].
Осенью 1927 года С.М. Киров присутствовал на закладке Нижнесвирской ГЭС, спроектированной выдающимся инженером Г.О. Графтио (1869-1949). Строительство было завершено в 1933 году. По воспоминаниям Г.О. Графтио, С.М. Киров «поражал специалистов своим здравым и ясным умом, своею осведомленностью во всех вопросах, которые обсуждались. Он крепко верил в широчайшие реальные возможности нашей страны» [19, с. 43]. Имело значение и то, что Сергей Миронович способствовал увеличению финансирования производства в Ленинграде гидравлических турбин, необходимых для работы ГЭС [6, с. 155-157; 15, с. 141].
В 1930-1934 годах осуществлялось возведение Нивской ГЭС мощностью 60 тыс. кВт (ныне Нива ГЭС-2), в котором было задействовано более 6 тыс. человек спецпереселенцев (см. http://www.kandalaksha.org/nivski.html ). Этот факт в очередной раз свидетельствует о том, что освоение природно-ресурсного потенциала Ленинградской области на рубеже 1920-1930-х годов носило двойственный характер. С одной стороны, было улучшено снабжение предприятий Ленинграда сырьем и электроэнергией, а изготовлявшаяся в городе промышленная продукция направлялась во все уголки Советского Союза. С другой стороны, вовлечение в хозяйственный оборот новых территорий и строительство инфраструктурных объектов реализовывались за счет использования принудительного труда.
Представленные в рамках настоящей статьи эмпирические данные позволяют верифицировать более общие положения об особенностях управления региональным развитием в плановой экономике.
В частности, вызывает интерес следующий тезис из концепции базовых и пионерных продуктов Д.Ю. Миропольского (род. в 1959): «В цивилизациях планового типа центры развития пионерных продуктов могут возникать на любой… территории, которая имеет для этого хоть какие-то предпосылки» [16, с. 187]. Как известно, пионерный сектор специализируется на создании технологически новых для рассматриваемого сообщества людей изделий. В 1920-е годы для СССР таковыми являлись многие виды промышленной продукции, и они зачастую осваивались впервые именно в Ленинграде (в т.ч., например, автоматические телефонные станции, блюминги, теплофикационные турбины, синтетический каучук и пр. [13, с. 23, 27-28; 15, с. 155; 20, с. 65-66; 2]).
Изложенные факты наглядно иллюстрируют и следующее научное утверждение: «Плановое хозяйство… ориентировано на то, чтобы максимально загрузить все факторы производства, даже самые захудалые и неэффективные» [16, с. 300]. Бесспорно, богатые природные ресурсы Кольского полуострова сложно назвать «захудалыми», однако затраты на их разработку вполне могли превысить результат, что подвергло бы сомнению эффективность их использования. Важную роль в их освоении сыграло масштабное применение бесплатной рабочей силы заключенных, трудившихся в тяжелейших, подчас нечеловеческих условиях. То же самое касается инфраструктурных объектов, построенных в Ленинградской области в 1930-е годы.
Экспорт хибинских апатитов из СССР в Европу, по всей видимости, должен был способствовать аккумулированию свободно конвертируемой валюты, необходимой для приобретения иностранных пионерных технологий. В данном отношении показателен призыв С.М. Кирова «перенять у заграницы технически наиболее совершенные приемы и методы работы» [9, с. 185]. При этом некоторые технологии являлись пионерными не только для Советского Союза, но и, например, для США: «Мы недостаточно искушены в технике, – в этом отношении мы еще малограмотны, – но мы пригласили в Сталинград знаменитых специалистов со всего света, и как это ни трудно было, а завод мы все же пустили. Далее мы строим Магнитогорский гигант. Мы и для него выписали наилучших, достаточно искушенных американских инженеров, но Магнитострой и для них новое дело, и вместе с нами они ломают над ним головы. Сами понимаете, не такая уж это легкая и простая штука!» [8, с. 120-121].
Подводя итог, отметим, что задачи регионального развития, стоявшие перед руководством Ленинграда и, в целом, СССР на рубеже 1920-1930-х годов, а также в последующие периоды существования советского государства, представляются актуальными и для современной России. В первую очередь к ним относится «все более рациональное размещение промышленности, которое обеспечит… комплексное развитие районов и специализацию их хозяйств, устранит чрезмерную скученность населения в крупных городах, будет содействовать… дальнейшему выравниванию уровней экономического развития районов страны» [12, с. 11].
Вместе с тем, выбрав в качестве целевого ориентира индустриальные достижения XX века, необходимо в рамках имеющейся системы индикативного планирования основной акцент сделать на предоставление предприятиям и их работникам налоговых льгот, постоянное совершенствование форм оплаты труда в регионах с суровыми климатическими условиями, повсеместное внедрение элементов социальной инфраструктуры.
Список литературы Освоение природно-ресурсного потенциала Ленинградской области на рубеже 1920-1930-х гг.: факты и их теоретическое осмысление
- Блохнин А.В., Коровайцев И.Т., Кошелев С.П. Маяк советской власти. М.: Государственное издательство политической литературы, 1961. 80 с.
- Введенский А. Вспоминая таксофон. . Режим доступа: http://novostispb.ru/news/history/4652/(дата обращения 17.05.2016).
- Гнетнев К.В. Беломорканал: времена и судьбы. Петрозаводск: Острова, 2008. 415 с.
- Карело-Мурманский комитет при Ленинградском облисполкоме. Богатства Мурманского края -на службу социализму. Итоги и перспективы хозяйственного развития Кольского полуострова. М., Л.: ОГИЗ Государственное социально-экономическое издательство, Ленинградское отделение, 1934. 111 с.
- Кирилина А.А. Неизвестный Киров. СПб.: Изд. дом «Нева», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001. 542 с.
- Киров и время. Л.: Лениздат, 1986. 316 с.
- Киров С.М. Избранные статьи и речи, 1912-1934 гг. М., напеч. в Л.: ОГИЗ Государственное издательство политической литературы, 1939. 700 с.
- Киров С.М. Избранные статьи и речи, 1918-1934 гг. М.: Издательство политической литературы, 1944. 303 с.
- Киров С.М. Речи 1930 г. Т. 12. Кн. 1. Л.: Партийный архив ОК и ГК ВКП(б), 1930. 390 с.
- Киров С.М. Речи 1932 г. Т. 14. Л.: Партийный архив ОК и ГК ВКП(б), 1932. 450 с.
- Киров С.М. Речи 1933 г. Т. 15. Л.: Партийный архив ОК и ГК ВКЩб), 1933. 562 с.
- Костенников В.М. Развитие экономических районов СССР (перспективы и проблемы). М.: Просвещение, 1977. 174 с.
- Ленинград и область в 1932 году по данным народно-хозяйственного плана на 1932 г. М., Л.: Государственное экономическое издательство, 1932. 157 с.
- Макеева Е.С. Роль оборонно-промышленного комплекса в экономике Ленинграда 1930-х гг.: уроки для современной России//Известия СПбГЭУ. 2014. № 5. С. 35-41.
- О Сергее Кирове: воспоминания, очерки, статьи современников/Сост. М.И. Владимиров. М.: Политиздат, 1985. 256 с.
- Основы теоретической экономики/Под ред. Д.Ю. Миропольского. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. 452 с.
- Первенец электрификации. К 50-летию Волховской ГЭС имени В.И. Ленина. Л.: Энергия, 1976. 192 с.
- Первый эшелон строителей Хибиногорска//«Дважды два», газета городов Апатиты и Кировск. 14.03.2013.
- Помпеев Ю.А. Хочется жить и жить. М.: Политиздат, 1987. 236 с.
- Сергей Миронович Киров. Воспоминания ленинградских рабочих/Под общ. ред. С. И. Аввакумова. Л.: Лен-издат, 1939. 164 с.
- Товарищ Киров. Рассказы рабочих, инженеров, хозяйственников, ученых, колхозников и детей о встречах с С.М. Кировым. М.: Профиздат, 1935. 436 с.
- Шидловский А.Ф. Онего-Беломорский водный путь, его государственное и экономическое значение. Петроград: Тип. Т-ва п. ф. «Электро-Типография Н.Я. Стойковой», 1915. 10 с.
- Downs A. The Public Interest: Its Meaning In A Democracy//Political Theory And Public Choice: The Selected Essays Of Anthony Downs. Vol. 1. Cheltenham, UK, Northampton, USA: Edward Elgar, 1998. P. 48-83.
- Durasoff D. Conflicts Between Economic Decentralization And Political Control In The Domestic Reform Of Soviet And Post-Soviet Systems//Social Science Quarterly (University of Texas Press). 1988. Vol. 69. Is. 2. P. 381-398.
- Khlevniouk O. Le Cercle du Kremlin. Staline et le Bureau politique dans les annees 30: les jeux du pouvoir. Paris: Editions du Seuil, 1996. 334 p.
- Kirilina A. L'assassinat de Kirov. Destin d'un stalinien, 1888-1934. Paris: Editions du Seuil, 1995. 286 p.