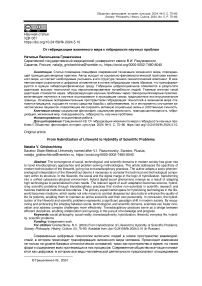От гибридизации жизненного мира к гибридности научных проблем
Автор: Гришечкина Н.В.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена специфике современной технизации жизненного мира, порождающей трансдисциплинарные практики. Автор исходит из социально-феноменологической трактовки жизненного мира, но считает необходимым учитывать в его структуре технико-технологический компонент. В жизненном мире социальное и цифровое сплавляется в логике гибридизации таким образом, что трансформируется в единую киберсоциофизическую среду. Гибридное цифросоциальное появляется в результате адаптации высоких технологий под персонализированные потребности людей. Главным агентом такой адаптации становится наука, гибридизирующая научные проблемы через трансдисциплинарные практики, включающие неученых в научные исследования и проходящие сквозь традиционные институциональные границы. Основным экспериментальным пространством гибридизации технологий в жизненном мире становится медицина, ищущая не только средства борьбы с заболеваниями, но и инструменты улучшения качества жизни пациентов, позволяющие им сохранять активную социальную жизнь и собственную личность.
Социальная философия, социальная реальность, трансдисциплинарность, гибридизация, жизненный мир, повседневность, гибридность, научные проблемы
Короткий адрес: https://sciup.org/149145924
IDR: 149145924 | УДК: 001 | DOI: 10.24158/fik.2024.5.10
Текст научной статьи От гибридизации жизненного мира к гибридности научных проблем
Саратов, Россия, ,
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky, Saratov, Russia, ,
цифровыми технологиями или требуют их сопровождения. Что происходит в этих условиях с человеком, и какие последствия влекут за собой для науки эти антропологические изменения? Ответить на этот вопрос можно, обратившись к современным трансформациям жизненного мира.
Жизненный мир в интерпретации феноменологической традиции (Э. Гуссерль, А. Шюц) представляет собой допредикативный опыт, внешний научному познанию и предшествующий ему. В отличие от картины мира науки, опирающейся на субъект-объектные взаимодействия, жизненный мир выстраивается из отношений между людьми, наделяющими смыслами и значениями социальные процессы. В этой связи жизненный мир представляет собой социальную реальность, состоящую из повседневных практик и языковых конструктов, их репрезентирующих. Эту его особенность и отмечал А. Шюц: «…однако именно Lebenswelt, от которого должны были абстрагироваться представители естественных наук, является социальной реальностью, которую должны исследовать социальные ученые» (Шюц, 2004: 60).
Наука показывает социальную жизнь с позиции «извне», но люди живут ее в позиции «изнутри». Ученые абстрагируются от течения обыденной жизни, в которую вписан прозаический быт, в которой разворачивается первичная социализация, рутинное исполнение ролей, а концентрация на удовлетворении базовых потребностей блокирует рефлексию и саморефлексию в сложных формах. Люди воспринимают жизненный мир как само собой разумеющийся: они не сомневаются в его реальности, поскольку он весьма требовательно предъявляет на них свои права. Именно здесь складывается «жизненное отношение» к другим людям, вещам, событиям и явлениям, здесь они становятся необходимыми, нужными, важными - так закладываются социальные основания ценностей.
Не случайно социально-философская категория жизненного мира в социальной психологии конкретизируется в таких категориях, как «жизненный путь», «жизненный стиль», «жизненная стратегия», «жизненный план» (Демидова, 2008: 48). Каждая из них может рассматриваться как отражающая конкретный феномен, но все они фиксируют содержание интерсубъективного жизненного мира индивида, которое формируется практически бессознательно (только по мере взросления у индивида может выработаться достаточная для управления этими феноменами степень самодисциплины) - под влиянием семейного уклада, фоновой культуры и жизненных обстоятельств, что и объясняет различия в социально-психологических портретах, например, детей войны и детей застоя, или людей, с детства страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, вызывающими инвалидизацию.
Жизненный мир, как социальная реальность, согласно А. Шюцу, возможен благодаря следованию двум основным правилам социальной жизни, что позволяет поддерживать общее восприятие социальной реальности. Это, во-первых, умение встать на место другого человека и понять друг друга, а во-вторых, совпадение интерпретаций социальных явлений разными людьми. Данные условия позволяют осуществлять и поддерживать коммуникацию и тем самым воспроизводить социальную реальность.
Что является основной функцией жизненного мира - вопрос спорный, поскольку и социализация, и коммуникация возможны только благодаря его существованию. Тем не менее, можно утверждать, что интеграция социального опыта является одной из ключевых его функций. Именно в жизненном мире выстраиваются опорные, узловые элементы мировоззрения индивида, определяющие его готовность/неготовность к доверию, эмпатии, кооперации. Умозрительные рассуждения об абстрактных категориях (любви, преданности, вечности и т. п.) остаются теоретическими спекуляциями до тех пор, пока их содержание не проникнет в конкретный жизненный мир и не начнет провоцировать тот или иной этический выбор.
Поскольку Э. Гуссерль, которому философия обязана выдвижением понятия «жизненный мир», противопоставлял жизненный мир и науку, нередко жизненный мир противопоставляется миру технологий. Аргументом от здравого смысла в этом случае выступает техника безопасности: ребенку нужно дорасти до того, чтобы родители позволили ему пользоваться даже простейшими бытовыми приборами - от утюга до пылесоса. Возрастной ценз в этом случае маркирует способность ребенка прогнозировать возможные риски неправильного использования прибора и сводить их к минимуму.
Эта тенденция усугубляется давней философской традицией, связывающей триаду «техника, отчуждение и дегуманизация» в единое целое (Н. Бердяев, М. Хайдеггер), в которой техника рассматривается как то, что захватывает, околдовывает, ослепляет человека, принуждает его к бегству от мышления, делает его бездумным: «современная техника неизбежно игнорирует сам земной характер мира, его естественность, она имеет тенденцию и возможности превратить человека из организма в машину» (Бердяев, 1989: 151).
Разумеется, техника существенно изменилась со времен Н. Бердяева, однако философский миф, представляющий жизненный мир как аналог «натуральной», «естественной», нововременной природы, не испорченной ни первородным грехом, ни ГМО и «всякой химией», отличается высокой жизнеспособностью. Возможно, не последнюю роль здесь играет равнодушие отцов-основателей социального конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана к бытованию техники в пространстве детства.
На страницах «Социального конструирования реальности» (Бергер, Лукман, 1995) сложно встретить телевизор и его обитателей, которые, безусловно, становятся значимыми Другими для людей в самом нежном возрасте. Эта лакуна оказалась настолько серьезной, что вызвала к жизни одну из самых влиятельных на сегодняшний день версий теории медиатизации, авторами которой стали Н. Коулдри и А. Хепп (Couldry, Hepp, 2017). Без семейных цифровых архивов, видеосвязи, теленянь, голосовых помощников, персонажей масскульта и умных гаджетов невозможно сегодня представить себе жизнь современного ребенка.
Техника пронизывала и пронизывает жизненный мир и более старших поколений, и ее функция отнюдь не всегда сводится к маркетинговому насаждению искусственных потребностей, характерному для общества потребления. Как справедливо отмечает Г.В. Черногорцева, «современная техника основывается на понимании жизни как творческой активности, стремлении преодолеть пространство и простор, достичь большей степени власти и господства над пространством и временем, расширить границы конечного существования» (Черногорцева, 2018: 7).
Современные технологии умного дома могут интегрировать огромное количество гаджетов для людей всех возрастов, нуждающихся в уходе в силу ограниченной мобильности, – от умной трости, специализированных джойстиков и интерфейсов для обычных устройств до умных инвалидных кресел и матрасов. Подъемники и коляски, управляемые, в зависимости от потребностей владельца, жестом или голосом, возможность контролировать домашнюю среду и запускать алгоритмы связи с врачами, сиделками, родственниками – все это перестает быть образами научной фантастики. Девайсы, используемые для самоконтроля хроническими больными и для организации ЗОЖ здоровыми людьми, продолжают свою интервенцию в жизненный мир; голосовые помощники и цифровые станции нередко персонализируются – очевидно, что они играют весьма существенную роль в жизненном мире.
Как видим, развитие информационных и цифровых технологий способствовало интенсификации процесса глобализации, а как следствие, стиранию границ между приватным и публичным, профессиональным и непрофессиональным, жизненным миром и наукой. Инкорпорирование в жизненный мир компьютерных и цифровых технологий произвело переформатирование его содержания. Тотальная техномедиация, способствующая ускорению и умножению контактов и коммуникации между людьми, в то же время дистанцировала их друг от друга, став барьером на пути общего восприятия социальной реальности. Усложнение и дополнение социальной реальности новыми пространствами, обезличенность субъекта в киберсоциофизическом пространстве привели к умножению интерпретаций социальной реальности разными людьми, а также к неумению встать на точку зрения другого человека.
Технологизация жизненного мира привела к усложнению социальной реальности и ее дополнению новыми уровнями и гибридизации (Василенко, Мещерякова, 2023). Техномедиация стала неотъемлемым инструментом существования человека в технологизированном жизненном мире. Как следствие этих процессов выступила гибридизация жизненного мира, то есть, как определяет данное понятие О.Н. Яницкий, гибридизация – это «сращивание» разнокачественных агентов, структур и процессов социального действия» (Яницкий, 2019).
В нашем случае результатом этого является киберсоциофизическая реальность, гибридное по своему онтологическому статусу. Термин «гибрид» пришел в научный оборот из ботаники, в которой он означает живой объект (клетка или многоклеточный организм), полученный в результате скрещивания генетически различающихся форм и, в силу своего особого происхождения, сочетающий признаки родительских линий, которые не могут встречаться в генетически однородной линии. Биологическая гибридность может связывать разные виды и роды, очень часто ее «продукты» отличаются стерильностью, но из этого правила есть исключения. Представление о возможности сочетания свойств, являющихся результатом принципиально различных способов организации целостной системы, быстро перекочевало в технику, где оно означает устройство, сочетающее в своей конструкции несколько видовых решений (например, способное работать на разных видах топлива или перемещаться по разным типам поверхностей). Цифровые технологии часто называют гибридными, если в них используются принципы работы различных сервисов.
Идеи о том, что возможно сочетание гетерогенных по природе элементов, мы можем обнаружить даже на уровне мифологических гибридов. Так, мифы Древней Греции содержат описания вымышленных диморфных и даже полиморфных существ. Образы полулюдей-полузверей (кентавров, сатиров, силенов, кинокефалов и даже Минотавра), разумеется, во многом являются отголосками тотемизма, в котором животные почитаются как первопредки, но даже в этом случае перед нами достаточно рациональные варианты комбинаторики, которые могли бы иметь определенные эволюционные преимущества, если бы они были реальными.
Гибридизация социальных процессов обычно описывается на уровне сращения прежде автономных институциональных практик, примером которых служит появление гражданской науки или гражданской журналистики. Однако в том случае, когда мы говорим о гибридизации жизненного мира, на переднем плане оказывается степень включенности техники в жизненное пространство личности, когда она воспринимается субъектом как естественный фон его социальных практик, хотя по факту является посредником между ним и практикой, без которого невозможно само осуществление социального действия.
Гибридность, как новое свойство жизненного мира, задает иную оптику изучения и взаимодействия с внешней средой. Гибридная реальность жизненного мира вступает в противоречие с логикой фрагментации научного знания и тенденцией междисциплинарного взаимодействия. Как отмечает Мэттью Доган (Dogan, 2001), междисциплинарный подход иллюзорен, так как он выступает за разделение реальности и в лучшем случае приводит к полезному параллелизму, а не к синтезу. Это определяет необходимость избегать неадекватной терминологии и использовать понятие «гибридизация науки» для адекватного отражения специфики новых исследовательских подходов в науке.
Гибридизация жизненного мира через гибридизацию науки способствует возникновению гибридных научных проблем, требующих особого подхода для изучения. Гибридная научная проблема завязана на противоречиях между кибер-, социо- и физической реальностями. Ее решение требует выхода за границы академических научных дисциплин и взаимодействия с вненаучными социальными агентами (бизнесом и гражданским обществом), то есть применения трансдисциплинарного подхода. Таким образом, трансдисциплинарность является закономерным следствием трансформации жизненного мира и его гибридизации. Наиболее наглядно данный подход используется в медицине.
Обращение к медицине при анализе трансдисциплинарности обосновано следующими причинами:
-
1. Являясь человекоориентированной системой знаний и практики, медицина изначально несвободна, а имманентно содержит в себе интенции на многомерный способ отражения сложного многоуровневого объекта, которым является Человек.
-
2. Интенсивный прогресс новых технологий и их внедрение в практику здравоохранения порождает сложные научные проблемы, имеющие гибридную природу. Локализованные в жизненном пространстве человека в состоянии здоровья и болезни, они представляют собой не только смысловые, логические, эпистемологические противоречия, но одновременно этические, моральнонравственные и экзистенциальные дилеммы. Способ решения таких проблем должен учитывать новую специфику, что и представлено в трансдисциплинарности. Таким образом, общий характер социальных изменений, связанный с научно-техническим прогрессом, приводит к вхождению через медицину в поле научного знания гибридных научных проблем и, как следствие, гибридизации самого научного знания. Этическая экспертиза сегодня является неотъемлемым элементом процедуры производства научного знания не только в науках о жизни, но и о природе.
-
3. Медицина, открыв новое направление биомедицинских исследований, встала на путь трансформации человека и его жизненного мира, стала одним из проводников инкорпорирования в жизненный мир человека технонауки. Характер новых научных проблем, возникающих сегодня в медицине вследствие процессов глобализации и технологизации, является не только социальным, но также экзистенциальным и затрагивает все аспекты бытия человека, трансформируя его. Медикализация, как эффект этих процессов, усиливается и дополняется технологизацией жизненного мира человека. Но она перестает быть медикализацией отчужденного типа, для которой характерны старые фукианские дисциплинарные пространства, в которых пациент подобен безвольному предмету на конвейерной линии, где он вырван из привычной среды и лишен возможности принимать решения о своем питании, гигиене, режиме, социальных контактах. Цифровые технологии делают возможными телеконтакты, обеспечивают удаленную фиксацию жизненных показателей пациента и адаптацию лечения к его индивидуальным особенностям; гаджеты остаются окном в мир, средством связи с близкими людьми и в условиях больничной палаты. Технология делает повседневность более человекоразмерной там, где боль, болезнь и смерть заставляют съеживаться и уменьшаться социальное.
Таким образом, медицинские практики, укореняющие биомедицинские технологии в жизненном мире пациента, становятся своеобразной экспериментальной площадкой по отработке стандартов применения высоких технологий для решения социально-гуманитарных проблем (Медвед-кина и др., 2016). Техническая реальность утрачивает статус отчужденной дегуманизированной силы, вызывающей деперсонализацию, напротив, она возвышает человека перед лицом боли и смерти, предоставляя ему контроль над качеством своей жизни (Рыбаков, Тихонова, 2014).
Теодор Зельдин, историк, социолог и английский философ, анализируя французскую культуру, заявляет: «гибридность выражает свободный взгляд, взгляд, отказывающийся от пределов» (Zeldin, 2016). Для научных проблем, решение которых все чаще предполагает обращение не к образу усредненного потребителя технологий, основанных на передовом научном знании, а к индивидуализированному, конкретному человеку, требуются новые механизмы ассимиляции нового научного знания (Лаврухина, Воронцова, 2024).
Трансдисциплинарность, как методологический инструмент, позволяет исследователям преодолевать границы дисциплинарного знания и культивировать свободу мысли на пути познания многомерной социальной реальности. Как отмечает Жан-Жак Вюненбергер, гибридизация ставит перед нами задачу восстановления мира, в котором люди могли бы вернуть свою историю и свою судьбу (Wunenburger, 2016). Да, в этом случае человек оказывается весьма зависимым от техники, но его существование всегда было зависимым от природы – без воздуха до сих пор людям существовать не удавалось. И хотя во все времена хватало людей, ищущих альтернативу физико-биологической жизни тела в трансцендентных мирах, в мировоззрении, опирающемся на научную картину мира, вряд ли найдется место для рассуждений о том, что воздух «отчуждает» и «дегуманизирует».
Следствием и движущей силой гибридизации является стирание границ и преодоление барьеров. Гибридизация обеспечивает активное долголетие тем, кто до него просто не дожил бы в предшествующие технологические эпохи. Она же поддерживает социальную активность для тех, кто раньше был бы обречен на эксклюзию и изоляцию. Обе эти категории способны к vita activa и вносят свой вклад в общее благосостояние посредством креативности, заботы, передачи опыта и многих других социальных функций, которые им доступны благодаря биомедицинским технологиям. Приспосабливая существующие технологии под собственные нужды, ставя перед разработчиками новые задачи, связанные с более гармоничной интеграцией их решений в жизненный мир, они выступают подлинными агентами трансдисциплинарности.
Развитие биомедицинских технологий нового уровня через трансформацию, пересборку и гибридизацию жизненного мира человека имплантирует системный мир в ткань биологического бытия человека. Развитие таких концептов, как биосоциальность, биогражданственность, биовласть является следствием тотальной технологизации жизненного мира человека. Основным инструментом данного процесса стали социальные технологии. Масс-медиа превращаются в социальную технологию создания моделей поведения с целью влияния на людей для осуществления социальных изменений. Новый гибридный мир становится основанием антропосферы, «дружественность» и эгалитарность которой впервые принимают массовые формы.
Безусловно, проблемы доступа к современным технологиям, преодоление цифрового разрыва и, конечно, обеспечение равного доступа к медицинской помощи по-прежнему продолжают оставаться весьма актуальными. Тем не менее, технологический сдвиг в области медицины способен принести положительные социальные эффекты. Таким образом, гибридизация жизненного мира человека под воздействием технологий приводит к включению в него мира науки и развитию гибридной социальной реальности.
Список литературы От гибридизации жизненного мира к гибридности научных проблем
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995. 335 с .
- Бердяев Н.А. Человек и машина // Вопросы философии. 1989. № 2. С. 147–162.
- Василенко Л.А., Мещерякова Н.Н. Гибридность цифрового общества: инновационная реальность или утопия? // Философия науки и техники. 2023. Т. 28, № 1. С. 48–65. https://doi.org/10.21146/2413-9084-2023-28-1-48-65.
- Демидова И.Ф. Жизненный мир как основа профессионального становления студентов // Российский психологический журнал. 2008. Т. 5, № 2. С. 47–59. https://doi.org/10.21702/rpj.2008.2.5.
- Лаврухина И. М., Воронцова Т.Н. Механизмы ассимиляции нового знания в науке // Общество: философия, история, культура. 2024. № 1. С. 20–25. https://doi.org/10.24158/fik.2024.1.2.
- Противоречия формирования правовой политики Российской Федерации в области генной инженерии / Д.А. Медведкина [и др.] // Экологическая генетика. 2016. Т. 14, № 1. С. 34–48.
- Рыбаков О.Ю., Тихонова С.В. Доктрина естественного права и философия трансгуманизма: возможность коммуникации // Lex Russica. 2014. Т. 96, № 2. С. 143–152.
- Черногорцева Г.В. Техника в жизни человека: социально-философский аспект // Гуманитарный вестник. 2018. № 5 (67). [Без пагинации]. https://doi.org/10.18698/2306-8477-2018-5-524.
- Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М., 2004. 1056 c.
- Яницкий О.Н. Глобализация и гибридизация: к новому социальному порядку // Социологические исследования. 2019. № 8. С. 8–18. https://doi.org/10.31857/S013216250006132-8.
- Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. Cambridge, 2017. 290 p.
- Dogan M. Specialization and Recombination of Specialties // International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. London, 2001. P. 225–228. https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/00153-4.
- Wunenburger J.-J. Du métissage au branchement des cultures, Jean-Loup Amselle Pratiques artistiques post-modernes et hybridité // Gwiazdzinski L. L’hybridation des mondes. Territoires et organisations à l’épreuve de l’hybridation. Grenoble, 2016. P. 45–53. (на фр. яз.).
- Zeldin Th. The notion of hybridity encourages us to investigate // Gwiazdzinski L. L’hybridation des mondes. Territoires et organisations à l’épreuve de l’hybridation. 2016, Grenoble. P. 9–13. (на фр. яз.).