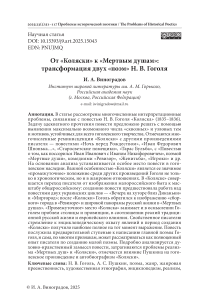От «Коляски» к «Мертвым душам»: трансформация двух «поэм» Н. В. Гоголя
Автор: Виноградов И.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены многочисленные интерпретационные проблемы, связанные с повестью Н. В. Гоголя «Коляска» (1835–1836). Задачу адекватного прочтения повести предложено решать с помощью выявления максимально возможного числа «сквозных» и узловых тем и мотивов, устойчивых для всего гоголевского творчества. Отмечаются многочисленные реминисценции «Коляски» с другими произведениями писателя — повестями «Ночь перед Рождеством», «Иван Федорович Шпонька...», «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», с «Повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», поэмой «Мертвые души», комедиями «Ревизор», «Женитьба», «Игроки» и др. На основании анализа устанавливается особое место повести в гоголевском наследии. Важной особенностью «Коляски» является ее значимое «промежуточное» положение среди других произведений Гоголя не только в хронологическом, но и в жанровом отношениях. В «Коляске» совершается переход писателя от изображения малороссийского быта к масштабу общероссийскому: созданию повести предшествовала работа над повестями двух украинских циклов — «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород»; после «Коляски» Гоголь обратился к изображению «сборного» города в «Ревизоре» и широкой панорамы русской жизни в «Мертвых душах». «Промежуточное» место «Коляска» занимает и в осмыслении Гоголем проблем столицы и провинции, в соотношении реалий традиционной русской жизни и европейского влияния. Свойственное писателю стремление к энциклопедическому охвату явлений в период создания «Коляски» получило наиболее полное на тот момент выражение. Повесть послужила предварительной ступенью к написанию главной поэмы Гоголя, и сама, по многим признакам, может рассматриваться как полноценный опыт писателя по созданию малой поэмы. Подробно анализируется духовно-нравственный замысел повести, затрагиваются проблемы реализма «Мертвых душ» и «Коляски», отмечается влияние Пушкина на гоголевское произведение и автобиографизм «Коляски».
Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, поэма, жанр, жанровая преемственность, художественная этнография, энциклопедизм, реализм, Петербург, Малороссия, провинция, западное влияние, единство творчества, духовное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/147248209
IDR: 147248209 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15043
Текст научной статьи От «Коляски» к «Мертвым душам»: трансформация двух «поэм» Н. В. Гоголя
1. Место «Коляски» в наследии Гоголя: от циклов повестей к «поэме»
С о временем становится все более очевидным, что Гоголь в своих повестях, составивших два его первых украинских цикла, — «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832) и «Миргород» (1834) — дал не только впечатляющую поэтическую картину Малороссии, но и оставил художественную энциклопедию родного края, воплотив жизненный материал в произведениях широкого духовно-этнографического и историкобытового содержания [Виноградов, 2024a: 281–371]. Явившееся в первых циклах стремление Гоголя к энциклопедизму, к исчерпывающему охвату явлений духовной и общественной жизни не осталось в его творчестве, с точки зрения художественного метода, чем-то «неповторимым» — к чему, однажды прикоснувшись, он больше не возвращался. Напротив, тяга к максимально широкому и объемному отражению жизни к окончанию «малороссийского» этапа творчества только возросла и окрепла.
После создания малороссийских повестей Гоголь вынашивал новые, еще более насыщенные житейскими реалиями художественные обобщения. Одним из первых шагов на этом пути стало создание в 1834 г. литературного цикла «Арабески». Под одной обложкой в сборнике — который Гоголь составлял по аналогии со своей рукописной книгой 1826–1830 гг. «Книга всякой всячины, или Подручная Энциклопедия » (курсив мой. — И. В. ) [Виноградов, 2024a: 109] — были собраны воедино произведения самых разных жанров. В «Арабески»
вошло несколько повестей из украинской и петербургской жизни и статей художественно-искусствоведческого, исторического и географического содержания.
Энциклопедизм Гоголя в этом сборнике очевиден, на него обычно обращают внимание. Однако в литературе о Гоголе энциклопедический цикл 1834 г. до сих пор остается неким отдельным «островом», который сам писатель, после предпринятой попытки охватить в нем «все» возможные явления жизни, будто бы навсегда покинул. Основанием для такого понимания «Арабесок» служит, в частности, то, что в 1842 г. сам Гоголь, готовя первое собрание своих сочинений, не стал перепечатывать ранний сборник в полном составе, но взял оттуда лишь три художественных произведения — повести «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего».
Разумеется, судьба раннего цикла чрезвычайно важна для понимания творческого развития Гоголя. Однако становиться поводом для заблуждений эта история тоже не должна. Полагать, будто Гоголь, отказываясь от «Арабесок» как от цикла, распрощался при этом и с самим энциклопедизмом, было бы опрометчиво. Сдержанное отношение к раннему сборнику еще не означает критического отношения к своему творческому методу. Вписав наиболее удачные произведения раннего сборника в новый контекст — в третий том «Повестей» собрания — и отказавшись тем самым от «Арабесок» как возможного отдельного тома сочинений, — Гоголь отнюдь не отложил при этом в сторону едва ли не главное в своем писательском арсенале, с точки зрения содержательной, — всеохватывающее энциклопедическое в и дение.
О том, как определял свое творчество, его цели и задачи сам Гоголь, то есть о том, к чему писатель имел талант, призвание и опыт, позволяет судить содержание одной из его рецензий, написанных в 1836 г. для библиографического раздела «Новые книги» пушкинского «Современника». В рецензии на «Руководство к педагогике…» А. Г. Ободовского [Виноградов, 2025b] Гоголь писал:
«Живой пример сильнее рассуждения, и никогда мысль не кажется нам так высока, <…> как когда облечена она [видимой формою]1, когда разрешается пред нами живым, знакомым миром, когда она, можно сказать, читается духовными нашими глазами из целого создания поэта. Божественный Учитель и Спаситель наш первый открыл эту высокую тайну, облекши святые божест<венные> мысли Свои в притчи, которые слушали и понимали тысячи народов. Итак, мы, сделавши такие великие тысящелетние обходы, наконец возвращаемся к той истине, которая была сказана еще в глубине младенческих сердец наших. И вот уже история показывает умам соединение с философией и образует великое здание. И вот уже везде, во всех нынешних попытках романов и повестей, видно стремление осуществить, окрылить или доказать какую-нибудь мысль…»2.
В художественном творчестве Гоголь видел всеобъемлющее, пронизанное христианским взглядом соединение исторического и современного жизненного материала в «великое здание», в «живой пример».
Уже в 1832 г., то есть вскоре после создания первого малороссийского цикла — «Вечеров на хуторе близ Диканьки», — Гоголь, отправляясь в отпуск на родину, задумал сатирическую пьесу из петербургского быта. Одно лишь перечисление общественных проблем, затронутых в этой пьесе (комедия осталась, к сожалению, незавершенной), показывает, что по их обилию произведение обещало стать настоящей критической «энциклопедией» европейски-«цивилизованного» быта столицы [Виноградов, 2024a: 492–522]. Работа над этим замыслом, получившим название «Владимир 3-ей степени», продолжалась более двух лет, но была оставлена. Причиной этого, по свидетельству П. А. Плетнева, стало именно то, что Гоголь «хотел обнять» в пьесе «слишком много»3.
После издания в 1835 г. новых циклов, «Арабесок» и «Миргорода», Гоголь с осени же этого года приступил, как известно, к созданию «Ревизора» и «Мертвых душ». Количество замыслов, которые предшествовали и сопутствовали этой работе, само по себе впечатляет. С 1832 г. вызревал план «Игроков» (пьеса была опубликована много лет спустя, в 1843 г.). В 1833 г. начата повесть «Нос» (закончена в 1835 г.). К этому же времени относятся первые наброски комедии «Женихи» (позднее пьеса была названа «Женитьбой»; опубликована в 1843 г.). Одновременно с «Коляской» создавалась также драма об английском преобразователе нации «Альфред» (к содержанию этого произведения имеют отношение размышления Гоголя над преобразованиями Петра I [Виноградов, 2024a: 81–95]). Все стороны жизни общества волновали Гоголя одновременно, в одно и то же время «просились» в его произведения, отчего их творческие истории часто пересекаются, порождая множество параллелей и перекличек. В сознании Гоголя всегда носилась широкая панорама общественной жизни, которая постепенно, «частями», воплощалась и «оседала» в его текстах.
Одним из замыслов, получивших воплощение совсем незадолго перед началом работы над «Мертвыми душами» и «Ревизором», стала повесть «Коляска». Это произведение было начато Гоголем во время летнего отпуска 1835 г. (опубликовано в 1836 г. в пушкинском «Современнике»)4.
Однако сравнительно с остальными указанными многочисленными произведениями, над которыми Гоголь работал в ту пору, «Коляска» (повесть сама по себе по объему сравнительно небольшая) заключает в себе некоторые особенности, которые, с одной стороны, заметно отличают ее от прочих замыслов, с другой — служат непосредственным «прологом» и предвестием картин, которые были развернуты затем Гоголем в «сборном» городе «Ревизора» (3/4: 459) и — далее — в такой же всеохватывающей, изображающей общероссийскую действительность «поэме» «Мертвые души».
Как ни мала гоголевская «Коляска» по числу страниц, она тем не менее, как и «Ревизор» и «Мертвые души», носит «энциклопедический», обобщающе-символический характер — тоже заключает в себе «бездну пространства» (7: 278). Последнее выражение («бездна пространства») Гоголь употребил в 1834 г., характеризуя пушкинский гений, — подразумевая при этом, конечно, и свое владение художественным словом. По словам Гоголя (статья «Несколько слов о Пушкине»), в стихах поэта, «одна поэзия <…> всё лаконизм»:
«Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства…» (7: 278).
Позднее, в письме к Н. М. Языкову 1845 г., Гоголь тоже подчеркивал, что поэт как таковой обладает, в отличие от публициста, «высшей силой слова», передает «беспредельные пространства мыслей» (13: 86).
Отличительная особенность гоголевских произведений, кроме их неоспоримых эстетических достоинств, — глубокое содержание и смысл. Однако сравнительно с теми произведениями, которые были написаны Гоголем до «Коляски», богатство мотивов и образов этой повести кажется чем-то исключительным. Образно гоголевское произведение можно назвать «двуликим Янусом». Одной стороной оно обращено к прежним произведениям, к «Вечерам…» и «Миргороду» («Коляска» служит логичным завершением и образным обобщением этих циклов). Другая сторона смотрит в будущее. По широте охвата жизненных явлений повесть, без преувеличения, может быть поставлена в один ряд с созданными позднее «Мертвыми душами».
(С этим «двояким», или «промежуточным», положением в творчестве Гоголя повествовательной «Коляски» связана, кстати сказать, давняя комментаторская проблема, а именно: вопрос о том, к какому конкретно периоду в творческом развитии писателя — «малороссийскому» или «петербургскому» — следует отнести «Коляску»5.)
Чтобы охватить все «беспредельные пространства мыслей», воплощенные в «Коляске», ученым понадобилось немало лет и усилий — и, конечно, исследования эти еще далеки от завершения. Обозначим главные выявленные к данному времени идейно-художественные составляющие повести, которые, по своему совершенству и уникальной множественности, позволяют всерьез «возвести» короткую гоголевскую «Коляску» в «ранг» настоящей поэмы — в гоголевском понимании этого определения, употребленном писателем для обозначения жанра «Мертвых душ».
2. Множественность реминисценций: «Ночь перед Рождеством», «Ревизор», «Лакейская»
В основу замысла «Коляски» положена проблема роскоши и европейских соблазнов. Сатирическому обличению подвергается тщеславная приверженность обитателей провинциального российского городка к предметам «цивилизованного», комфортабельного быта, конкретно — к коляске заграничной работы. Блестящая вещь, «возвышающая» обладателя над заурядным окружением, служит Гоголю «отправной точкой» для анализа состояния современного общества, ядром кристаллизации его «духовной этнографии».
В «Коляске», несмотря на непритязательный, анекдотический сюжет, в полной мере проявляется талант Гоголя как мыслителя, обладающего глубоким энциклопедическим, синкретически-образным мышлением. Такого Гоголя-мыслителя обнаруживает в повести уже то, что в качестве самогó предмета, вокруг которого разворачивается действие «Коляски», избран образ — вернее, полноценный художественный символ, — тесно связанный с недостаточно известной религиозной историософией писателя. Изображение в повести соблазнительной вещи заграничного производства обращает к самым основам исторических взглядов Гоголя на эпоху Нового времени, на итоги европейской промышленной революции. Достоверно сюжет «Коляски» связан с объяснениями Гоголя по поводу возникновения новейшей западной промышленности — в его работах по истории Западной Европы, которые он создавал во время преподавания мировой истории в Патриотическом институте и Императорском университете. Согласно Гоголю, массовое производство предметов роскоши, к числу которых принадлежит вожделенная для героев коляска, представляет собой намеренное обращение европейских производителей к не самым лучшим сторонам человеческой природы и является «конвейером» широко организованного потворства гордости и низменным страстям человека (подробнее см.: [Виноградов, 2010]).
В связи с образом заграничной коляски современным исследователем отмечен, в частности, сугубо языковой, но довольно любопытный и значимый для понимания гоголевской повести факт. Открытие заключается в том, что название одного из дорожных экипажей, упоминаемых в «Коляске», — «четырехместный бонвояж» (3/4: 154) (от фр. «bon voyage» — счастливого пути), — в тогдашнем языке, как выясняется, не употреблялось. В словарях той эпохи, русских и французских, значение слова «бонвояж» как дорожного экипажа не зафиксировано. Не встречается такое название экипажа и в специальных исследованиях, посвященных истории транспорта, в том числе французских. Как убеждает С. А. Пономаренко, слово является индивидуально-авторским образованием Гоголя [Пономаренко: 58–61]. Назначение этого окказионализма заключается, судя по всему, в том, чтобы подчеркнуть в повести именно западное, в данном случае французское, происхождение предметов обольщающего комфорта6.
С темой промышленности и европейских соблазнов связано и само композиционное положение «Коляски» среди других гоголевских повестей. В третьем томе прижизненного собрания сочинений 1842–1843 гг. Гоголь поместил «Коляску» среди «петербургских» повестей («Невского проспекта», «Носа», «Портрета», «Шинели», «Записок сумасшедшего») между «Шинелью» и «Записками сумасшедшего». Соседство в собрании «Шинели» и «Коляски» объясняется, как можно судить по их содержанию, общей темой «экипирования» (выражение Гоголя — 10: 86), снаряжения человека, для удовлетворения естественных потребностей которого современная цивилизация создает предметы обольщающей и развращающей роскоши, преступая при этом апостольскую заповедь: «…попечения о плоти не пре вращайте в похоти» (Рим. 13:14).
В целом с «петербургскими» повестями (а также с отрывком «Рим», замыкающим «петербургский» цикл, с изображением в «Риме» промышленной парижской жизни — с ее «дилижансами», «омнибусами», «экипажным стуком» и «щеголеватостью людей и экипажей»; 3/4: 181–182, 188, 194) повесть о провинциальной глубинке объединяет тема «Петербурга в России», — согласно образному выражению Гоголя, употребленному позднее, в 1848 г. в беседе с М. П. Погодиным: «Спасение России, что Петербург в Петербурге» [Виноградов. Летопись; т. 1: 184]. Похожей проблеме «Петербурга в России», то есть пагубного влияния европейских соблазнов («Петербурга») на русскую жизнь, посвящены в целом и написанные позднее «Мертвые души».
В отличие от «петербургских» повестей, в «Коляске» европейские соблазны «просвещенной» жизни Гоголь показывает на материале провинциальной действительности. Проникновение «цивилизации» в городок Б. — это и бритье бород «деревенским пентюхам» (3/4: 147) (мотив цирюльника в «Носе» и «синоним» петровских преобразований), и распространение в уезде карточной игры7, и употребление местным «аристократом» Чертокуцким приданого жены на «вызолоченные замки к дверям ("узнаваемые" по "Ночи перед Рождеством" [Виноградов, 2000: 254]. — И. В. ), ручную обезьяну для дома и француза-дворецкого» (3/4: 148). В этом же ряду — выписанные Чертокуцким для жены из Петербурга «спальные башмачки» (в чем тоже угадывается сюжет «Ночи перед Рождеством»; см.: [Козлова: 188], [Виноградов, 2000: 254]) и, наконец, сам анекдот повести — «чрезвычайная коляска настоящей венской работы» (3/4: 150; курсив мой. — И. В .).
Упоминание о «ручной обезьяне», приобретенной Чер-токуцким для его «аристократического» дома, определенно перекликается с замечанием одного из героев «Альфреда» о «зверинце» английского короля, сберегаемом для него подданными: «Зверинец твой в исправности» (7: 371). В «Коляске» и «Мертвых душах» герои забавляются породистыми лошадьми и собаками (Ноздрев). Во «Владимире 3-ей степени» и «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» забавы «значительных лиц» скромнее (однако, по Гоголю, так же бездельны): те занимаются домашними собачками и певчими дроздами. Из экзотических увлечений богатых владельцев в XIX в. распространено было также заведение «оранжерей, с дорогими тропическими растениями» (что, «конечно требовало больших денег»8). В неоконченном романе А. С. Пушкина <Дубровский> (1832–1833) упоминается еще одно барское развлечение:
«На дворе у Кирил<л>а Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика» 9 .
В связи с образом «француза-дворецкого» в доме провинциального аристократа Гоголь поднимает также проблему слуг и лакейского «сословия», определяющих своим числом и наряженностью статус «значительного» барина. С этим статусом в доме Чертокуцкого сопряжено, наряду «французом-дворецким», наличие многочисленной дворни — беспробудно спящей (о чем сообщается в замечании о «послеобеденном храпенье двух кучеров и одного форейтора»; 3/4: 154). Праздный быт лакейства, возглавляемого «аристократом»-дворец-ким, подобным барину, Гоголь изобразил в те же годы в еще одном отрывке из «энциклопедического» «Владимира 3-ей степени» — в драматических сценах «Лакейская». Эту тему писатель затрагивал и в сценах «Утро делового человека», напечатанных в «Современнике» вместе с «Коляской» (сцены «Утра…» извлечены из того же незавершенного «Владимира…»). Герой «Утра делового человека» долго не может дозвониться в колокольчик до неторопливого лакея, а домой возвращается после продолжительной карточной игры, как и герой «Коляски», лишь под утро10. «Молча плут» и слуга Хлестакова Осип (согласно вступительной заметке к «Ревизору» «Характеры и костюмы»; 7: 378). Такой же лакейский быт Гоголь изобразил и в повести «Рим» (содержание которой восходит к незавершенному роману «Аннунциата», начатому в 1838 г.):
«При князе были егери, официанты, лакеи, которые ездили у него за коляской, лакеи, которые никуда не ездили и просиживали по целым дням в ближнем кафе или остерии, болтая всякий вздор. Он распустил тот же час всю эту сволочь…» (3/4: 190).
Всеми перечисленными «благами цивилизации», в сравнении с «деревенскими пентюхами», и восхищается «просвещенный» Хлестаков в «Ревизоре»:
«Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты… <…> …подкатить к какому-нибудь соседу помещику с фонарями под крыльцо, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы переполошились все: "Кто такой, что такое?" А лакей входит: "Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?" Они, пентюхи, и не знают, что такое значит "прикажете принять"» (7: 398).
Мотив представительного окружения «значительного лица» Гоголь затронул также в английской драме «Альфред»:
«А французский король набирал себе дружину из людей самых сильных, чтобы <…> когда выедет куда, то и они бы выезжали, чтобы если посмотреть, так хороший вид был» (7: 359).
Немалочисленны параллели «Коляски» и с ранними «малороссийскими» повестями Гоголя. «Вызолоченные замки к дверям» в доме Чертокуцкого (поставленном на европейскую ногу) — «аналог» разглядываемой Вакулой в столичном дворце дверной ручки (которую «немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали»; 1/2: 200). «Царицыны черевики» Оксаны, привезенные Вакулой из Петербурга, угадываются, как указывалось, в «спальных башмачках» жены Чертокуцкого. Но это не единственные знаковые переклички «Коляски» с «Ночью перед Рождеством». Объединяет произведения сам образ провинциальной (деревенской) красавицы, проводящей немало времени перед зеркалом. В «Коляске»:
«Взглянувши на себя раза два, она увидела, что сегодня очень недурна. Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно два часа лишних. Наконец она оделась очень мило…» (3/4: 153–154).
Оксана в «Ночи перед Рождеством» тоже «долго <…> принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою» (1/2: 172). (В свою очередь, оба этих женских образа представляют собой реминисценцию пушкинского стихотворения «Красавица перед зеркалом» (1821; опубл. в 1829) (позднее стихотворение было внесено Гоголем в список примеров «антологической» поэзии в «Учебной книге словесности для русского юношества»; 6: 340):
«Взгляни на милую, когда свое чело Она пред зеркалом цветами окружает, Играет локоном, и верное стекло
Улыбку, хитрый взор и гордость отражает» 11 .)
На то, какую черту Гоголь хотел особо подчеркнуть в героях «Коляски», указывает еще одна немаловажная реминисценция повести с содержанием «Ночи перед Рождеством». Главный из запорожцев, к помощи которых обращается Вакула в «просвещенном» Петербурге, общается с ним, для придания себе значительности, через другого, через «секретаря»:
«— Здравствуйте, панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.
— Что там за человек? — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее» (1/2: 198).
Соответствующие «иерархические» отношения складываются в «Коляске»:
«— Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать, — сказал один молодой офицер.
— Что? — сказал генерал, имевший обыкновение всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорил с обер-офицером» (3/4: 156).
3. Столица и провинция: «Старосветские помещики», «Женитьба», «Мертвые души»
Противоположной, но равнозначной теме «Петербург в России» является проблема «Россия в Петербурге», то есть аналогичный «встречный» вопрос об искажении русской жизни среди цивилизованного окружения. Такой взгляд — образ «России в Петербурге» — Гоголь воплотил в «Женитьбе». Здесь писатель вывел образ провинциальной , среди «просвещенных» столичных женихов, «купеческой» невесты из отдаленной Московской части Петербурга (см. подробнее: [Виноградов, 2025a]). Этому смыслу комедии точно соответствует содержание гоголевских «Петербургских записок 1836 года», где столичному щеголю Петербургу противопоставляется «старосветская», провинциальная, «купеческая» Москва , которая знаменует здесь всю Россию с ее провинциями.
Еще ранее те же проблемы Гоголь поднимал в «Старосветских помещиках» (1834). Здесь тоже анализируются проблемы провинции и «старосветского» быта. В «Старосветских помещиках» Гоголь продолжил размышления над вопросами, которые вставали перед ним еще в 1820-х гг. в Нежине в период создания «Ганца Кюхельгартена», — когда сам он совершал выбор между широкой, общеполезной деятельностью в столице и идиллическим, сытым пребыванием в деревне (см.: [Виноградов, 2024a: 698–731]).
Супруг «матушки» Пульхерии Ивановны в «Старосветских помещиках» — любящий «покушать» Афанасий Иванович, тоже был прежде (как и «аристократ» Чертокуцкий) воином и щеголем: «служил в компанейцах», дослужился до «секунд-майора», «был молодцом и носил шитый камзол» — и «даже увез довольно ловко», против воли родственников, богатую невесту Пульхерию Ивановну (1/2: 283).
В этом мотиве старосветского прошлого Гоголь непосредственно использовал историю женитьбы своего деда Афанасия Демьяновича на богатой наследнице Татьяне Семеновне Ли-зогуб [Виноградов. Летопись, т. 1: 165–167]. Давняя история провинциального (но с «блестящей» прежней карьерой) Афанасия Ивановича Товстогуба — это, очевидно, прошлое кавалерийского героя «Коляски». Чертокуцкий, выйдя в отставку, тоже женился на богатой («взял за нею двести душ приданого и несколько тысяч капиталу»; 3/4: 148) и после «славной» военной карьеры обратился к «идиллической» деревенской жизни. Если выгодно женившийся «секунд-майор» в «шитом камзоле» Афанасий Иванович — это бывший «кавалерист» Чертокуцкий, то, очевидно, что и «старичок» Афанасий Иванович, всецело предавшийся в провинции «процессу житейского насыщения» (7: 53), — это будущее обывателя Чертокуцкого, одного из представителей гоголевской галереи «мертвых душ»12.
Кроме того, со «Старосветскими помещиками» «Коляска» перекликается и упоминанием о «перекрестном разговоре, покрываемом генеральским голосом». Начальственному голосу генерала, который «говорил <…> довольно густым, значительным басом» (3/4: 149), соответствует примечательная черта в описании дома старосветских помещиков — о «повелителе мух» (NB!) шмеле:
«На стеклах окон звенело страшное множество мух, которых всех покрывал толстый бас шмеля…» (1/2: 285).
(Представление о «повелителе мух» — веельзевуле — Гоголь мог почерпнуть в житийной литературе, известной ему еще со времени пребывания в родительском доме в Васильевке [Виноградов. Л етопись, т. 1: 133; т. 6: 166]:
«…Князь ваш бесовский веел<ь>зевул есть, егоже аки идола мух (якоже сказуется имя его) не боюся… <…> и тако мух тех веел<ь>зевуловых отгоняше» 13 .)
Образ веельзевула — «повелителя мух» — с «грозным» «волчье-собачьим» голосом — встречается также в переписанной Гоголем в 1826–1830 гг. «Вирше, говоренной гетьману Потемкину запорожцами на Светлый Праздник Воскресения»:
«Злии духи, власныи мухи вси уже послизли…»; «То Ве<е>льзе-вул <…> / Завив гризно, як вовк ризно 14 , голосом собачим…» (9: 502–503; курсив мой. — И. В .).
Многочисленные реминисценции между «Ночью перед Рождеством», «Старосветскими помещиками», «Женитьбой», «Петербургскими записками 1836 года» и «Коляской» — неизменно пересекающиеся с дихотомией столицы и провинции — еще более слышны в черновой редакции «Коляски», где содержится емкое описание провинциального мира Руси — собирательный образ «внутренности губерний, состоящей из роев теток, дочек, матушек, нянек и добрых толстяков, называемых помещиками»15 (читай: Афанасиями Ивановичами).
На первом месте среди соблазнов, царящих во «внутренности губерний», — обильные застолья и не менее влиятельное женское обаяние. Последнее изображено в облике красавицы-жены Чертокуцкого, а также в описании сонных улиц, оживляющихся при виде «ловких, статных офицеров», и «мещанок», везде сопровождаемых кавалерийскими «усами».
По наблюдению Б. Зингермана, образ обаятельной провинции Гоголь оставил также во втором томе «Мертвых душ», где изобразил кучера Селифана в деревенском хороводе (см.: [Зингерман: 17]):
«Породистые стройные девки, каких трудно было найти в другом месте, заставляли его <…> стоять вороной. <…> …все белогрудые, белошейные <…>. Долго потом во сне и наяву <…> всё мерещилось ему, что в обеих руках его белые руки и движется он с ними в хороводе. Махнув рукой, говорил он: "Проклятые лезли девки!"» 16 .
По словам рассказчика «Старосветских помещиков», в жизни «уединенных владетелей отдаленных деревень» «ни одно желание не перелетает за частокол» их дворика (1/2: 281). К провинциальному герою «Коляски» это определение уже не приложимо. Если в жизни Афанасия Ивановича царят исключительно «местные» соблазны — прежде всего обильное насыщение (не исключая, впрочем, историй в девичьей, «стан» обитательниц которой порой «делался <…> полнее обыкновенного» — что «тем более <…> казалось удивительно, что в доме почти никого не было из холостых людей»; 1/2: 285), то в провинциальном пребывании деревенского «аристократа» Чертокуцкого изображается намного более обширный рой соблазнов — одновременно и местный, «домашний», и «встречный», исходящий из внешнего мира. Соблазны внешние и внутренние, столичные и провинциальные, российские и европейские, обольщения из новейшего, столичного быта и из «старосветского», провинциального, из цивилизованной и деревенской жизни для героя «Коляски» смыкаются. К обольщающему «просвещенному» образу жизни прибавляются «заманки», которые издавна порождает и предлагает провинция. И на деле те оказываются ничуть не «слабее» столичных и «цивилизованных». К тому же по воздействию они не так уж отличны от новейших, но, скорее, им созвучны, во многом их дополняя, а порой даже и «опережая». «Родственность» их являет себя в одинаково чувственном и приземленном характере тех и других — равно «близких» «пошлому», падшему человеку. Здесь Гоголь выступает не только как художник-бытописатель, но и как беспристрастный аналитик, христианский пастырь и психолог.
4. «Коляска» и «Мертвые души»: поэтика реализма (общее недопонимание)
Двойственная и «двуплановая» проблематика «Коляски» — ее «пограничность» между петербургским и провинциальным бытом — и, одновременно, тесное сочетание в повести «ду-шеведения» и бытописания — ставит вопрос о характере гоголевского реализма. Известно, что с завершением «Мертвых душ», задуманных как широкое эпическое полотно в трех томах, Гоголь связывал не только раскрытие «тайны» его «поэмы», но и разрешение «загадки» собственной жизни — об этом он писал в 1842 г. друзьям: А. С. Данилевскому, В. А. Жуковскому, С. Т. Аксакову [Виноградов. Летопись, т. 4: 137]. Позднее, в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу "Мертвых душ"» в «Выбранных местах из переписки с друзьями», на вопрос о том, почему его герои, «будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, <…> неизвестно почему близки душе», Гоголь отвечал:
«…все мои последние сочинения — история моей собственной души» (6: 81).
В статье «О Современнике» он еще раз подчеркивал:
«У меня никогда не было стремленья быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть…» (6: 211);
«Все мною написанное замечательно только в психологическом значении…» (6: 210).
В исследовательской литературе давно уже делались попытки как-то объяснить эти гоголевские высказывания. В частности, С. А. Венгеров в 1913 г., приводя ряд фактов биографии писателя, выдвинул весьма смелое предположение, перешедшее тут же в утверждение: Гоголь «совсем не знал русской действительности», в основе «Ревизора» и «Мертвых душ» почти нет реальных наблюдений, и великорусский быт, Россию, русскую провинцию писатель «не только никогда не наблюдал, но даже и возможности наблюдать не имел» [Венгеров: 123].
В 1924 г. мнение С. А. Венгерова поддержал В. В. Гиппиус, включив в число произведений, в которых якобы отразилось «незнание» Гоголем русской действительности, «Коляску»:
«В том же 35 году, когда начаты "Мертвые души", Гоголь делает пробу изображения провинциальной жизни в рассказе "Коляска", но в жанровых картинах не дает ничего нового по сравнению с "Миргородом", а типы берет из военной среды, собственно "провинциального" в этом рассказе нет почти ничего, а самое ценное в нем — комический эффект находки спрятавшегося — эффект, принадлежащий фарсово-водевильной традиции. Русской провинции Гоголь не знал фактически, это было давно замечено и не так давно с особой энергией подчеркнуто (С. А. Венгеровым), и Гоголь никогда этого не скрывал, признавался, что "провинция слабо рисуется в его памяти", что только петербургская жизнь могла бы дать его творчеству материал личных наблюдений» [Гиппиус, 1924: 136].
Справедливости ради надо отметить, что некоторые основания для таких категорических выводов у исследователей были. Еще в 1830 г. на предположение матери, что роман А. К. Бошняка и П. П. Свиньина «Ягуб Скупалов» написан им — ее сыном, Гоголь отвечал:
«Сфера действия этого романа во глубине России, где до сих пор еще и нога моя не была. Если бы я писал что-нибудь в этом роде, то верно бы избрал для этого Малороссию, которую я знаю, нежели страны и людей, которых я не знаю ни нравов, ни обычаев, ни занятий» (10: 148).
С 1829 г. вплоть до отъезда за границу в 1836 г., где главным образом создавались «Мертвые души», Гоголь прожил почти все время в Петербурге (совершив лишь две летние поездки на родину в 1832 и 1835 гг.). 15 мая 1836 г., когда поэма была начата (а «Коляска» уже напечатана), он признавался М. П. Погодину:
«Провинция уже слабо рисуется в моей памяти, черты ее уже бледны…» (11: 54).
Современные Гоголю критики из его недоброжелателей (Ф. В. Булгарин, Н. И. Греч, О. И. Сенковский, Н. А. Полевой, барон Е. Ф. Розен) также отрицали сходство гоголевских изображений с отечественной действительностью. Да и сам Гоголь, получив известие о переводе первого тома «Мертвых душ» на немецкий язык, писал 8 января (н. ст.) 1846 г. Н. М. Языкову:
«…этому сочинению неприлично являться в переводе ни в каком случае до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы иностранцы впали в такую глупую ошибку, в какую впала большая часть моих соотечественников, принявшая "М<ертвые> д<уши>" за портрет России» (13: 255).
И все-таки суждения С. А. Венгерова и В. В. Гиппиуса нельзя признать справедливыми. «Если Гоголь (по собственному его смиренному сознанию) не вполне знал Россию, — замечал в 1852 г. младший современник писателя, Г. П. Дaнилевский, — то кто же из нас может таким знанием похвалиться. <…> По крайней мере, сравнительно, едва ли кто так художественно, так многосторонне взглянул на Россию, как Гоголь»17. Сами гоголевские произведения свидетельствуют о том, что мало было на Руси писателей, кто обладал бы таким даром наблюдательности и так знал Россию, как Гоголь. На этот счет имеются и собственные гоголевские высказывания.
12 ноября (н. ст.) 1836 г. Гоголь писал В. А. Жуковскому из Парижа:
«Мертвые текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся православная Русь» (11: 84).
В <Авторской апологии> (или, как чаще, но не вполне адекватно, называют это произведение, <Авторской исповеди>18) Гоголь замечал:
«Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. <…> Чем более вещей принимал я в соображенье, тем у меня верней выходило созданье» (6: 229).
По «мелочам и подробностям», признавался Гоголь в письме к А. О. Смирновой от 27 января (н. ст.) 1846 г., ему удавалось «узнать многое <…> в человеке, вовсе не мелочное, которое иногда он не только не открывает другим, но и сам не знает» (13: 259).
Одна из особенностей реализма Гоголя в том и заключалась, что душевное состояние человека он постигал и изображал через окружающий быт, в частности, через «страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь», — на что прямо указывал в начале седьмой главы первого тома «Мертвых душ» (5: 129). Внешний реалистический рисунок потому и был так убедителен в его произведениях, что скрывал в себе правду более глубокую — душевную. Не случайно Пушкин, «который так знал Россию» (6: 83), давший, по свидетельству Гоголя, ему сюжет будущей поэмы, тоже принял «Мертвые души» за «портрет России» (13: 255):
«…когда я начал читать Пушкину первые главы из "Мертвых душ", в том виде, как они были прежде, — рассказывал Гоголь, — то Пушкин <…> произнес голосом тоски: "Боже, как грустна наша Россия!" <…> Пушкин <…> не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души…» (6: 83; «Четыре письма к разным лицам по поводу "Мертвых душ"»).
Это особое свойство гоголевского реализма, сочетающего в себе глубокое проникновение в тончайшие излучины души с детальным бытописанием, хорошо поясняют строки самого Гоголя из упомянутой рецензии 1836 г. для пушкинского «Современника» на книгу А. Г. Ободовского «Руководство к педагогике…». Здесь Гоголь настаивает на притчеобразном характере современных «романов и повестей»:
«Живой пример сильнее рассуждения, и никогда мысль не кажется нам так высока, <…> как когда <…> разрешается пред нами живым, знакомым миром…» (7: 495).
Спустя десять лет, в письме к А. О. Смирновой от 22 февраля (н. ст.) 1847 г., Гоголь повторял:
«Не будут живы мои образы, если я не сострою их из нашего материала, из нашей земли, так что всяк почувствует, что это из его же тела взято. Тогда только он проснется и тогда только может сделаться другим человеком. Друг мой, вот вам исповедь литературного труда моего» (14: 123).
На сокровенный, связанный с «душевным делом» замысел поэмы, оставшийся недоступным читателю, Гоголь намекал и в письме к А. О. Смирновой от 25 июля (н. ст.) 1845 г. (13: 153). Принципиальным для замысла «Мертвых душ» (и «Ревизора») является и сочетание в поэме и комедии петербургских и провинциальных реалий.
Эти многочисленные свидетельства и признания самого Гоголя по поводу его поэмы в полной мере могут быть отнесены и к «Коляске» — создававшейся в период начала работы над поэмой и комедией. («Сюжет» «Мертвых душ» был получен Гоголем от А. С. Пушкина в начале сентября 1835 г. [Виноградов. Летопись, т. 2: 428]; «мысль "Ревизора"» была сообщена в конце октября 1835 г. [Виноградов. Летопись, т. 2: 450]; «Коляску» Гоголь передал П. А. Плетневу для А. С. Пушкина в конце сентября — начале октября 1835 г. [Виноградов. Летопись, т. 2: 446].)
Характер воспроизведения действительности в «Мертвых душах» и «Ревизоре», — или, по-другому, главные художественные принципы писателя, — органично присущи и «Коляске», изображающей значение Петербурга для провинции и сочетающей в себе этнографическую наблюдательность с душевным анализом. Что же касается знания Гоголем провинции, то из южнорусских городков он был хорошо знаком — кроме Миргорода, Полтавы, Лубен, Кременчуга, Ромен, Батурина, Конотопа, Глухова, Гадяча — с провинциальным Нежином, в котором провел, обучаясь в гимназии, семь лет, с 1821 по 1828 г., и который стал первым предметом гоголевского душеведения. Обличительно-этнографическую панораму провинциального городка он составил уже в 1826 г., изобразив уездный Нежин — с «наиболее» «характеристическими чертами» его «сословий» — в несохранившейся сатирической поэме «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан» [Виноградов 2024a: 229–231]. Именно из Нежина Гоголь осаждал родителей письмами прислать за ним, при отправлении на летние каникулы, красивую коляску19. Нежинские (и еще более ранние полтавские) впечатления, сказавшиеся в «Иване Федоровиче
Шпоньке…» — повести, во многом родственной «Коляске»20, — тоже указывают на то, что городком, который Гоголь хорошо знал и который изобразил в «Коляске», был либо Нежин, либо Полтава.
5. Соблазны местные и столичные
В женских и гастрономических образах «Коляски» Гоголь, автор «Ночи перед Рождеством», «Старосветских помещиков», «Женитьбы», поднимает, таким образом, тему «своих», деревенских искушений — но таких, которые вполне соответствуют новейшим петербургским соблазнам. Соблазны столичные и местные, новые и «древние», ведущие свое начало от первого грехопадения, обольщения как провинциальные, так и столичные, переплетаются и наслаиваются в самой жизни героев. К природной красоте жены Чертокуцкий заказывает петербургские «спальные башмачки» (3/4: 153). Для лошади Аграфены Ивановны, «крепкой и дикой , как южная красавица» (3/4: 150) (курсив мой. — И. В .), генерал ожидает модную коляску из Петербурга (3/4: 150).
Соответствующие этим сближения, комические и не комические, встречаются у Гоголя в черновой редакции «Женитьбы» («…хорошая красавица то же почти самое, что хорошая ло-шадь…»21), в описании скачки Хомы Брута с ведьмой в «Вии». Отмечено, что имя лошади образовано от латинского «Агриппина», а то, в свою очередь, — от мужского имени Агриппа, соединяющего в себе греческие слова «agrios» (дикий) и «ippos» (конь) [Вранчан, 2019: 358]. Высказано также предположение, что в именовании «Агриппина» может быть заключен намек на светскую красавицу Аграфену Федоровну Закревскую, жену генерал-губернатора А. А. Закревского, а также на стихотворение А. С. Пушкина «Подражание Анакреону» («Кобылица молодая, / Честь кавказского тавра…») (опубл. в 1828 г.22) [Вранчан, 2019: 358].
Замысел «Коляски» — как произведения о связанных между собой столичных и провинциальных, старых и новых соблазнах — проясняют сходные мотивы в других гоголевских произведениях — реплика о модной коляске в черновых набросках «Владимира 3-ей степени»:
«Эх, куплю славных рысаков! Только и речей будет по городу, что про лошаденку Закатищева. Хотелось бы и колясчонку, только уж зеленую. Желтого цвета никак не хочу!» (7: 136).
Этот мотив был воплощен позднее Гоголем в драматическом «Отрывке»:
«Может быть, на всем гулянье <…> одна или две такие коляски! Так обо мне везде заговорят»: 3/4: 435).
С сюжетом «Коляски» — произведения, предметом интереса героев которой является «барская ездовая повозка с половинчатым верхом и на пружинах»23, — перекликается упоминание в повести «Рим» (1842) об итальянце «сьоре Сервилио», который в преддверии карнавала «усадил все деньги на чудовищную скрипку», «на шести колесах», «чтоб проехаться с нею по всем улицам» (3/4: 212). Подобно всем этим персонажам, герою «Коляски» тоже хочется показать нечто, возвышающее его над серой (далеко не идеализируемой Гоголем) провинциальной средой, блеснуть перед заезжими офицерами своей «просвещенностью». Знáком такого отличия, своего рода «орденом» Чертокуцкого, и становятся его «довольно хорошенькая» жена с богатым приданым и заграничная коляска. Тщеславие и эгоизм — «я», кроющееся за этими приобретениями, как бы и открывает Гоголь комическим финалом повести.
6. Автобиографизм «Коляски»
«Коляска», написанная в 1835 г., носит отчасти автобиографический характер. В 1824 г. гимназист Гоголь в письме к родителям от 13 июня просил прислать за ним и его школьными приятелями (с которыми он отправлялся на летние каникулы) «желтую коляску с решетками и шестеркою лошадей» (10: 21; курсив мой. — И. В.). С такой же просьбой шестнадцатилетний Гоголь обращался к матери год спустя, 10 июня 1825 г.:
«Также еще я просил вас, маминька, чтобы вы за нами, ежели можно, прислали маленькою желтинькою коляскою, которая тогда, как я был, поправлена была в Кибенцах 24 » (10: 31).
16 ноября 1826 г. Гоголь еще раз писал матери из гимназии: «…пришлите за мною, ежели можно, тою самою бричкою, которую вы брали и тогда у дядиньки Андрея Андр<еевича><Трощинского> 25 , она весьма легка и не трясет, и мало лошадей нужно, и выгодна» (10: 46).
Спустя неделю он добавлял:
«Мне кажется, что навряд ли выпадет большой снег и состоится хорошая зима, а посему за мною можно будет <прислать> лёгонькую бричку, в случае же снегу и зимы маленькую кибитку, только не ту тяжелую» (10: 46–47).
В 1828 г., незадолго до выпуска из гимназии, Гоголь писал: «Теперь, я думаю, можно уже для меня приготовить бричку попространнее, по крайней мере такую, в какой, помните, я возвращался прошлый год в Нежин, Андрей Андреевич верно не откажет в ней…» (10: 87).
Судя по письмам юного Гоголя, «психологию» героя, разъезжающего в красивой коляске, — феномен Фаэтона [Штаб, 2011a: 83; 2011b: 52–53], писатель знал изнутри.
7. Общество потребления
В целом герои «Коляски» — типичные представители «общества потребления» [Виноградов, 2010]. Соответствующие замыслу повести размышления о потребительском обществе встречаются, в частности, в гоголевской лекции «Состояние Восточной Римской империи во время религиозных споров, битв с персами и завладения земель ее арабами», написанной в 1834 г., за год до создания повести. Говоря здесь о чувственном изобилии древнего мира, Гоголь замечал:
«Восточную империю составляли три счастливые берега трех частей света: Европы, Азии и Африки с теплым и роскошным климатом. Азия, Великая и Малая, доставляла все южные произведения, клонившиеся к утонченной роскоши, <…> всё, что могло удовлетворить прихоти того века; <…> Египет доставлял самую нужную потребность для всей империи: хлеб <…>. Греческая Европа была только потребительницею всех этих богатств» (8: 167; курсив мой. — И. В .).
Обильные угощения, которым предаются в «Коляске» офицеры и городские обыватели («осетрина, белуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы <…> фрикасеи и желеи…»; «паштеты и соусы»; 3/4: 149, 151), составляют для героев настоящий «смысл» их существования, «поэзию» и вдохновляющий «задор» жизни (подробнее см.: [Виноградов, 2024а: 720–723]). «Мораль» такого общества разделяет, в частности, Хлестаков в «Ревизоре»26:
«Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия» (3/4: 252);
«Как же они едят, а я не ем?» (3/4: 240). — «Ведь для того живешь, не правда ли» 27 .
Главный герой «Коляски» «вторит» Хлестакову:
«— Я, ваше превосходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую, а если дурную, то нечего и заводить» (3/4: 151).
Венской коляске и «спальным башмачкам» из Петербурга соответствует, согласно гастрономическим пристрастиям героев повести, и присланный генералу «из Риги какой-то необыкновенный ром и удивительный шнапс»28. («Что касается в особенности до Риги, смело можно сказать, что торговля была давнею и единственною благодетельницею ее…»29.)
В повести затрагивается и тема соблазнительной рекламы: «…подушки, рессоры, — это все как будто на картинке нарисовано» (3/4: 151).
Эту тему Гоголь неоднократно поднимал в других произведениях (см.: [Виноградов, 2000: 132, 134], [Вранчан, 2006: 34]). Так, витриной дорогого модного магазина выглядит в «Тарасе Бульбе» польская сторона:
«Все высыпали на вал, и предстала пред казаков живая картина… <…> Кафтаны с откидными рукавами, шитые золотом и просто выложенные шнурками. У тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны [на убранство которых не один жертвовал лучшим достоянием своим], и много было всяких других убранств», — «хоть за стекло», добавлял Гоголь в черновой редакции 30 .
Перед нами как бы реклама соответствующего образа жизни. Как замечал Гоголь в отрывке, дополнившем в 1841 г. первую главу «Тараса Бульбы», многие из русского дворянства «перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы» (1/2: 308), — все то, что составляло для тогдашнего времени «последнюю моду» (и что было «не по сердцу» Тарасу, любившему «простую жизнь казаков»; 1/2: 308):
«Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было из них ни на ком золота; только разве кое-где блестело оно на сабельных рукоятях и ружейных оправах» (1/2: 365).
В «Невском проспекте» рассказчик обращается к читателю:
«Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций» (3/4: 39).
«Честный, но близорукий богач», пояснял позднее Гоголь свою мысль в статье «Нужно проездиться по России», «убирая свой дом и заводя у себя все на барскую ногу (превращая его в роскошный "магазин", в витрину. — И. В .), вредит соблазном, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, который из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чуждое имущество, грабит и пускает по миру людей…» (6: 95).
«Словом, — заключал Гоголь, — гоните эту гадкую, скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и мерзостей, какие у нас есть» (6: 98; «Что такое губернаторша»).
Мысль Гоголя восходит к словам св. апостола Павла в Послании к Римлянам:
«Для пищи не разрушая дела Божия: все чисто; но худо тому, кто ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого , от чего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (Рим. 14: 20–21) 31 .
С критикой европейского влияния, в данном случае сухой и бездушной регламентации, связано упоминание в начале повести о том, что «садики», находившиеся прежде вокруг «низеньких мазаных» украинских «домиков», городничий, «для лучшего вида», «давно приказал вырубить» (3/4: 146). Этот мотив повторяется у Гоголя неоднократно. Он встречается в статье «Об архитектуре нынешнего времени» (1834), в описании дома Манилова во второй главе «Мертвых душ», в изображении сада Плюшкина в шестой главе. Отмечено, что, упоминая в «Коляске» о вырубленных «садиках», Гоголь подразумевал модную европейскую практику стрижки садов [Падерина: 116–117].
В статье об архитектуре:
«Мне всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся <…>. Всем строениям <…> стали давать совершенно плоскую, простую форму. Домы старались делать как можно более похожими один на другого; но они более были похожи на сараи или казармы <…>. И этою архитектурою мы <…> тщеславились <…> и настроили целые города в ее духе! <…> …новые города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую. Это ряд стен, и больше ничего» (7: 255, 260).
Такую же европейскую модную скудость являет поместье Манилова:
«Дом господский стоял одиночкой <…> на возвышении, открытом всем ветрам, <…> покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы…» (5: 23).
Сад Плюшкина тоже демонстрирует жесткую и холодную регламентацию, исправленную, однако, временем и природой:
«…все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубо-ощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности» (5: 110).
8. Проблемы брака
В «Коляске» Гоголь продолжил и давние, начатые еще в «Ганце Кюхельгартене» и «Вечерах на хуторе близ Диканьки» размышления о женитьбе32. Вопрос о браке Гоголь решал, как и в других произведениях (в частности, в комедии «Женитьба»), в свете христианской иерархии ценностей:
«…донележе бо естество человеческое не бе в лице Христовом <…> соединено с Божеством <…>, дотоль супружество выше девства бяше. <…> Егда же человеческое естество во Иордане ста, и осени над ним Святый Дух, тогда абие выше супружества ро-дися девство… <…> …Якоже дух честнейший есть плоти, сице девство, соединяющееся во един дух с Господем, честнейши есть плотского в супружестве союза» 33 .
В житии преподобного Исидора Пилусиотского тоже говорится, что святой в своих посланиях «девство <…> паче иных многих похваляет добродетелей, <…> обаче не уничижает и супружества честнаго, глаголет бо <…>: солнцу упо-добити подобает девство хранящих, луне вдовствующих непорочно, звездам же в супружестве честно живущих»:
«Сие же, последующе святому апостолу Павлу, глаголющему: ина славу солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам (1 Кор. 15, стих 41)» 34 .
Изображение семейного быта в «Коляске» — «пульпульти-ка» и «моньмуни» (3/4: 154–155) («пуньпуни»35) Чертокуцких — предваряет описание слащавого семейства Маниловых в «Мертвых душах» (см.: [Гиппиус, 1924: 157–158], [Баранов: 49]):
«Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: "Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек"» (5: 26).
Вместе с тем «женский вопрос» всегда был связан у Гоголя с обличением разорительной роскоши. Так, Чичиков после широкого губернского бала с раздражением рассуждает:
«Невидаль, что иная навертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков или, что еще хуже, на счет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того чтобы жене достать на шаль или на разные роброны…» (5: 169) 36 .
В этом мотиве Гоголь частично наследовал А. С. Пушкину. В 1822 г. в «Послании к цензору» (1822) поэт с полусарказмом замечал, что оправдывать недостойное поведение ссылкой на семейные обстоятельства — на «жену и детей», не следует:
«Жена и дети, друг, поверь — большое зло От них все скверное у нас произошло!» 37 .
В <Переписке с друзьями> Гоголь подчеркивал:
«…большая часть взяток, несправедливостей по службе <…> наших чиновников и нечиновников всех классов произошла <…> от расточительности их жен» (6: 14; «Женщина в свете»).
Об этом же он замечал в 1844 г. в статье «О том, что такое слово» («…всякий <…> судья может оправдаться <…>, что брал взятки <…>, складывая вину <…> на жену, на большое семейство…»; 6: 19–20); в послании к матери и сестрам от 5 июня 1851 г., отправленном в связи с близящимся замужеством сестры Елисаветы:
«…брак <…> теперь <…> ряд новых нужд, новых тревог, убивающих, изнуряющих забот. <…> И как вспомнишь, сколько в последнее время дотоле хороших людей сделались ворами, грабителями, угнетателями несчастных из-за того только, чтобы доставить воспитанье и средства жить детям, и вся Россия наполнилась разоряющими ее чиновниками» (15: 415).
(Тем не менее Гоголь тогда же, несмотря на недостаток средств, приобрел в Москве в качестве свадебного подарка сестре четырехместную коляску [Виноградов. Летопись, т. 7: 105, 129, 153–155, 193–194]. Несколько записей, связанных с этой покупкой, сохранилось в его записной книжке 1842–1851 гг. (9: 672–673). Сам он пользовался старой коляской, о чем 4 марта 1851 г. писал матери из Одессы:
«О моем выезде наверно еще ничего не могу сказать. Все будет зависеть от погоды и как установится дорога. По дурной дороге отваживаться нельзя в не весьма крепкой колясчонке, и без того уже пострадавшей в распутную осеннюю дорогу прошлого года»; 15: 401.)
О разорительности «просвещенного» образа жизни замечает также во втором томе «Мертвых душ» помещик Хлобуев, обремененный большим семейством:
«Храни Бог, чтобы из-за меня, из-за доставки мне жалованья прибавлены были подати на бедное сословие: и без того ему трудно при этом множестве сосущих» (5: 318).
9. Отношение к военным
Еще в 1834 г., изображая в «Тарасе Бульбе» быт воинственных запорожцев, Гоголь, наряду с мыслью о главном призвании воина — принесении литургической жертвы «за други своя» (Ин. 15:13) [Виноградов, 2009: 489–494; 2018: 16–23] — воплотил предупреждение о том, что мешает осуществлять это высокое служение: личные недостатки и пороки человека, избравшего для себя воинское поприще. Кроме непосредственного изображения этих явлений в «Тарасе Бульбе», Гоголь сравнивал также, подспудно, разгульный быт запорожцев с выведенными им ранее в повести «Иван Федорович Шпонь-ка и его тетушка» (1831–1832) нравами П *** пехотного полка. Соответствующая критика недостойных представителей военного сословия была продолжена и в изображении офицерского быта в «Коляске». Из главных пороков воинов в «Коляске» отмечаются их пьянство, тщеславие; в числе других черт изображается пристрастие к азартным играм (подобным играм запорожцев в «Тарасе Бульбе» «в чехарду, в чет и нечет» (1/2: 340), в мену добытым оружием), а также приверженность героев к увлекательным россказням: «раздобарам» (1/2: 272), «балагурам» (7: 206) и «болтовне» (1/2: 322).
В «Коляске», наряду с рассказом одного помещика, «служившего еще в кампанию 1812 года», о какой-то небывалой баталии («…рассказал такую <…>, какой никогда не было…»; 3/4: 153), к патриотической теме в повести имеет отношение упоминание рассказчика о том, что «дородных животных», валяющихся в грязи, — свиней, — городничий «называет французами» (3/4: 146). По замечанию исследователя, в этом проявляется «своеобразный патриотизм городничего» [Семенов: 78].
Параллелью к праздному быту, в котором обретаются в мирное время боевые офицеры «Коляски», могут служить также образы первой редакции повести «Портрет» (1834), где упоминаются «артисты» петербургской Коломны, которые проводят время, играя «с пришедшим приятелем в шашки или карты» (7: 306). С фамилией героя «Портрета» — Чертков — определенно перекликается фамилия героя «Коляски» — Чертокуцкий ( по мнению исследователей, такое именование подразумевает выражение «куцый черт» (см.: [Garrard: 859], [Золотусский: 173], [Кривонос, 1998: 10], [Козлова: 191], [Bes-prozvany: 29], [Третьяков: 30]) ) .
В свое время А. Белый (Б. Н. Бугаев), следуя взглядам В. Ф. Переверзева, утверждал, будто в образе Довгочхуна в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (и позднее в образе Собакевича в «Мертвых душах») Гоголь «бессознательно» создал пародию на романтический образ Тараса Бульбы ([Белый А. <Бугаев Б. Н.>: 15–18, 168]; см. также: [Зингерман: 19]). Нападки на армию были в духе эпохи, в которой само слово «патриотический» было под запретом — для потребностей защиты отечества в то время употреблялось слово «оборонный», а сам «Тарас Бульба» был надолго, вплоть до Великой Отечественной войны, из школьной программы выброшен [Виноградов, 2022: 119, 141–149]. В послевоенные годы Г. А. Гуковский возражал А. Белому: «Разумеется, повесть о двух Иванах не есть пародия на "Тараса Бульбу", что нелепо как по хронологическим соображениям, так и по существу <…>. Идеал "высокого" в человеке, отрицательно присутствующий в Довгочхунах, <…> дан в открытую в "Тарасе Бульбе"; он и измеряет глубину падения героев повести об Иванах» [Гуковский: 132–133].
Точно так же ошибочно принимать за «пародию» на «казачье братство во главе с Тарасом Бульбой» и изображение в «Иване Федоровиче Шпоньке…» и «Коляске» недостойного поведения офицеров «П *** пехотного» и « *** кавалерийского» полков, как это делает один из современных исследователей [Козлова: 188–189]. Такие интерпретации представляют собой отголоски старых вульгарно-социологических толкований повести в первой половине — середине XX в. Опровергая нападки А. Белого на образы запорожцев, Г. А. Гуковский также замечал, что в «Ревизоре» Гоголь «потому и не изобразил <…> военную часть государственной машины, что считал ее необходимой»: «Ведь и в Сечи у Гоголя — военная власть есть , и она имеет огромные полномочия…» [Гуковский: 411]. Однако взгляд Г. А. Гуковского опять был оспорен со стороны приверженцев радикальных интерпретаций. Ю. В. Манн, возражая Г. А. Гуковскому, вновь возвращался к привычным социологическим схемам В. Ф. Переверзева и А. Белого и приводил при этом в пример «Коляску»: «Но ведь писал же Гоголь о военных, причем с явно комической, снижающей интонацией, в других произведениях, например, в "Коляске"!» [Манн: 197]. Между тем пафос гоголевского обличения с очевидностью направлен не против «офицерского братства» как такового (как это представлялось комментаторам; см. также: [Козлова: 188]), но против не исполняющих свой долг «мертвых душ», порочащих любое высокое звание — в том числе призвание воина, исполняющего заповедь Спасителя о любви к братьям (Ин. 15:13). По поводу отрицательного образа чиновника или военного сам Гоголь в «Театральном разъезде после представления новой комедии» (1836–1842) писал:
«Ведь вот вы какие, господа военные! <…> …затронь как-нибудь <…> готовы с жалобой полезть в самый Государственный совет. <…> …но <…> есть много истинно рассудительных людей, которые будут рады всегда, если будет выведен на всеобщее осмеяние пор очащий свое званье » (3/4: 452; курсив мой. — И. В .) 38 .
10. «Коляска» и «Игроки»
Многочисленные переклички повесть «Коляска» обнаруживает с комедией «Игроки» (1832–1842). Сходство проявляется в описании карточной игры, в том числе шулерской. Кроме изображения противозаконной азартной карточной игры на вечере у генерала — c участием «страшного шулера» майора39 (значимым при этом является то, что азартные игры в России, и вообще игры на большие суммы, с 1832 г. официальным указом императора Николая I были запрещены; см.: [Виноградов, 2020: 76]), игорные пристрастия обличаются в других характеристиках героев. Так, благодаря давнему карточному выигрышу обладателем обсуждаемой модной коляски становится Чертокуцкий. Вследствие игры много раз из рук в руки переходят в полку «дрожки», которые поэтому «можно было назвать полковыми» (3/4: 147). Содержание «Игроков» отзывается в «Коляске» и в похожем облике кавалерийских офицеров (в повести) и мнимых гусаров (в комедии) (см.: [Шенрок: 289], [Катранов: 26–27]); в нескольких первоначальных фамилиях главного героя в черновой редакции «Коляски» (Кропотов, Крапун, Крапушкин40). Реплика Чертокуцкого об отношениях с его закадычным приятелем, «товарищем детства», от которого он получил коляску, с очевидностью повторяет «мораль» шулера Утешительного в «Игроках». В «Коляске»:
«Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, <…> мы с ним — что твое, что мое, все равно. Я выиграл ее у него в карты» (3/4: 151).
В «Игроках»:
«В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мною в карты — я обыграю отца» (3/4: 379).
Эти «родственные» «Игрокам» и «Коляске» черты все вместе еще раз представляют картину общества, подавляющее большинство которого составляют, несмотря на Высочайший запрет азартных игр, любители ломберного стола, готовые либо обыграть друг друга (как это происходит в «Ревизоре» (1835–1842); «…у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей», — жалуется на городничего смотритель училищ; 3/4: 254), либо обмануть новичка («Ноздрев <…>, когда прочитал в записке городничего, что может случиться пожива, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, <…> запер комнату наскоро ключом <…> и отправился к ним»; 5: 201).
Сходство между «Коляской» и «Игроками» обнаруживается и в одинаковым именовании предметов гордости героев по имени и отчеству (лошадь Аграфена Ивановна — колода карт Аделаида Ивановна); в размышлениях о мирских утешениях — упомянутых вдохновляющих «задорах» жизни41; и в южнорусской географии произведений. Помимо прямых указаний в «Коляске», что действие повести разворачивается в «южном» городке, в «летний южный день» (3/4: 154), в черновой редакции сообщалось о том, что герой собирался стать «маршалом» (и потому «дал дворянству прекрасный обед»42). «Маршалами» назывались до 1831 г. губернские и уездные предводители дворянства в Малороссии. Статья создавалась в период поездки Гоголя на родину летом 1835 г. и после возвращения его оттуда. Не замеченной редакторами сочинений Гоголя опиской , связанной с украинскими реалиями, является в «Коляске» слово «ковшики» во фразе:
«Соберутся ли на рынке с ковшиками мещанки…» (3/4: 147).
Речь в данном случае идет не о «ковшиках», а о «к о шиках» — корзинах, кошелках. Это слово зафиксировано В. И. Далем в Тульской губернии43; включено Б. Д. Гринченко в словарь украинского языка44.
Исправленное слово, несомненно, важно для понимания целостного замысла повести. Кошелки-«кошики» собравшихся на рынок за продуктами «мещанок», из-за плеч которых «выглядывают» воинские «усы» (3/4: 147), представляют собой как бы самое средоточие пришедшей в движение жизни южного городка, обобщающий образ, подразумевающий и самое главное событие «повеселевшего» общества — «большой обед» у генерала, для которого был «забран» «весь рынок», так что судье, состоящему в соблазнительном сожительстве с «диа-коницею», осталось только «поститься» — вынужденно есть «лепешки из гречневой муки да крахмальный кисель» (3/4: 147).
11. Место повести в «малороссийском» и «петербургском» циклах
Н. К. Пиксанов писал: «"Коляску" мы <…> включаем в украинский цикл и признаем вместе с тем, что ее социальный материал — уже не мелкопоместный» [Пиксанов, 1931: 67]; «…"Коляска" <…> близко подходит к группе повестей об уездном дворянстве. "Уездный городок Б." как две капли воды похож на тот городок, где развертывается ссора Перерепенка и Дов-гочхуна45<…>. Отставной офицер Чертокуцкий аналогичен "дальнему родственнику" — поручику, такому же "страшному реформатору ", как и Чертокуцкий, что выведен в финале
"Старосветских помещиков"46. Словом, "Коляска" <…> тесно примыкает к украинским повестям. <…> Впрочем, она <…> просто мастерски рассказанный анекдот, причем бытовые черты имеют для него подчиненное значение» [Пиксанов, 1933: 118–120]47.
В. В. Гиппиус добавлял: «"Коляска" написана в 1835 г., возможно, в связи с обновлением украинских впечатлений, так как повесть внешним образом прикреплена к "одному из южных городов". В ней нет, однако, ничего (кроме деталей) специфически украинского, а военный типаж и подавно лишает ее узко-местного колорита» [Гиппиус, 1966: 113].
12. «Законы» светской жизни: этикеты, наряды, балы, обеды, коляски
Очевидно, что, несмотря на новые украинские впечатления 1835 г., Гоголь уже приобретал ко времени создания «Коляски» взгляд общероссийский. Тем не менее реальным комментарием к содержанию «южно-русской» (и общероссийской) повести может служить, все-таки, свидетельство одного из гоголевских земляков, чья статья, напечатанная в 1850 г. в «Черниговских Губернских Ведомостях» (вышедшая также отдельной брошюрой48), заслужила в том же году положительную рецензию в «Москвитянине» друга Гоголя М. П. Погоди-на49. В статье «Практическое наставление о заведении шестипольного землепашества в Малороссийских хуторах» неизвестный черниговец писал:
«Прошло то золотое время, когда благородный житель хутора propriis bovibus <со своим скотом; лат .> обработывал, в поте лица, свою полосу земли, и на этих же волах, подобно Нуме Помпилию или Камиллу, приезжал в город продавать излишек своих произведений! Теперь — чтоб дворянину прилично показаться в город, надобно иметь какую-нибудь колясочку, та рантас, пор ядочную бричку и что-либо другое в этом роде
(курсив мой. — И. В .). <…> А с одеждою нашею что происходит? Не успеешь обносить новый фрак или сюртук, — ан смотришь, уже мода на покрой платья переменилась! То фалды шире, то стан ниже, то вместо одного борта ставят пуговицы в два борта: беда да и только! Непременно надобно чрез каждый год наново экипироваться, чтоб не оказаться чудаком, отставшим от века. <…> О платьях наших жен и дочерей уже и говорить нечего. Они, голубушки, кажется, для того только и на свете живут, чтоб ежедневно переменять покрой, фасоны, узоры и материи для своих платьев, чепчиков и шляпок… Какой тут хутор может удовлетворять всем этим " потребностям "? Какого тут ожидать счастья?.. Итак, — конец концов, как говорит Брамбеус, — первая причина всеобщей недостаточности поземельных наших доходов к удовлетворению наших нужд есть — излишество наших нужд, роскошь и мода ! Мы все, более или менее, живем выше своего состояния, и самым деятельным, успешным образом приготовляемся к всеобщему банкротству, если не к материальному, то к нравственному, к всеобщему оскудению любви и дружбы, гостеприимства, чести и правды» 50 .
Н. С. Соханская (Кохановская) в те же годы (1847–1848) писала:
«Земля в Малороссии <…> царски богата; а малороссияне беднеют, час от часу беднеют… <…> Вам хорошо улыбаться, что Афанасий Иванович кушивал несчетно раз на день; да что же более прикажете вы нам делать? С досады ешь, уверяю вас; я сама испытала» 51 .
В описании колебаний Чертокуцкого «садиться или не садиться ему за вист» — и решения не нарушать «правил общежития» (3/4: 152) — затрагивается тема светских приличий, диктата комильфо и деспотических «законов света», часто несогласных с нравственным образом жизни, о чем Гоголь размышлял также в других произведениях, начиная с самых ранних (с «Вечеров на хуторе близ Диканьки»), и на что позднее конкретно указывал в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (см.: [Виноградов, 2024a: 334–335]).
-
В. И. Шенрок в 1896 г. отметил сходство изображенного в повести уездного городка с образом губернского города NN в «Мертвых душах» ([Тихонравов, Шенрок: 745]; см. также: [Степанов: 695–696]). В 1938 г. Н. Л. Степанов добавил к этому, что «в характере Чертокуцкого уже намечена обходительность Чичикова и хвастливость Ноздрева»: «Можно сопоставить и ряд отдельных деталей, вроде упоминания о Ноздреве в "Мертвых душах", где говорится: "чуткий нос его слышал за несколько десятков верст", и о Чертокуцком, который тоже "пронюхивал носом, где стоял кавалерийский полк"…» ([Степанов: 695]; см. также: [Besprozvany: 27]).
Обед, который собирался давать местному дворянству, в преддверии выборов, Чертокуцкий, соответствует, с одной стороны, «ассамблее», которую устраивает городничий в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», с другой — балам, которые, согласно строкам восьмой главы «Мертвых душ», дают местному обществу губернаторы. По замечанию рассказчика, губернаторский бал «дело весьма обыкновенное в губернских городах: где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства» (5: 156). Ноздрев в десятой главе рассуждает о новом генерал-губернаторе:
«Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала, да ведь этим что ж? Ведь этим не выиграешь» (5: 207) (см. об этом подробнее: [Виноградов, 2024b]).
Изображение «ассамблеи» в <Повести о ссоре> и описание бала в «Мертвых душах» представляют собой провинциальную «ярмарку тщеславия», с демонстрацией доступной провинции роскоши, где важную роль играют именно коляски, брички, кареты, а также разнообразные женские наряды и украшения:
«Городничий давал ассамблею! Где возьму я кистей и красок, чтоб изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? <…> Каких бричек и повозок там не было! Одна — зад широкий, а перед узенький; другая — зад узенький, а перед широкий. Одна была и бричка и повозка вместе; другая ни бричка, ни повозка <…>. Из среды этого хаоса <…> возвышалось подобие кареты с комнатным окном, перекрещенным толстым переплетом. <…> А сколько было дам! <…> Сколько чепцов! сколько платьев! красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных; платков, лент, ридику-лей!» (1/2: 486).
В «Мертвых душах» губернский бал тоже изображается как некое движение «экипированных» дам и летящих «экипажей»:
«В нарядах их вкусу было пропасть <…>. Галопад летел во всю пропалую <…>. …пошла писать губерния! — проговорил Чичиков, попятившись назад <…>. Перед ним стояла <…> губернаторша: она держала под руку <…> свеженькую блондинку <…>; ту самую <…>, которую он встретил <…>, когда <…> их экипажи так странно столкнулись <…>. И вот уже глядит он растерянно и смутно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи <…> — и ничего хорошо не видит» (5: 157–159, 161–162).
Еще раз городское общество — дамы в каретах — предстают в заключительной главе «Мертвых душ» на похоронах прокурора:
«За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движениям губ и рук их видно было, что они <…> говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет балов…» (5: 212).
Существенно значимыми черты дорожных экипажей являются для составляющих образов целого ряда других героев «Мертвых душ» — Чичикова, Коробочки, Ноздрева и др. Манилов мечтает о том, как они с Чичиковым приезжают «в какое-то общество в хороших каретах, где обворажают всех приятностию обращения…» (5: 39). Богатый экипаж становится едва ли не главным предметом, оказывающим решающее влияние на судьбу Чичикова. Роскошное средство передвижения — не только повод для его «поэтического» увлечения встреченной в дороге блондинкой в «коляске с шестериком коней» (5: 87), но и причина неправедного «воспитания примером» с самой юности:
«Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: "А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!" И все, что ни отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим» (5: 220–221).
Именно к этим строкам в жизнеописании Чичикова в заключительной главе отсылает читателя рассказчик, когда описывает дорожную встречу героя с губернаторской дочкой:
«…весело промчится блистающая радость, как <…> блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол <…> пронесется мимо <…> заглохнувшей <…> деревушки, <…> и долго мужики стоят, <…> с открытыми ртами, <…> хотя давно уже <…> пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка <…> неожиданным образом показалась в нашей повести…» (5: 90).
Аналогичное описание встречается у Гоголя во второй редакции повести «Портрет» (1842):
«Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека» (3/4: 85).
Отмечено, что портрет самой блондинки-институтки в «Мертвых душах» тоже перекликается с содержанием «Коляски» — конкретно, с образом юной жены героя [Besprozva-ny: 29]. В «Коляске»:
«…Чертокуцкий добрался до спальни и уложился возле своей молоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестнейшим образом, в белом как снег спальном платье. <…> …надев спальные башмачки, которые супруг ее выписал из Петербурга, в белой кофточке, драпировавшейся на ней, как льющаяся вода, она вышла в свою уборную, умылась свежею, как сама, водою и подошла к туалету» (3/4: 153).
В «Мертвых душах»:
«И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки: ее овально-круглившееся личико, ее тоненький, тоненький стан, <…> ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы» (5: 164).
Образ генерала в «Коляске», мечтающего о дорогом дорожном экипаже, отзывается в соответствующем образе генерала во втором томе «Мертвых душ». Роскошная коляска «заграничной работы» принадлежит здесь генералу Бетрищеву. Тот предлагает ее Чичикову, взявшемуся объехать родных генерала с известием о помолвке дочери (богатство экипажа должно было соответствовать выходу замуж генеральской невесты):
«Чичиков и тут оказался очень полезен: он предложил объехать всех родных генерала и известить о помолвке Уленьки и Тен-тетникова. <…> Чего лучше? думал генерал, он <…> сумеет объявить об этой свадьбе <…>. …Для этой поездки предложил Чичикову дорожную двухместную коляску заграничной работы <…>. Когда <…> привезли от генерала легкую, почти новую коляску и Селифан увидел, что он будет сидеть на широких козлах и править четырьмя лошадьми в ряд, то все кучерские побуждения в нем проснулись и он стал с большим вниманием и с видом знатока осматривать экипаж и требовать от генеральских людей разных запасных винтов и таких ключей, каких даже никогда и не бывает. Чичиков тоже думал с удовольствием о своей поездке: как он разляжется на эластических с пружинами подушках, и как четверня в ряд понесет его легкую, как перышко, коляску» [Виноградов. Летопись, т. 6: 342–343].
13. «Немая сцена» повести
Дважды повторяется в «Коляске» «немая сцена», многочисленные авторские «реплики» которой рассыпаны в гоголевских произведениях, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» [Виноградов, 2024a: 286], кончая «Ревизором» и заключительной сценой предполагаемого третьего тома «Мертвых душ» — «Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что Я на тебя гляжу…» (5: 493):
«Чертокуцкий, вытаращив глаза, минуту лежал на постеле, как громом пораженный» (3/4: 155);
«Генерал отправился вместе с офицерами в сарай.
— Вот извольте, я ее немного выкачу, здесь темненько. <…> Пожалуйста, любезный, отстегни кожу…» (3/4: 156–157).
И извлеченный на свет Чертокуцкий, «сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом» (3/4: 157), предстает глазам офицеров и генерала.
Генерал — иерархически самое важное лицо в «Коляске». Этот персонаж — с «густым» голосом «веельзевула», повелевающий, соответственно, окружающими его «мухами»52, — вызывает близкие ассоциации с образом Вия, с «подземным голосом» (1/2: 448), который «обнаруживает» в церкви нерадивого бурсака (так же, как генерал находит в коляске Чертокуцкого).
Говоря о «немой сцене» Гоголя, обычно подразумевают только финал «Ревизора». Между тем подобных «сцен» в гоголевских произведениях множество. Так или иначе все они поражают героев своей внезапностью и, очень часто, — напоминанием о потустороннем, духовном мире, — либо божественном, либо демоническом — одинаково «ужасном» для грешника:
«Ужас оковал всех, находившихся в хате» (1/2: 103; «Сорочинская ярмарка»);
«Одеревенел Корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери» (1/2: 117; «Вечер накануне Ивана Купала»);
«Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли козаки будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво» (1/2: 125; «Вечер накануне Ивана Купала»);
«Голова стал бледен, как полотно. <…> …ужас изобразился в лице писаря; десятские приросли к земле…» (1/2: 145; «Майская ночь, или Утопленница»);
«…вдруг стал он недвижим <…>, не смея пошевелиться, и <…> волосы щетиною поднялись на его голове. <…> …непреодоли-мый ужас напал на него» (1/2: 234; «Страшная месть»).
«Если бы в это время пуля пролетела мимо ушей Лапчинского, он был бы менее удивлен. <…> …глаза его неподвижно устремились на хозяина…» (7: 85; «Глава из исторического романа»). «Ужас оковал их. Никогда не мог предстать человеку страшнейший фантом!..» (7: 93; «Кровавый бандурист»).
Одна из таких сцен, не сразу угадываемая, содержится, к примеру, в статье Гоголя «О движении народов в конце V века» (1834):
«Аттила <…> себя называл бичом Божиим <…>. Наконец <…> Рим увидел под стенами своими Аттилу. Испуганный папа, в облачении, со всем крестным ходом, вышел навстречу неумолимому гунну, и <…> Аттила отступил…» (7: 343, 345).
Святитель Димитрий Ростовский в житии53 св. римского папы Льва Великого, упоминаемого Гоголем в статье, так объяснял отступление Аттилы от стен Рима:
«…оный <…> Аттила, <…> иже нарицашеся бич Божий, <…> прииде на Италию <…> Лев папа <…> пойде сам к мучителю <…> и <…> претвори его от волка во овцу. <…> А егда бояре и воеводы Аттиловы, <…> вопрошаху того, почто единого человека <…> убояся, <…> отвещаваше им Аттила: не видесте ли вы, еже аз видех? Видех бо двух мужей ангеловидных (святых верховных апостол 54 Петра и Павла) по обою боку папы стоящих, в руках мечи обнаженныя держащих, и смертию претящих ми…» 55 .
Наказующее «пригвождение» Чертокуцкого в его модном экипаже, в заключении повести, сопоставимо не только с завершающими сценами «Вия» и «Ревизора», но и с трагическим финалом истории мифологической «коляски» древнегреческого Фаэтона (который уже был упоминут в связи с гоголевской повестью56).
По замечанию В. В. Гиппиуса, «Коляска» создавалась «накануне "Ревизора" и одновременно с первыми подступами к "Мертвым душам"» и потому играет «роль эскиза к большим картинам»: «эффектный финал» «Ревизора» «тщательно подготовлен предшествующим психологическим этюдом» [Гиппиус, 1966: 113].
Как и в образах других героев, в частности Городничего, разоблачение Чертокуцкого осмысляется Гоголем в контексте последовательной и закономерной смены «излишнего очарования» разочарованием-возмездием [Виноградов, 2000: 302–306]. «Эйфорическое самозабвение» героя «Коляски» «мстит за себя сокрушительным конфузом» [Бенедиктова: 182].
В «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"» (1841), Гоголь писал о Городничем:
«Увидевши, что ревизор <…> с ним вступил в родню, он предается буйной радости <…>. Поэтому-то внезапное объявление о приезде настоящего ревизора для него больше, чем для всех других, громовой удар, и положенье становится истинно трагическим» (3/4: 474).
В статье о русской поэзии «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголь, обращаясь к загадке разочарования байронического героя Пушкина — Евгения Онегина, — добавлял:
«…некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету очарование и стало модным <…> потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход разочарованье , порожденное, может быть, излишним очарованьем…» (6: 188).
«Ключ» к разгадке проблемы Гоголь, вероятно, нашел у самого Пушкина:
«От юности, от нег и сладострастья Останется уныние одно» 57 .
Сестре Анне 15 июня 1844 г. Гоголь писал:
«Тоска <…> — следствие пустоты, следствие бесплодности твоего прежнего веселья» (12: 417).
Предостерегая от обольстительного, доводящего до хандры упоения, он советовал:
«Запасаться нужно в хорошее время на дурное и неурожайное: умерять дух нужно в веселые минуты мыслями о главном в жизни — о смерти и будущей жизни, затем, чтобы легче и светлей было в минуты тяжелые» (9: 707).
14. «Коляска» и Русь-тройка
Отмечено также, что «коляска — образ того же порядка, что и птица-тройка и бричка Чичикова» [Баранов: 51]. Однако сделанное наблюдение осталось до конца не раскрытым. Реальное авторское наполнение соотносимых друг с другом образов Руси-тройки и дорожных экипажей Чичикова и Чер-токуцкого заключается не только в том, что коляска последнего никуда «не движется», но «все время стоит на месте» и что «Чертокуцкий есть отрицание всякого движения» [Баранов: 51] (чего, однако, нельзя сказать о Чичикове). Смысл сравнения, обнаруживающий самое средоточие гоголевских взглядов, гораздо шире. Подобно тому, как высокому призванию воинов Гоголь противопоставляет — в «Тарасе Бульбе» и «Коляске» — однозначно неприглядное мирное времяпрепровождение боевых офицеров и героических казаков, так же всем тщеславным «пошлым» героям, разъезжающим по России в заграничных колясках, в качестве духовной альтернативы предлагается в «Мертвых душах» образ «необгонимой» Руси-тройки, несущейся к небесной славе. Об этом прямо говорит герой позднейшей гоголевской пьесы — «Развязка Ревизора»:
«Дружно докажем всему свету, что в Русской земле все, что ни есть, от мала до велика, стремится служить Тому же, Кому все должно служить что ни есть на всей земле, несется туда же ( взглянувши наверх ), кверху, к Верховной вечной красоте!» (3/4: 495).
В образе символического «дорожного снаряда» в «Мертвых душах», очевидно, не без намерения подчеркиваются рассказчиком незамысловатость его изготовления (в сравнении с экипажами, «схваченными» «железным винтом») и при этом поражающая быстрота движения — устремленного вдаль и ввысь:
«И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом <…> собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик <…>; а привстал, <…> да затянул песню — кони вихрем <…>.
Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? <…> и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? <…> Заслышали с вышины знакомую песню <…> и, <…> не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!.. <…> …и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства» (5: 239).
В этом «Коляска» обнаруживает переклички не только с финалом первого тома «Мертвых душ» (наказание страхом губернских чиновников и Чичикова и поспешным бегством последнего, в коляске, из города), но и с заключительными строками «Записок сумасшедшего» (1834) — тоже знаменующими собой стремительный «полет» «коляски» над оставшейся внизу землей:
«…взвейтеся, кони, и несите меня с этого света!» (3/4: 176).
«Записки сумасшедшего» повествуют о возвращении страдающего героя — на «тройке быстрых, как вихорь, коней» (3/4: 176) — из «Испании» в Россию — в Небесный Иерусалим58.
В связи с отмеченными параллелями между гоголевским символом Руси-тройки и контрастными образами «мертвых душ» — «пошлых» ездоков на тройках и в колясках — уместно проследить, какое восприятие это знаковое сопоставление — «контраст» высокого призвания России и ее «скучных» и «противных» обывателей (5: 129) — получило в последующей литературе.
Спустя более ста тридцати лет после выхода в свет «Мертвых душ» В. М. Шукшин написал рассказ «Забуксовал» (1973), где вывел «народный» образ совхозного механика, задающегося вопросом:
«А кого везут-то? Кони-то? Этого… Чичикова? <…> Мчимся-то мчимся, <…> а кого мчим?» 59 .
Недоумение шукшинского героя, обсуждающего со школьным учителем гоголевский образ, с очевидностью повторяет реплику одного из героев Ф. М. Достоевского — который впервые затронул этот парадокс. В 1880 г. Достоевский вложил в уста прокурора в «Братьях Карамазовых» призыв «остановить» мчащуюся Русь-тройку «в видах спасения <…> просвещения и цивилизации», так как в ней — Карамазовы:
«Великий писатель <…>, в финале величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде <…> тройки <…> в гордом восторге прибавляет, что пред скачущею сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы. <…> Нет, господа присяжные, у тех Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы! <…> И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И <…> другие народы <…> пожалуй, возьмут да и <…> остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации!»; «Там Гамлеты, а у нас еще пока Карамазовы!» [Достоевский; т. 15: 125–152].
Во избежание недоразумений следует еще раз со всей определенностью подчеркнуть, что в образе Руси-тройки Гоголь предлагает современникам — Чичиковым, Чертокуцким, Поприщиным — в качестве спасительного выбора иной образ жизни и иной путь развития — воплощая их в широком образе-символе России, несущейся к Небесному Отечеству. Этого герой Шукшина (полагающий, что в тройке должен находится «Стенька Разин»60) закономерно «не видит», а прокурор Достоевского — «знать» принципиально не желает. Нелепость «эффектной» критики героями Шукшина и Достоевского гоголевского образа — заявления, что Русь-тройку надо остановить, потому что в ней Чичиковы и Карамазовы, — тем более очевидна, что, согласно наблюдениям исследователей, выведенная Достоевским «карамазовщина» (родственная чертам «европейца» Чичикова) создавалась, как литературный тип, не без влияния западной беллетристики (см.: [Батюто, Ветловская, Долинин и др.: 461–466, 511]). «Остановить» Россию на пути спасения, «отменить» ее главное призвание, отказаться от Православия, потому только что в российскую «коляску» набились «цивилизованные» «прохиндеи» и «шулеры»61, — с такой логикой могут поспорить разве лишь «самые передовые» мыслители.
15. «Пушкинское» в повести Гоголя
«Коляска», как указывалось, впервые была напечатана в «Современнике» Пушкина. В произведении, написанном с тем, чтобы отдать его в пушкинское издание, слышен, вполне явственно, «пушкинский» мотив. Это относится к самому предмету вожделения героев — заграничному дорожному экипажу. В 1830 г. в седьмой главе «Евгения Онегина» Пушкин писал:
«Теперь у нас дороги плохи <…>.
Трактиров нет. В избе холодной <…> Для виду прейскурант висит И тщетный дразнит ап<п>етит, Меж тем, как сельские циклопы Перед медлительным огнем Российским лечат молотком Изделье легкое Европы, Благословляя колеи
И рвы отеческой земли» 62 .
Эти строки, напоминающие о венской коляске Чертокуцкого, еще более отзываются в эпизоде с ремонтом брички Чичикова в заключительной главе «Мертвых душ»:
«…кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно вшестеро» (5: 210).
В 1834–1835 гг. в главе «Шоссе» незавершенного очерка об А. Н. Радищеве (опубл. посмертно в 1841 г.) Пушкин вновь замечал:
«Путешествие наше было неблагополучно. Проклятая коляска требовала поминутно починки. Кузнецы меня притесняли, рытвины и, местами, деревянная мостовая совершенно измучили» 63 .
Все эти пушкинские реминисценции открывают в гоголевской повести новые, дополнительные смыслы. Из перекличек «Коляски» с «Евгением Онегиным», со статьей Пушкина о Радищеве и с «Мертвыми душами», следует, что, как бы ни обольщались обитатели городка Б. комфортным предметом европейской роскоши, как бы ни расхваливал «чрезвычайную коляску настоящей венской работы» (3/4: 150) Чертокуцкий, — для российских дорог, в их первобытном состоянии, эта вещь для «вояжировки» (7: 413) не годится.
В той же заключительной главе «Мертвых душ», где Гоголь описал ремонт чичиковской брички, находится и образ птицы-тройки Руси, возникающий по поводу быстрой езды героя в исправленном экипаже. — У Пушкина после строк о «леченье» молотком «изделья легкого Европы» между тем тоже следует строфа о быстрой езде:
«Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка. <…> Автомедоны наши бойки, Неутомимы наши тройки, И версты, теша праздный взор, В глазах мелькают, как забор» 64 .
(Подчеркивая скорость движения, Пушкин сообщал, что «версты <…> мелькают, как забор». К последним словам — «как забор» — он сделал примечание: «Сравнение, заимствованное у К** (у князя Д. Е. Цицианова. — И. В.), столь известного игривостию воображения. К… рассказывал, что, будучи однажды послан курьером от Князя Потемкина к Императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу»65.)
Переклички между последовательными похожими описаниями ремонта экипажей и быстрой езды в «Евгении Онегине» и «Мертвых душах» с очевидностью указывают, что не только замысел «Коляски», но и образ Руси-тройки вызревал у Гоголя под влиянием Пушкина.
Не исключено также и то, что Гоголю, представившему в «Коляске» тип живущего на европейскую ногу «аристократа» (и обещающему поставить на такую же — «самую лучшую» — «ногу» окружающих; 3/4: 148), были известны и иронические стихи Пушкина, изображающие мнимого «патриота» Онегина (в неопубликованном «Путешествии Онегина по России»). Главный герой поэмы — заядлый и давний ревнитель европеизма и европейской роскоши, — изображен в «Путешествии…» отправившимся из Hotel de Londres в венской коляске по Святой Руси:
«[Наскуча] слыть или Мельмотом
Иль маской щеголять иной, Проснулся раз он Патриотом В Hotel de Londres, что в Морской… <…> И решено — уж он влюб<лен>, Росс<ией> только бредит он.
Уж он Европу ненавидит, <…>
Онегин едет, он увидит
Святую Русь: ее поля… <…>
Собрался — слава Богу
Июля 3 числа
Коляска венская в дорогу
Его по почте — понесла» 66 .
Hotel de Londres — отель «Лондон» — первая среди тогдашних петербургских гостиниц, в самом центре столицы в доме Гейденрейха, на пересечении Невского и Адмиралтейского проспектов:
«Места, где путешествующий может остановиться, суть: Hôtel de Londres, на Дворцовой площади, против Бульвара…» 67 .
Как уже отмечалось, тема патриотизма в «Коляске» затрагивается, в числе прочего, в именовании городничим свиней «французами» (3/4: 146). Этот «патриотический» настрой гоголевского героя может быть поставлен в один ряд с псевдопатриотизмом Онегина: «Уж он Европу ненавидит…». Проблема патриотизма воплощена в «Коляске» не только в частных деталях, но и в самом замысле повести. Наряду с обличением европейских соблазнов, подсказка на этот счет содержится в другом гоголевском произведении, также напечатанном в 1836 г. в пушкинском «Современнике», — в повести «Нос». Намек на то, как бесследно растворяется патриотизм в пристрастии к заграничным вещицам, заключен в «Носе» в ироническом замечании о продаже «малоподержанной коляски, вывезенной в 1814 году из Парижа» (3/4: 49). Смысл этой «подсказки» состоит, судя по ее содержанию, в том, что, согласно Гоголю, победа в Отечественной войне 1812 г., будучи торжеством на поле брани, не избавила, однако, Россию от «онегинской» зависимости от западной соблазнительной роскоши. По Гоголю, «после кампании двенадцатого года» (5: 193) Россия, одержав блистательную победу над врагом видимым, неожиданно потерпела поражение в другой, «невидимой брани»68. «Рукою победя, мы рабствуем умами», — писал в стихотворном послании «А. И. Казначееву» (1814) современник этой победы — и этого поражения — один из гоголевских друзей, славянофил С . Т. Аксаков:
«Мы мнили, что сия ужасная година <…>, Собратий наших смерть, страны опустошенье, К Французам поселят навеки отвращенье; <…> Что подражания слепого устыдимся, К обычьям, к языку родному обратимся.
Но что ж, увы, <…> везде мой видит взор?
И в самом торжестве я вижу наш позор! <…> Забыто все. Зови Французов к нам на бал!
Все скачут, все бегут к тому, кто их позвал!» 69 .
Частным, но оттого не менее значимым штрихом к этой картине и выступает в «Коляске» употребление галломаном Чертокуцким жениного приданого на «француза дворецкого». Наполеон, шедший в Россию обольстить ее какими-то мнимыми «благодеяниями», с бесчестьем изгнан, а обольщение, которое он нес с собой, проникло в Россию — через знакомство победителей с «бытом и домашнею жизнию» Европы70 (и вследствие Высочайше одобренного распространения инославных учений). И «чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека» (6: 89; «Нужно любить Россию). «Важная новость, — сообщал, в частности, А. С. Пушкин в письме к жене от 27 августа 1833 г. из Москвы, — французские вывески, уничтоженные Разтопчиным <Ростопчиным> в год, когда ты родилась <в 1812-м>, появились опять на Кузнецком мосту»71.
16. «Коляска» — «здесь одна поэзия»
О совершенстве гоголевской «Коляски» писали многие из литераторов: А. С. Пушкин72, А. Ф. Воейков73, В. Г. Белинский74, А. О. Смирнова75, Н. В. Станкевич76, К. С. Аксаков77, В. В. Стасов78, Н. А. Полевой79, Ф. М. Достоевский80, граф Л. Н. Толстой81, А. П. Чехов82, К. И. Чуковский83. «Коляска» — предмет творческого вдохновения, вплоть до «подражания»: для М. Ю. Лермонтова (в «Тамбовской казначейше» — см.: [Найдич: 644], [Серман: 212–213], [Кривонос, 2008]), для того же Чехова [Паперный], [Капустин], Толстого [Штаб, 2011b]). Обилие «сквозных» и узловых, устойчивых для всего гоголевского творчества тем и мотивов, воплощенных в «Коляске», свидетельствует о том, что при создании этого произведения Гоголь, несмотря на довольно небольшой объем повести, попытался воплотить в ней максимальное число волновавших его в ту пору проблем. Такую особенность, как уже указывалось, Гоголь в 1834 г. выделял в творчестве Пушкина — иными словами, сам стремился обладать этим свойством:
«В мелких своих сочинениях <…> Пушкин разносторонен необыкновенно <…>. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; всё лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт» (7: 278).
Следуя этому определению, можно сказать, что, подобно тому, как «Мертвые души» названы Гоголем «поэмой», такой же всеобъемлющей, хотя и сравнительно меньшей по количеству страниц, «поэмой» является в гоголевском наследии «Коляска». Под непритязательной формой бытового анекдота Гоголь осуществил попытку создания максимально многостороннего произведения из современной жизни, сделал небольшой мастерский набросок духовно-этнографической поэмы.
Ранее поэтической «энциклопедией» южнорусского быта (с определенным духовно-обличительным уклоном) были в творчестве Гоголя циклы повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Эти ранние гоголевские циклы, посвященные малороссийской провинции, тоже представляют собой не просто яркие художественные создания, но и довольно подробные и детальные, вполне основательные этнографические очерки. Похожей критической «энциклопедией», охватывающей уже жизнь не провинции, но столицы — обнимающей максимальное число черт европейски-«цивилизо-ванного» общества, — обещал быть незавершенный «Владимир 3-ей степени». Широкий круг проблем — одновременно и столицы, и провинции — призван был охватить последовавший литературно-художественный цикл «Арабески».
В «Коляске» был предпринят опыт нового широкого обобщения. Набросок поэмы, явившийся в этом произведении, тоже заключил в себе, на равных правах, проблемы провинциальной и петербургской действительности и стал ярким воплощением давнего стремления Гоголя к художественноэтнографическому энциклопедизму. Создание «Коляски» явилось предвестием и прологом к начатым тогда же двум главным созданиям писателя — «сборной» комедии «Ревизор» и всеохватывающей поэме «Мертвые души» (последняя осталась, как известно, незавершенной).
Изучение «Мертвых душ» невозможно без изучения «Коляски» — оно должно с этого начинаться: здесь находится «ключ» к пониманию целостного замысла поэмы. В «начальном», «эскизном» виде в «Коляске» так или иначе заключены едва ли не все составляющие «Мертвых душ», вплоть даже до не воплощенного автором завершения поэмы. Это не только переклички между тщетными хлопотами провинциалов вокруг модной заграничной коляски с образом Руси-тройки в заключительной главе первого тома, но и выход к финалу поэмы в целом — с той картиной, которая была начертана Гоголем в 1843–1845 гг. в отдельном наброске. В наброске Гоголь изобразил разоблачение на Страшном Суде нерадивых чиновников и дворян, которые, вместо служения Богу и России, предавались, как герои «Коляски», праздному, бездельному времяпрепровождению. Им, как и разоблаченному в финале Чертокуцкому, тоже хочется спрятаться от обнажающей последней «ревизии» «мертвых душ»:
«"Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что Я на тебя гляжу <…>".
Потупил голову, устыдившись, управитель, и не знал, куды ему деться .
И много вслед за ним чиновников и благородных, прекрасных людей, начавших служить и потом бросивших поприще, печально понурили головы» (5: 493; курсив мой. — И. В .).
Приоткрывая секреты своей мастерской, Гоголь в «Учебной книге словесности для русского юношества» (1846) писал, что «значительность поэзии повествовательной <…> увеличивается по мере того, когда поэт стремится доказать какую-нибудь мысль и, чтобы развить эту мысль, призывает в действие живые лица, из которых каждое своей правдивостью и верным сколком с природы увлекает вниманье читателя и, разыгрывая роль свою, ему данную автором, служит к доказательству его мысли» (6: 330). Тут же Гоголь подчеркивал и то, что, «чем более автор умеет отделиться от самого себя и скрыться самому за лицами, им выведенными, тем более успевает он и становится сильней и живей в этой поэзии» (6: 329‒330). Эти строки во многом объясняют, почему авторский замысел поэтической «Коляски», со всеми ее перекликающимися и пересекающимися мотивами и образами, потребовал от исследователей для свой «расшифровки» так много усилий.
Изучение в итоге показывает, что «Коляска», по своему многосложному и многосоставному содержанию, по назидательному, воспитующему финалу, в ее общих и частных чертах, во многом схожа с «Мертвыми душами». Будучи по объему малой «поэмой», она является эскизом большой.