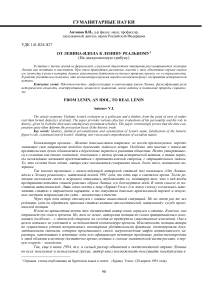От Ленина-идола к Ленину реальному. (на дискуссионную трибуну)
Автор: Антонов В.И.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 2 (25), 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье с точки зрения не формальной, а реальной диалектики отрицания рассматривается эволюция Ленина как политика и мыслителя. При этом приводятся различные, вместе с тем объективно верные оценки его личности и роли в истории, данные известными деятелями не только прошлых времен, но и современности. В работе убедительно показано, что конъюнктура времени нередко искажает фокус восприятия исторической истины.
Идолопоклонство, мифологизация и канонизация имени ленина, фальсификация роли исторической личности, конструктивизм ленинского мышления, новое видение и понимание природы социализма
Короткий адрес: https://sciup.org/142142108
IDR: 142142108 | УДК: 141.824/.827
Текст научной статьи От Ленина-идола к Ленину реальному. (на дискуссионную трибуну)
Конъюнктура времени… Явление довольно-таки капризное, не всегда предсказуемое, нередко меняющее свое направление подобно дуновению майского ветра. Особенно это явление с каким-то предательским духом обнажается в переходные периоды в развитии общества. Нечто утвердившееся в сознании как вполне очевидное, доказанное с точки зрения исторической истины, в такие периоды неожиданно начинает представляться с противоположной стороны, с отрицательным знаком. То, что сегодня было одним, завтра уже оказывается совершенно иным, более того, позиционно полярным.
Так именно произошло с нижеследующей авторской статьей под названием «От Ленина-идола к Ленину реальному», написанной весной 1991 года, то есть еще в советское время. Тогда редакции нескольких газет и журналов отказались опубликовать ее, мотивируя тем, что в ней якобы предпринята попытка «тихой ревизии» образа Ленина, его бессмертных идей. В этом смысле ее посчитали антиленинской. Лишь одна газета в лице «Буряад Унэн» (см. внизу сноску) согласилась напечатать статью в отрывочном варианте, и то допустила довольно произвольный перевод и ненужные местами исправления (по сути – искажения) в тексте.
Через три года автор столкнулся с внешне аналогичной ситуацией. Но на этот раз те же редакции, куда он обратился, признали статью излишне апологетической, написанной с сугубо проле-нинской позиции.
И вот по прошествии почти двух десятилетий автор вновь вернулся к статье. Конечно, она отражает дух своего времени. Но, тем не менее, авторская позиция по своим принципиальным основаниям (особенно – с этической стороны) на сегодня не претерпела существенных изменений. Она в целом осталась не угодливой и не подвластной конъюнктуре времени. Неизменность позиции автора по сущностным устоям подкреплялась некоторыми убедительными фактами, достоверными документальными данными, которые просачивались сквозь нагромождения мифов антиленинского характера, наполнивших в истекшие годы всю официальную печатную продукцию, радио-телепередачи в этой области и поэтому достаточно крепко осевших в головах значительной части россиян, в первую очередь – молодежи.
Так, еще в июне 1994, т.е. в самый разгар обвинения в постсоветской стране Ленина во всех мыслимых и немыслимых грехах, автор имел возможность выслушать выступление в знаменитой аудитории «01» МГУ имени М.В.Ломоносова знаменитого бельгийского физико-химика русского происхождения, лауреата Нобелевской премии Ильи Пригожина во время встречи с учеными университета. Он неожиданно для многих слушавших его тогда назвал методологически верными определение материи, идею о ее познавательной неисчерпаемости, «оставленные науке еще господином Лениным-Ульяновым».
Другой пример связан с интервью доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента РАН, руководителя Федерального архивного агентства В.П.Козлова, данным 7 ноября 2007 года «Российской газете» под названием «Октябрь без тайн». В нем он на целую газетную полосу последовательно развенчивает пять основных мифов, имеющих отношение к Октябрьской революции. Мы затронем здесь мифы, связанные с так называемыми «немецкими деньгами» и якобы шпионской деятельностью Ленина, причем вопросы корреспондента и ответы Владимира Петровича Козлова дадим в том первичном виде, в каком они напечатаны в газете:
« Корр. | Два главных мифа истории Октября – что революция сделана на немецкие деньги и Ленин был шпионом. Документально они подтверждены? Владимир Козлов | Все архивы Октябрьской революции открыты. Корр. | И тем не менее в некоторых ученым отказывают в выдаче документов. Козлов | Это перестраховка. У нас нет никаких законных оснований для того, чтобы документы 17-го года держать закрытыми, кроме тех случаев, когда речь идет о тайне личной жизни. Приведу пример. Один Великий князь, который долгие годы президентствовал в Российской академии наук и много сделал для отечественной науки, был гомосексуалистом. Все свои переживания он доверял дневнику и завещал сделать этот документ открытым для специального консилиума академиков по истечении 90 лет после его кончины. Бывает, что владелец архива, передавая его на государственное хранение, ограничивает круг лиц, которым разрешен доступ. В таких случаях можно понять и принять подобного рода ограничения. Если говорить об Октябре, сейчас и российские исследователи, и зарубежные имеют возможность получать информацию из двух огромных пластов документов: созданных в России и созданных нашими эмигрантами за рубежом, хранящихся в основном в Америке. Раньше американские ученые не имели доступа к нашим архивам, а мы – к их. Теперь все открыто. Как раз это соединение разобщенной информации и позволило документально, по существу разоблачить один из главных мифов революции о том, что большевиков финансировало германское правительство. Это сделал питерский ученый Виталий Иванович Старцев, который нашел бумаги, подтверждающие, что все документы на эту тему были сфальсифицированы. Корр. | И кому же удавалось так долго водить за нос общественность? Козлов | Документы сфальсифицировал журналист Фердинанд Оссендовский сразу же после 17-го года. Это была обычная идеологическая борьба, известно даже, кто стимулировал эту борьбу: наш сосед за океаном».
Вот почему к историческим событиям и именам (особенно - великим) необходимо всегда подходить с максимально взвешенным и реалистическим анализом и оценкой. Объективное воссоздание образа исторической личности как раз требует этого.
Март 2009 г.
Ленин... Еще сравнительно недавно этот образ был для нас почти что всевышним. С одной стороны, в таком отношении к нему ничего предосудительного нельзя усмотреть, ибо он - действительно великий человек, крупнейший мыслитель ХХ века, который, как никто другой, основательно овладев мощным арсеналом современных ему знаний, глубоко проник и обнажил тайны общественного бытия. Но с другой - мы под толстым слоем лакировки умертвили живого Ленина. Он по существу стал богочеловеком, лишенным земных страданий, чувств, мыслей. Мы превратили его в бездушное божественное существо, способное никогда не ошибаться, говорящее всегда правильно наподобие заведенного механизма-марионетки. Увы, так было, так во многом и остается, хотя всю страну завешали никого не задевающими лозунгами, плакатами «Ленин живее всех живых!», «Да здравствует Ленин!», завалили все кабинеты партийно-государственных чиновников однообразно растиражированными его бюстами-изображениями, дежурными портретами, возвели на местах множество однотипных, порою убогих, кустарного производства, памятников ему.
Не редкостью стали и разные формы натурализма в изображении Ленина, в отображении его достоинств и качеств. Таковым, например, предстает памятник Ленину на площади Советов г.Улан-Удэ, торжественно открытый к 100-летию его рождения. Проект памятника, кстати, был одобрен художественно-экспертным советом по монументальной скульптуре
Министерства культуры РСФСР и Министерством культуры СССР. А изготовление его осуществлено Московским камнеобрабатывающим комбинатом «Главмоспромстройматериалы». Но зачастую бывало и бывает так, что впервые увидевшие его называют не монументальным произведением, а монументальным шоком. Перед взором созерцающего предстает огромнейшая голова Ленина с прямолинейно (сзади наискосок) отсеченной шеей, которая посажена на столь же внушительный постамент. Голова с несуразно большими размерами, психологически довлеющая всему пространству площади. Впечатление от нее такое, что даже обыватель усмотрит в этом примитивизм идеи: величие ума, масштабность мысли вождя «нуждаются» для своего «воплощения» в таких же значительных физических размерах головы.
Но все эти и другие «произведения» нисколько не оживляли Ленина, не возвышали его на ту реальную высоту, на которой он стоял при жизни и которой стоил после жизни. Весь парадокс тут состоял в том, что мы свыклись с ними как с необходимой, каждодневной утварью. Они не вызывали в нас никаких чувств, эмоций, переживаний... А каким шел к нам Ленин с театральных подмостков, с экранов кино и телевидения? Да все такой же, всегда архи-правый! «Э, батенька, тут вы архинеправы!”, “Мы придем к победе коммунистического труда!”... Вот таким архибодреньким представал Ленин перед нами. Всегда и во всем он был архиправ, всегда его рука указующим перстом была вытянута в архиправильном направлении . Такое отношение, такое изображение и понимание Ленина стали идеологической болезнью нашего общества. Лекарства от нее всякий раз «своевременно» отвергались идеологическими стражами сталинско-брежневского догматического социализма. Они зоологически опасались здравого, объективного взгляда Ленина как на реального человека.
И все же «прорыв» идеологических заграждений, возведенных цензорами сталинско-брежневских времен, начал назревать, хотя было очень и очень непросто. Вспомним, например, в этой связи, с каким трудом и напряжением пробивала себе дорогу на сцену пьеса Михаила Шатрова «Так победим!». Понадобился драматургический и гражданский подвиг автора, чтобы, в конечном счете, вышла на сцену эта пьеса. В ноябре 1989 г. мне довелось посмотреть ее на сцене МХАТа. Мне стало сразу ясно, почему и чем М.Шатров в названной пьесе не угодил идеологам застоя. Это правдивость и открытость в изображении Ленина. Это то, что в ней честно и нелицеприятно зазвучало ленинское предостережение об опасности оказаться в положении зазнавшейся и самовлюбленной нации. Перед нами, зрителями, разыгрывалась извечная трагедия гения: непонимание его современниками. Не случайно ведь прозрения гения, да и его творчество нередко находят признание у далеких потомков. Не избежал этой трагедии и Ленин, стоявший на голову выше даже выдающихся своих современников. Но когда он был здоров, полон сил и энергии, трагедия непонимания сглаживалась самим, можно сказать, природным талантом Владимира Ильича. Он никогда не вносил ничего личного в разногласия, старался не унижать достоинства тех, кто заблуждался искренне. Ленин умел прощать людям, что они не всегда могли с ходу уловить то, что так ясно было для него . Он никогда не подчеркивал своего превосходства, ибо любил не себя в политике, а политику в себе. Все это притягивало к нему людей даже тогда, когда они не могли до конца осознать всю глубину его замыслов. За такую «его человеческую человечность» ему в конечном счете прощали «его действительное человеческое превосходство».
Но нежданно нагрянула беда - он заболел. И все нарочито бросились его лечить. Его старательно уложили в постель и запретили заниматься политикой, то есть единственной наукой, которой он посвятил всю свою сознательную жизнь. Ему запретили свидания с людьми, а он привык поддерживать интеллектуальное напряжение своего ума токами общения с народом. Ему не разрешали писать, делать доклады, обращаться к людям, а он не мог жить не для людей. По сути его лишили того, что составляло смысл его жизни.
Да, пьеса «Так победим!» - это трагедия. В ней - страдания, боль не просто гения, а конкретного, живого человека. Причем устами сценического Ленина говорит документальный Ленин, оставленный в его трудах. В этом состоит глубочайший реализм постановки.
То же самое разворачивается и в другой пьесе М.Шатрова «Брестский мир», которую довелось мне увидеть в феврале 1991 года в театре им.Е.Вахтангова. Строки: «Никогда Ленин не был так велик, как в минуты опасности», вписанные в «программку» пьесы из обращения ЦК РКП (б) «К партии. Ко всем трудящимся» от 22 января 1924 г., глубоко символичны и столь же глубоко правдивы. Ощущение величия Ленина, пронзающей сердце его правоты именно в труднейших, почти безвыходных ситуациях не покидало меня все время, пока шла пьеса. Особенно мне запомнился эпизод разговора В.И.Ленина, роль которого на редкость убедительно и живо исполняет Михаил Ульянов, с И.Арманд, которую не менее прекрасно играет Ирина Купченко. Она в критическую минуту пытается успокоить его: «Мы верим тебе». На это Владимир Ильич отвечает взрывным голосом: «Мне не надо верить, меня понимать надо».
Но, увы, в постленинское время мы из него сделали идола слепой веры. Потому нам не нужно было понимать и осознавать глубинные истоки, причины, мотивы его действий, шагов, поступков, не нужно было вникать в его из гущи самой жизни почерпнутые, следовательно, глубоко реалистические идеи. Так было проще и легче, ибо особого труда, интеллектуального напряжения на это не понадобилось.
Известно, что Ленин, фанатично преданный своему делу, одержимый своей кипучей работой, никогда не нуждался при жизни в каких бы то ни было формах преклонения перед ним. Он попросту игнорировал их, а при нарочитости проявления их открыто пресекал. Идолопоклонство перед ним, разного рода примитивно «облагороженные» мифы о нем являются порождениями постленинского советского времени. Поэтому достойное прощание с идолопоклонством, объективная демифологизация образа Ленина - явление вполне естественное в любом нормальном обществе. А им - таким обществом - мы пытаемся сейчас стать всеми фибрами души.
Однако отказ от идола слепой веры, освобождение от всяких извращений в возвеличивании Ленина, от бездумной канонизации его образа, начавшиеся в нашей стране после 1985 г., дали иным «теоретикам», скрытым противникам, затаившимся до поры, до времени злопыхателям удобнейший повод для «ниспровержения» его вообще. И пошли наряду с объективными процессами переосмысления Ленина, его теоретического и политического творчества, что называется, на печатный «аукцион» грязные и тухлые, словно после гнилого нарыва, вещи. Началась безнравственная, дилетантская, амбициозная клевета на него как на человека. Стали нести на Ленина всякого рода вздор.
С недавних пор на улицах, переулках, подмостках Москвы, Ленинграда и других городов объявились всякого рода клоуны, пародисты и прочие дешевые «артисты», загримированные под Ленина. Они делают различные гримасы перед прохожими и зеваками: то язык высовывают, то кукиш показывают, то, примитивно картавя, выговаривают разные гадости, то хохочут безудержно, на грани пароксизма. Кстати, их с удовольствием стали показывать по телевидению. А то как же! Лишний раз оболванить обывательскую часть наших граждан -это уже хорошо, уже половина успеха. Но глядя на них, псевдоленинов, мне не хочется ни смеяться, ни возмущаться. Мне становится их искренне жаль, жаль за их убожество мысли, за их конъюнктурно-марионеточный дух. Они по сути сами становятся объектом посмешища.
Но этот внешний, очень грязный «декор» подкрепляется и далеко идущими теоретикоконцептуальными и социально-политическими выводами, точнее, выпадами. Оказывается, все беды нашего - довольно-таки трудного, где-то смутного, тревожного, по сути переломного - времени идут от него. За все зигзаги, срывы, ошибки, отступления, противоречия, имевшиеся и сохраняющиеся в развитии нашего общества, должен отвечать якобы только один человек, а именно - Ленин. Он и только он мог породить Сталина с его полицейским, казарменно-лагерным режимом. Отсюда будто бы сталинизм с его чудовищным извращением социализма является «единственно возможным» продолжением ленинизма. Пожалуй, нелишне напомнить о том, что впадать в крайности - наша давняя общероссийская, национальноментальная болезнь.
Что можно сказать по этому поводу? Против кондового, ломового напора, нацеленного на «всестороннее разоблачение» Ленина, вряд ли стоит реагировать подобным же образом, то есть опускаться до такого же уровня. Это было бы крайне неразумно. Ведь не зря говорят:
против лома нет приема. Разве что дать один полезный совет - обратиться и поучиться у западных критиков Ленина. При всем идеологическом неприятии его теории значительная часть из них умело, я бы даже не преминул сказать, талантливо избегает любую допустимую форму крайности и категоричности. Удивляет достаточная корректность и где-то осторожность в оценке самой личности Ленина. При этом их суждения и выводы, нередко не совпадающие или же принципиально расходящиеся с официальной позицией и взглядами советских обществоведов, основаны, как правило, на скрупулезном и тщательном, то есть добросовестном, изучении обширного (эмпирического и теоретического, документального и мемуарного) материала, связанного с вопросами идейно-теоретического наследия Ленина. Тем не менее, надо дать должное, западные исследователи этого наследия в большинстве своем признают его важность и методологическую значимость не только для истории, но и для современности. В то же время о наличии на Западе единого «фронта» в его трактовке (либо позитивной, либо негативной) говорить не приходится. Каждый критик, каждый ленинолог стремится отстаивать свое понимание, свое видение Ленина и его наследия. В этой связи приведем еще один характерный момент: среди западных ученых можно найти немало не разделяющих, более того, активно противостоящих утверждениям, будто преступления Сталина были заложены в самой природе ленинизма, будто сталинизм есть его естественное продолжение, исключающее любую иную альтернативу развития. В их числе, например, состоят такие влиятельные исследователи советского опыта строительства социализма, как Э. Карр и И. Дейчер.
Против безальтернативности развития постленинской России по существу выступает известный современный американский историк и советолог Стивен Коэн. Об этом недвусмысленно он пишет в вышедшей в СССР еще в 1988 г. книге «Бухарин. Политическая биография 1888-1938»: «Исторической неизбежности не бывает - альтернативы возможны всегда». И далее он продолжает в контексте нашего времени: «Реальный потенциал бухаринской альтернативы сегодня находится в самом Советском Союзе. Бухаринизм был более либеральным и гуманным вариантом русского коммунизма с его врожденными авторитарными традициями. Вдохновленный частично тем пересмотром взглядов, который осуществил Ленин в конце своей жизни, Бухарин искал пути развития Советского государства, которые позволили бы обойти наиболее жестокие аспекты этих традиций, а может быть, обойти и что-то похуже. Многое изменилось в Советском Союзе с 20-х гг. Но до тех пор, пока сталинское прошлое продолжает сливаться с настоящим, идеи Бухарина остаются потенциальным источником антисталинской реформы...».
Иное дело - наши «критики» Ленина. Чтобы как-то правдоподобными выглядеть перед ошарашенными читателями, «ниспровергатели» прибегали все к тем же традиционным, в основе своей безнравственным, гнусным, приемам: передергиванию ленинских цитат, искажению фактов. Примером подобного рода может быть назван своеобразный диалог писателя В.Солоухина с публицистом О.Морозом, названный «Расставание с богом» и опубликованный в «Огоньке» за 1990 г. Уже беглое ознакомление с ним оставляет удручающее впечатление. Ничего нового, оригинального, почти полный перепев неоднократно перепечатывавшегося ранее, естественно, только в негативном плане. Обойма дополнительных передержек, грубейших фактических ошибок, в ряде случаев явных инсинуаций по адресу Ленина. Просто диву даешься, как далеко наши «ниспровергатели» Ленина обставили западных советологов, ленинологов.
В этом я лишний раз убедился, два дня побывав на состоявшемся в конце марта 1991 года в Москве трехдневном международном «круглом столе»: «Ленин и ХХ век». Он был организован информационным агентством «Новости». Из печати известно, что вступительное слово на нем произнес тогдашний председатель Комитета Верховного Совета СССР по международном делам, секретарь ЦК КПСС А.Дзасохов. Объективно оценивая значимость духовного наследия В.И.Ленина для грядущих судеб цивилизации, отметил он, советские обществоведы весьма далеки от защиты этого наследия с канонических позиций. Вряд ли в наше время свободы творческой мысли следовало бы не замечать черт некоторой эйфории в оценке темпов перехода к новой общественной формации, характерных для ленинского поколения революционных деятелей, сказал А.Дзасохов. Нет и не может быть у Ленина прямых ответов на все вопросы, волнующие нас сегодня. Но зато, заключил А. Дзасохов, живы диалектика его интеллекта, тончайшая методология анализа общественного бытия.
Но все же вернемся к той мысли, ради которой я заговорил об этом международном «круглом столе». Так вот беспардонных, оскорбительных выпадов, лихих, необремененных поисками аргументов «ниспровержений» Ленина, за которые в последнее время рьяно взялись некоторые отечественные «знатоки», наши доморощенные «теоретики», не было на нем. Даже профессор Гарвардского университета из США Р. Пайпс, выразивший на этом «круглом столе» крайнюю точку зрения концептуального неприятия Ленина, никак не позволял себе этого. Что же касается других западных ученых, выступавших на нем, – Р. Такера из США, В. Леонхарда из ФРГ, Дж. Боффа из Италии и т.д., – при всем различии их взглядов, разнообразии их мнений, подходов у них выявился один общий вывод: все они считают, что Ленин – великий человек ХХ века. Кстати, в конце второго дня участниками «круглого стола» с интересом была воспринята презентация книги упомянутого выше Джузеппе Боффа «История СССР». Автор прекрасно знает и историю нашей страны, и творческое наследие Ленина. Всех нас поразили и обрадовали произнесенные им при этом слова: «Тут говорили о необходимости создания политической биографии Ленина. Я бы сказал, что это несколько узко, – надо создать интеллектуальную биографию Ленина!». Вот так-то, уважаемые наши дилетанты, объявившие «крестовый поход» против Ленина! Призываем еще раз. Учитесь у них – западных советологов, «ленинологов» – трезвости, объективности и, главное, культуре исследования ленинского наследия.
Если даже провести исторический срез и обратиться к видным современникам Ленина, отнюдь не разделявшим его взглядов, то станет ясно, насколько они честны и чистосердечны в его оценке. Не чета им нынешние наши клеветники Ленина. Достаточно привести суждения о нем некоторых из них, чтобы убедиться в этом. Один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и 2-го Интернационала Карл Каутский писал о Ленине: «Он был колоссальной фигурой». Известны слова лидера французской партии радикалов, бывшего премьер-министра Франции Эдуарда Эррио: «Нет нужды указывать, как далек я был от ленинского учения, но я всегда восхищался его исключительными дарованиями государственного человека, его решительностью, энергией и действительной энциклопедической образованностью. ...Это был человек, который умел оценивать всякое положение и находить выход из него». Великий английский писатель Бернард Шоу писал: «Я счастлив, что приветствовал тогда Ленина как величайшего государственного деятеля Европы в надписи над одной из моих книг, которую я послал Ленину». Небезынтересно вспомнить и о том, что бывший офицер армии А.В.Колчака Валериан Конокотин Ленина называл гигантом, одновременно страдальцем, бескорыстным мучеником за лучшую долю человечества.
Вспомним Максима Горького, близко знавшего Ленина при жизни. Поэтому обратимся к его знаменитой работе «Ленин». Уж его-то – Горького – словам можно доверять, равно как верить его искренности и правдивости в оценке личности Ленина. Тем более, если учесть, что она написана в 1930 г., когда Сталин был уже на вершине власти в стране, когда его диктатура стала непоколебимой. Известно также, что Сталин как новый вождь, как «Ленин сегодня» дважды (к своему 50-летию и 55-летию своего рождения) пытался разными, в том числе ухищренными, способами воздействовать на Горького, чтобы тот написал о нем. Сталин с его непомерно большим честолюбием высоко ценил как перо авторитета, так и авторитет пера. Но Горький, к его большой чести, не поддался. Это тоже факт доподлинно известный, говорящий об очень многом.
Но вернемся к Ленину, вернее, к тому, что писал о нем Горький. Особенно о том, как оценивал Ленина после его кончины Запад: «Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность». Сказанное Горький далее подтверждает конкретным примером: «Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами: «Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».
Все это из Горького нам известно еще со школьной скамьи, все это давно подобно ржавчине въелось в наше сознание с ранней юности, причем так, что мы перестали (а может, устали от неумелого насаждения в школе) нормально и объективно воспринимать его. Разучились обращать необходимое внимание и на собственно горьковские характеристики Ленина: «Был он прост и прям, как все, что говорилось им», «Героизм его почти лишен внешнего блеска, его героизм - это... скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера...», «Проницателен и мудр был этот человек...», «И вообще, весь -как-то слишком прост, не чувствуется в нем ничего от «вождя», «Этот... подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл», «Речь его всегда вызывала физическое ощущение неотразимой правды», «Его мысль, точно стрелка компаса - всегда обращалась острием в сторону классовых интересов трудового народа», «К тому же: «на ошибках - учимся» - часто повторял Владимир Ильич» и т.д. И еще Горький писал: «Он - политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия». Между тем во всем этом - огромная доля исторической правды.
Да, Ленин был велик. Во всяком случае, при самой гнусной попытке невозможно свести его к величине одностепенного порядка. Наивны те, кто сейчас всеми силами стремится его «вывести за рамки истории». Мир его и практически, и теоретически необъятен. Он охватывает все сферы и стороны человеческого бытия, жизнь общества во всех его проявлениях, со всеми его составляющими. Мир Ленина требует полного, всеохватывающего, а не выборочного, тем более одностороннего, «фрагментарного» изучения - во всем богатстве, многообразии, противоречиях его творчества.
Совершенно глупо поэтому полагать, что мир Ленина «скроен» из сплошного позитива. Он, напротив, очень многосложен, порою антиномичен. Включает в себя и опыт горьких неудач, поражений, и плод мучительных размышлений, неоднозначных поисков, и неожиданные повороты к непонятным в первое время для окружающих решениям и выводам.
Нередко Ленина обвиняли в пролитой крови в гражданскую войну. Клеймят его за «красный террор». Да, это было. Но нельзя забывать и о «белом терроре», принесшем многочисленные, ничем не оправданные жертвы народу. Любая гражданская война - это бойня, обоюдная жестокость. В ней по большому счету трудно определить, кто правый или левый, кто правильный или неправильный. Такова страшная логика гражданской войны. Она всегда носит разрушительный, разъединительный характер и имеет один-единственный принцип: кто кого. По обе стороны баррикады тогда оказались лучшие сыны России. Если по эту сторону решительно встал Ленин, то по ту сторону, например, с неменьшей решимостью поднялась такая яркая и неординарная личность в отечественной истории, как Колчак. Да, все так и было.
Но абсолютно негоже на основании этого заявлять, что Ленин всегда был кровожадным насильником, диктатором. По этому поводу можно найти достоверные слова у того же Горького: «Чего вы хотите? - удивленно и гневно спрашивал он. - Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы - что же? Не должны, не вправе бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убежден в противном, я сидел бы здесь?».
Можно, конечно же, сделать Ленина злым гением и другим способом: путем сознательного выхватывания из цепи сложнейших событий времен гражданской войны отдельных, действительно имевших место, эпизодов, фактов и даже документов и методом политической спекуляции над ними. Но все это непринципиально характеризует его. Ленин в целом всегда стоял в любом, особенно - непростом, вопросе за политическое решение, за политический компромисс. «В нашем идеале нет места насилию над людьми», - подчеркивал он.
Разумеется, Ленина нужно всегда брать в контексте исторического времени, не экстраполируя слепо на сегодняшний день. Нам нужен реальный Ленин, а не умерщвленная «икона», которой мы многие десятилетия безудержно молились. Нам нужна диалектика живой ленинской мысли, ибо в ней схвачена диалектика самой нашей жизни.
Прав М.С.Горбачев в своем «Слове о Ленине», когда говорит: «Особенно ценен диалектический потенциал Ленина как политика и теоретика для переходных периодов, в условиях быстро меняющейся обстановки. Умение охватить всю сумму противоречивых факторов и определить главную тенденцию, предусмотреть возможные варианты хода событий и выстроить эффективную политику - вот великое ленинское искусство, которому мы должны учиться и учиться».
Учитывая конструктивный характер ленинского мышления, его высокую адаптивность и гибкость в самых различных исторических реалиях, европейскую культуру и образованность Ленина, глубоко сомнительно, чтобы он, поживи, допустим, десяток лет, трансформировался в заклятого коммуниста, то есть в коммуниста сталинского, догматического образца. Ведь Ленин в сущности был западником: по духу, по стилю мышления, по воспитанию, по образу жизни, по блестящему знанию и владению всеми основными западноевропейскими языками, по опыту многолетнего пребывания в Западной Европе. Но Маркс и марксизм - тоже западное явление. Поэтому, на мой взгляд, очень трудно представить в потенции органичную смычку Ленина с такой постленинской деформацией, как Сталин, сталинизм.
Как известно, чисто персональный разрыв между ними уже был обозначен в «Письме к съезду» от 24 декабря 1922 г., точнее говоря, в добавлении к нему, сделанном 4 января 1923 г. под диктовку Ленина, где как раз им дается характеристика Сталина, рекомендация обдумать способ перемещения его с поста Генсека ЦК РКП(б). А если же взять в целом «Последние письма и статьи В.И.Ленина» - их общую линию, основной дух, пафос, лейтмотив, то нетрудно выявить, что они представляют собой настоящий антисталинизм, т.е. противовес тому сталинизму, весь ужас которого нам, вернее, нашим отцам и дедам суждено было сполна испытать на себе. Однако антисталинизм Ленина, если так можно выразиться, у него стал проявляться значительно раньше, еще в начале 1918 г., то есть сразу же после Октябрьской революции, когда он по сути начинает осознавать в новых условиях актуальность положения Энгельса о том, что «революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна». Об этом наглядно свидетельствуют знаменитая ленинская работа «Государство и революция» и ряд статей, написанных именно в этот период (март-май 1918 г.), где он, полемизируя с левыми коммунистами, говорит о назревшей необходимости поиска «реформистских», «постепеновских» методов экономического строительства и форм перехода к социализму. Здесь невооруженным взглядом виден реализм Ленина - основополагающая его черта как политика и теоретика. Отказ от любой формы доктринального насаждения социализма, экономически грамотное налаживание жизни и управление страной - вот что еще тогда становится главенствующим для Ленина. За все эти идеи, за их реализацию он вновь с особой силой берется в конце гражданской, при обосновании и переходе к НЭПу, к одной, безусловно, из самых неординарных и верных находок Ленина.
Однако Ленину историей был отпущен слишком малый срок для строительства нового общества в мирных условиях. Слишком малый. Почти ничего.
Тем не менее, логика его мыслей и действий, особенно в последний период деятельности, ясно свидетельствует о том, что Ленин окончательно созревает для нового видения и понимания природы социализма. И это в концентрированном виде, как итог, выражено в следующей знаменательной фразе: «Вместе с тем мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм». Теперь, по Ленину, главная задача всей постреволюционной деятельности видится в переносе центра тяжести на мирную организационнокультурную работу. Ленин считает становление России социалистической страной немыслимым без культурной революции, хотя четко оговаривается насчет неимоверных трудностей чисто культурного свойства (поголовная безграмотность) и свойства материального (отсутствие нужной материальной базы). Кардинальный пересмотр взглядов на социализм состоит и в том, что Ленин, отказавшись от общепризнанного представления о социалистическом хозяйстве как о единой фабрике, приходит к идее социализма как общества цивилизованных кооператоров. «Новое уравнение», оставленное в его бесценной статье «О кооперации», по существу, открывает нам столь же нового Ленина – цивилизованного реформатора вместо ортодоксального революционера. Суть этого двойного уравнения он определяет следующим образом: социализм равен строю цивилизованных кооператоров, кооператор равен культурному торгашу. И здесь, извините, никак не обнаруживается хоть малейшая толика намека на неизбежность якобы обострения классовой борьбы на пути к социализму, на призыв к пресловутому «раскрестьяниванию».
Такова логика ленинских суждений и выводов на последнем этапе его жизнедеятельности. Ощущение «пропитанности» их духом диалектического отрицания, основанного на известной триаде, налицо. Очевидна неминуемость возврата на круги своя, как бы к старому, но на качественно новом уровне. На деле это означало: начав свою сознательную жизнь с Российской социал-демократической рабочей партии, затем через ее как бы отрицание в виде коммунизма, большевизма Ленин вновь сознательно намечает крутой поворот в сторону обоснованного признания социализма как цивилизованного, демократического строя. Мне представляется, что, доведись Ленину прожить еще лет 7-10, он неминуемо взошел бы и утвердился бы на ступени европейской социал-демократии, где, как известно, в качестве приоритетных традиционно выступают идеи реформирования общества, а не революционные потрясения, выдвигаются демократические ценности, социально-правовые ориентации социализма, его гуманная природа, цивилизованный характер. Я почему-то убежден в этом...
Апрель 1991 г.