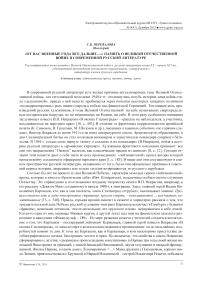«От нас военные года все дальше...»: память о Великой Отечественной войне в современной русской литературе
Автор: Перевалова Светлана Валентиновна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Статья в выпуске: 9 (43), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается тема памяти о Великой Отечественной войне в русской литературе конца ХХ - начала ХХ1 вв., объединяющей произведения художников-современников, «задержанную» литературу и книги русского зарубежья.
Лейтенантская проза, память, автор, герой
Короткий адрес: https://sciup.org/14822424
IDR: 14822424
Текст научной статьи «От нас военные года все дальше...»: память о Великой Отечественной войне в современной русской литературе
В современной русской литературе есть веские причины актуализировать тему Великой Отечественной войны: для сегодняшней молодежи 1940-е гг. отодвинулись вглубь истории, сама война стала «дедушкиной», правда о ней нелегко пробивается через попытки некоторых западных политиков «подкорректировать» роль нашего народа в победе над фашистской Германией. Тем важнее роль произведений русских художников, в годы Великой Отечественной на себе испытавших сверхпредельные исторические нагрузки, но не изменивших ни Родине, ни себе. В этом ряду особенного внимания заслуживает повесть В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда» – «рассказ не наблюдателя, а участника, находившегося на переднем крае» [10, с. 492]. В отличие от фронтовых корреспондентов армейской печати (К. Симонов, В. Гроссман, М. Шолохов и др.), писавших о военных событиях «по горячим следам», Виктор Некрасов до июня 1941-го не имел литературного опыта. Архитектор по образованию, в дни Сталинградской битвы он стал полковым инженером и заместителем командира саперного батальона. В 1946 г. создал свою первую «книгу о солдатах и их командире» (В.Некрасов), войдя в историю русской литературы в «армейских кирзачах». Художники фронтового поколения признают: все они «из некрасовских “Окопов” вылезли, как классические предки из шинели» [8, с. 12]. Сегодня отзвуки этой повести дают о себе знать во всех произведениях «лейтенантской» прозы, авторы которой прошли войну солдатами и офицерами переднего края [1, с. 185]. В наши дни они сосуществуют в едином пространстве русской литературы, независимо от того, были они официально признаны в советский период истории, запрещены или только сегодня возвращаются из русского зарубежья.
Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, характеры молодых героев «лейтенантской» прозы, которые в юности «брали выше себя» (Вяч. Кондратьев), подсвечены особым светом служения Отечеству. Это справедливо и по отношению позднему творчеству самого В.П. Некрасова, например, к его рассказу «Девятое Мая», созданному в начале 1980-х в эмиграции. Здесь главный герой Вадим Николаевич Карташов, кто, как и сам писатель, «весь Сталинград оттрубил», высказывает мнение: Прошло столько лет, а годы эти кровавые страшные, кругом смерть, – вспоминаются … как чистые, незапятнанные [13, с. 540]. Правда, горькая ирония сквозит в сюжете и характерах рассказа о том, что тридцать восьмой день Победы русский художник-эмигрант Карташов встречает в Гамбурге с бывшим «фрицем», немецким летчиком, после нескольких лет «русского плена» вернувшимся к себе домой. Когда-то один из них защищал Мамаев курган, а другой летал над ним на фашистском самолете-разведчике и наводчике «Фокке-вульф – 189» . По мере развития сюжета у читателей создается впечатление о том, что Карташов – постаревший лейтенант Керженцев, главный герой повести Некрасова «В окопах Сталинграда», от лица которого ведется повествование в произведении: он до мельчайших подробностей помнит те дни. К тому же Карташов, как и Керженцев, в ком неоспоримо присутствие автобиографического начала, бесстрашен, честен и прям. По-видимому, эти свойства в самом Некрасове сформированы с детства: «дворянское происхождение и воспитание» («Первые три года своей жизни маленький Вика провел за границей, с мамой Зинаидой Николаевной, двумя тетушками и нянькой-француженкой. Жили в Париже, в одном доме с Луначарскими. <…> Мама дружила с Плехановым, хорошо знала Ленина, приятельствовала с Крупской и Марией Ильиничной – сестрой Владимира Ильича, побывала с ними в Женеве, Цюрихе и Лозанне» [16, с. 116]) заложили в нем «привычку к внутренней свободе, от которой он так и не смог избавиться» [5], какие бы сложности ни приходилось преодолевать. «Окончив Киевский строительный институт, архитектор Некрасов неожиданно сделался актером. Война застала его в Ростовском театре «Красной армии», откуда он ушел на фронт дивизионным инженером. Харьковское наступление, затем отступление, Сталинград» [15], воспоминания о котором – в основе его знаменитой повести «В окопах Сталинграда», созданной «никому неизвестным автором со знаменитой фамилией» (В.Рябцев).
Читателям старшего поколения она хорошо известна, а молодежь впервые открывает ее для себя: получив клеймо диссидента, писатель в 1974 г. был вынужден эмигрировать во Францию. Его имя не упоминалось в печати, книги оказались под запретом и возвращаются к нашим соотечественникам только с начала 1988 г. (годом ранее самого автора не стало). Они и сегодня волнуют, вызывая в современниках эффект сопричастности к событиям тех грозных лет, заряжая симпатией к героям, которых характеризуют мужество, смелость и интеллигентность, в сознании В.Некрасова соотносимая с понятиями «тонкость» и «деликатность». Сама простота керженцевского повествования – простота подлинной интеллигентности, которая не выпячивает себя [7, с. 123]. Повесть воспроизводит кромешный ад окопного Сталинграда» – от Сарепты до Тракторного, когда единственным спасением было знать: «десятый день немцы бомбят город. Бомбят – значит, там еще наши. Значит, идут бои. Значит, есть фронт [12, с. 83]. Не отделяя «я» от «мы», военный инженер Керженцев с «дворянско-декабристской простотой и прямотой» [2, с. 143] передает фронтовые переживания и впечатления воюющего человека: Пулеметы нас почти сразу же укладывают. <…> совершенно не могу понять, почему я цел – не ранен, не убит [12, с. 217]. Элементы натуралистической образности, позволяющие передать жестокость и горечь военных будней в произведениях художников-фронтовиков, в стилевой системе соседствуют с лирическим началом. В «Окопах Сталинграда» Некрасова оно пробивается в воспоминаниях Керженцева о доме, о родном Киеве, образ которого открывает в русской литературе тему разрушенных городов. При этом память героя хранит «вечные знания», пережившие века и сохраняющие первоосновы нравственного чувства.
Не случайно «космический пейзаж» у Некрасова «подсвечивается» библейскими мотивами и образами: Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, как глаз кошачий [12, с. 157]. По-видимому, путеводный образ Вифлеемской звезды ассоциируется и с памятью о Крымской кампании 1853–1856 гг.: с ней досталинградский период Великой Отечественной войны сближает «угроза поражения на собственной территории и угроза потери статуса великой державы» [11, с. 176]. Характерной чертой поведения агрессоров в крымской войне было «унижение православных святынь. Не случайно эта кампания получила также другое название – «Битва за Ясли Господни». В этом ряду – бомбардировка английскими фрегатами 18–19 июля 1854 г. Соловецкого монастыря. В этом ряду – избрание главной мишенью для нападения именно Крыма и Севастополя, который является не только военной базой России на Черном море, но и колыбелью русского православия [6]. Крымская война напоминает и о судьбе севастопольского офицера Л.Н.Толстого, с «Войной и миром» которого В.П. Некрасов не расставался и на фронте [16, с. 118]. На Мамаевом кургане Керженцеву не раз вспомнятся защитники кургана Малахова, а в ходе ночного боя за сопку, занятую фашистами, он отчетливо увидит прямо над головой те звезды, которые, может быть, видел и молодой Л.Н. Толстой, оборонявший осажденный Севастополь. Известно: «В ночь на 11 марта 1855 года под командованием генерала С.А. Хрулева пять тысяч солдат и моряков флотских экипажей пошли на вылазку против французских позиций перед Малаховым курганом. <…> В итоге была ликвидирована неприятельская батарея. <…> Это была самая крупная вылазка за всю оборону. Участником этой вылазки был подпоручик артиллерии Л.Н. Толстой» [3, с. 82], в те годы осознавший, как из несчастий России выливается «чувство пылкой любви к Отечеству» (Л.Н. Толстой). Оттого и Керженцев в дни изнуряющей обороны Мамаева кургана понимает, что скрытая теплота патриотизма , главная сила наших побед, оказывается сильнее, чем немецкая организованность и танки с черными крестами [12, с. 83].
В.П. Некрасов продолжает и патриотические традиции русской классики ХХ в.: не раз упоминается им станица Вешенская. Повесть «В окопах Сталинграда», начинающаяся словами об отступлении нашей армии, не может не вызвать в сознании читателей «Они сражались за Родину» М.Шолохова. Отдельные главы этого романа, начиная с 1943 г., безжалостно «кромсались в ЦК при Сталине», но все-таки публиковались и воспроизводили правду нашего горестного отступления в начальный период войны. Вешенская – «не тот стратегический в истории войны объект», который требовалось обязательно увековечить. «Она, если как-то становилась значимой для пишущего человека, так только по осознании, кто был у нее главным жителем» [14], сумевшим показать отступление нашей армии как начало пути к Победе. Так и Некрасов в своем творчестве шаг за шагом воссоздает правду военных лет. И на Родине, и за рубежом писатель не изменил себе, стоически выдерживая упреки в том, что его герои в дни Сталинградской битвы не видят ничего «дальше своего бруствера». Они видят главное: как день за днем, превозмогая себя, рядовые защитники обороняют город, где остановилось казавшееся безостановочным фашистское нашествие. Об этом сам художник помнил всегда и не погрешил против правды, передоверив своему Карташову в рассказе «Девятое мая» самые дорогие воспоминания: 31-е января, яркий, солнечный день, когда немцы драпанули с Мамаева, помнится, как будто вчера произошло. И второе февраля, сталинградский день Победы, все небо в ракетах, трассирующих очередях [13, с. 535].
В упомянутом рассказе тот самый, вернувшийся из плена немецкий летчик Хельмут, показывает Карташову фотографии: Это мой «Фокке-вульф – 189». <…> А это ваш Мамаев курган. <...> Снимал в октябре. Ты уже был там? [Там же, с. 534]. А как же. С пятого октября, - отвечает Карташов, перебирая старые снимки, сделанные когда-то вражеским самолетом-разведчиком. Он узнает «баки на верхушке кургана», «железную дорогу», «завод “Метиз” ... Внезапно: «А это я, – сказал Карташов, – Видишь белую точку? Это я, у меня был белый тулуп» [Там же, с. 535]. Время по-новому расставляет акценты: оба собеседника многое пережили, да и годы берут свое, приглушая горечь обид: Ты не думай, что я … Да я и не думаю … У нас приказ, у нас бефель … Выполняй. Но главный тост – его, Карташова: «За Победу!» [Там же, с. 550]. Вот только беспокойная мысль все волнует победителя, настойчиво возвращая в тот первый победный май: Сколько ж было ему в сорок пятом? Двадцать пять? Двадцать шесть? [Там же, с.538]. Словно вступая в творческий диалог с В. Некрасовым, Д. Гранин создает образ главного героя в своем романе «Мой лейтенант» (2011).Через его мировосприятие воспроизводится «единая угрожающая картина» 1941-го: Вслед за Ленинградом – Москва, Донбасс, выход к Волге [4, с. 68]. В те дни молодой лейтенант Гранина, как и сам автор, уходит с народным ополчением на фронт, начав свою взрослую жизнь в «промерзших окопах на Ленинградском фронте» (Д. Гранин) и пройдя путь от рядового до командира роты тяжелых танков. В финале романа Д. Гранин, подобно В.П. Некрасову, тоже воспроизводит встречу двух ветеранов, воевавших по разные стороны фронта: мудрый, многоопытный Д., в ком угадывается молодой лейтенант военной поры, в один из юбилеев Победы встречается в нынешнем Петербурге с Густавом фон Эттером, кто в 1940-е «возглавлял какой-то отдел военно-воздушной армии». Теперь, в начале ХХI столетия, он просит нашего ветерана, ни в сороковые, ни в послевоенные не принадлежащего ни к какому «командованию», осуществить «давнюю мечту» – «увидеть Петербург не сверху с самолета, не в бинокль». Помешкав, добавляет: «Ведь мы должны были взять город тогда, в 41 году. Все было готово к этому» [14, с. 307]. А вот то главное, к чему не были готовы фашисты – к встрече лицом к лицу с «горящим в глубине русского характера чувством сопротивления», которое «стимулировалось не усилиями пропаганды, а искони присущей русским беззаветной любовью к Отечеству» [17] в полной мере и раскрывает произведение.
События вечера воспоминаний, уносящих собеседников в далекую фронтовую юность, в сюжете романа Д.Гранина тоже во многом рифмуются с «Днем Победы» В.Некрасова: Густав, светский человек, достал из бумажника свою фотографию 41-го года. Молоденький щеголеватый офицер в форме военно-воздушных сил стоит, опираясь на тросточку, среди горелых ястребков. <…> А у Д. никакого фотоальбома не было, было несколько плохих, туманных фотографий танковой роты его, вместе со своими офицерами при входе в Восточную Пруссию [4, с. 313]. Дело, конечно, не в фотографиях, а в главном: Победу в Великой Отечественной войне одержал хороший человек. В человеке нравственно слабом война способна развязать всякого рода темные инстинкты» [9]. Недаром Густав, аристократические манеры и «бархатная любезность» которого настойчиво подчеркиваются писателем, вынужден признать: «В России мы оскотинились. Стыдно вспомнить [Там же, с. 311].
У нас иначе: война за Родину открывала «человеку, каков он, что он способен выдержать и не расчеловечиться» [Там же, с. 159]. В романе Гранина отчетливо расставлены акценты: размышляя над вопросом, «пошел бы я в ополчение, будь молодым? <…> Ведь я потерял четыре года, а что взамен?», герой Гранина от лица воевавших и уцелевших дает ответ: «Взамен получил оправдание своей жизни» [Там же, с. 294]. В завершении романа Густав, пораженный великолепием Петербурга, взволнованно произносит: Сказочный город .... Хорошо, что он уцелел. Что мы не вошли сюда. Хорошо, что мы не сдались, – сказал я [Там же, с. 317].
В этом «я» - и голос самого Д.Гранина, и голос его «лейтенанта», «совсем молодого, тоненького, перетянутого ремнем, густая шевелюра торчала из-под лихо сдвинутой фуражки», что уходил в историю вместе с теми, кто не дожил до победы, «с Женей Левашовым, Володей Лаврентьевым» [Там же, с. 317] и миллионами других, что остаются навечно в благодарной памяти спасенного человечества. В одном ряду с ними и литературные герои, пришедшие к нам из «юности командиров» (Ю.Бондарев): Юрий Керженцев В.Некрасова, Сашка Вяч. Кондратьева, Борис Костяев В.Астафьева. Какими бы наивными, мечтательными они ни представлялись сегодня, но благодаря им мы живем на родной земле, говорим и думаем на языке русской литературы.
Список литературы «От нас военные года все дальше...»: память о Великой Отечественной войне в современной русской литературе
- Бакланов Г., Лазарев Л. «Теперь, когда прошло столько лет…»//Вопросы литературы.1983.№1.С.177-201.
- Берзер А. О Викторе Некрасове//Дружба народов.1989. №5. С.142-152.
- Голикова Л. «…Каждый рядовой -Шевченко, каждый офицер -Бирилев»//Родина. 1995. №3-4. С.80-82.
- Гранин Д.А. Мой лейтенант. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2013.
- Залина Н. Непростой человек в непростых обстоятельствах//Литературная газета. 15-21 июня 2011.
- Казарин В. «Битва за ясли Господни»: чем на самом деле закончилась Крымская война»//Литературная газета. 2-8 февр. 2005г.
- Кардин В. Виктор Некрасов и Юрий Керженцев: о повести «В окопах Сталинграда» и ее авторе//Вопросы литературы. 1989. №4. С.113-137.
- Конецкий В. Последняя встреча//Огонек.1989.№35. 27 авг.-3 сент. С.11-14; С.28-31.
- Кураев М. Трудяги войны//Литературная газета. 5-6 мая 2006.
- Лазарев Л.Некрасов Виктор Платонович//Русские писатели ХХ века: Биографический словарь/гл. ред. и сост. П.А.Николаев. М.: Большая Российская энциклопедия; Рандеву, 2000. С. 492-493.
- Мигранян А.М.Роль насилия в процессе демократизации России//Освобождение духа. М.: Политиздат, 1991. С.168-186.
- Некрасов В.П. В окопах Сталинграда//В окопах Сталинграда (Русская классика). М.: Эксмо, 2013. C. 5-324.
- Некрасов В.П.Девятое мая//В окопах Сталинграда (Русская классика). М.: Эксмо, 2013. C. 532-549.
- Осипов В. «Ручаюсь головой»: Михаил Шолохов: необычные строчки биографии//Лит. газета. 29 мая -4 июня 2002 г.
- Потресов В.Виктор Некрасов: письма с фронта//Литературная газета 5-11 февр. 2003.
- Рябцев В.Фронтовики: очерк//Звезда. 2001. №6. С.113-120.
- Уткин А. «Дальше отступать некуда»//Литературная газета. 9-15 дек. 2009.