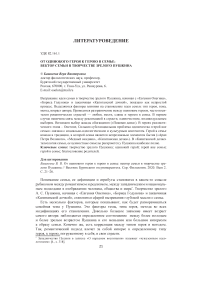От одинокого героя к герою в семье: вектор семьи в творчестве зрелого Пушкина
Автор: Башкеева В. В.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Вызревание идеи семьи в творчестве зрелого Пушкина, начиная с «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и заканчивая «Капитанской дочкой», показано как непростой процесс. Выделяются факторы влияния на становление идеи семьи: тип героя, тема, метод, возраст автора. Проводится разграничение между одиноким героем, часто носителем романтических страстей - любви, мести, славы и героем в семье. В первом случае намечена связь между реализацией в страсти, одиночеством, индивидуальным выбором. Возможен выбор жажды обогащения («Пиковая дама»). В героях реалистического этапа - Онегине, Сильвио субстанциальная проблема одиночества «герой вне семьи» связана с социально-идеологическим и культурным контекстом. Герой в семье вписан в традицию, в которой семья является непреложным элементом бытия («Арап Петра Великого», «Медный всадник», «Капитанская дочка»). В «Капитанской дочке» телеология семьи, ее ценностные смыслы раскроются у Пушкина наиболее полно.
Творчество зрелого пушкина, одинокий герой, герой вне семьи, герой в семье, благословение родителей
Короткий адрес: https://sciup.org/148316611
IDR: 148316611 | УДК: 82.161.1
Текст научной статьи От одинокого героя к герою в семье: вектор семьи в творчестве зрелого Пушкина
Башкеева В. В. От одинокого героя к герою в семье: вектор семьи в творчестве зрелого Пушкина // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 2. С. 21–26.
Понимание семьи, ее дефиниции и атрибуты становятся в каком-то смысле рубиконом между романтизмом и реализмом, между западническим и национальным подходами в изображении человека, общества и мира*. Творчество зрелого А. С. Пушкина, начиная с «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и заканчивая «Капитанской дочкой», становится сферой вызревания глубокой мысли о семье.
Есть несколько факторов, которые показывают, как будет разворачиваться семейная тема у Пушкина. Это факторы темы, типа героя, метода во всех модификациях его становления. Довольно большое значение имеет возраст самого автора: наблюдается определенное соотношение между более молодым и более зрелым возрастом Пушкина и его меньшим или большим интересом к образу семьи. Конечно же, есть корреляция между типом героя и методом. Так, романтический подход влечет за собой интерес к определенному типу героя, к герою, погруженному в себя, в свои страсти.
Не семья, а именно чувства, страсти, то, что позднее Пушкин назовет «преувеличением (exageration) модной поэзии», в центре внимания. К главенствующей романтической страсти любви могут присоединяться и другие страсти. Абсолютизация страстей любви и мести в южной поэме Пушкина «Бахчисарайских фонтан» (1824) не случайно встроена в сюжет, не предполагающий семьи. Гарем, наложницы, Бахчисарай, хан, евнух — все это атрибуты экзотического пространства, условного времени и сферы индивидуального выбора.
Даже в более поздней «Полтаве» (1828) любовная страсть доминирует, хотя и вырастает из исторического контекста. Несмотря на то, что влюбленный Мазепа сделал предложение родителям Марии Кочубей, сама ситуация возможного брака трактуется как ненормальная, а страсть — как преступная. Не случайно матерью Марии предложение престарелого крестника называется «грехом», Мазепа — «старцем нечестивым», а Мария после бегства из дома — «преступницей младой». Преступная страсть, попирающая жизненные нормы, не совмещается с идеей семьи.
Нечто близкое по силе первого романтического чувства встретим в романе «Дубровский» (1833). Вообще этот роман как произведение зрелого автора сложнее с точки зрения изображения героя и семьи. Разбойничья тема соседствует в нем с конкретно-историческими фактами и тенденциями. Владимир Дубровский родом из хорошей, достойной семьи. Письма, которые его матушка писала отцу, создают образ семьи с хорошими традициями, в которой царит атмосфера любви между родными. Мать Владимира, описывавшая мужу, находящемуся в турецком походе, свою осиротевшую без него жизнь, «с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъявляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность» [5, с. 161].
Однако невозможность согласовать романтический разбойничий протест с конкретикой социально-исторических обстоятельств привела, с одной стороны, к невозможности завершить роман, с другой — к сюжетному усилению романтической истории. Месть за поруганную семью и разрушенный кров, превращение Владимира Дубровского во француза Дефоржа усилили в герое романтическое начало, превратили его в бунтаря-одиночку. История взаимоотношений Дефоржа и Марьи Кириловны есть история невозможности для них быть вместе. Не случайно ее драматизм усилен, хотя герои симпатизируют друг другу, — разбойнику не удается освободить пленницу обстоятельств и воссоединиться с ней в порыве чувств.
Романические истории кладутся в основание и «белкинских» повестей «Метель», «Барышня-крестьянка» (1830). Отметим, что в этом реалистическом цикле романическая история сопрягается с идеей семейственности. Причем героиню в «Метели» семейственное счастие ждало не на обычных романических путях влюбленности и побега, а неожиданным для Марьи Гавриловны образом, когда возлюбленный супруг оказался ей подарен судьбой. Счастливая в родительской любви, героиня оказалась счастливой и в супружестве. Модель сентиментального романа была опровергнута вмешательством благой силы, более властной, чем индивидуальный выбор героев. Так же сказочно завершается 22
история Лизы Муромской и Владимира Берестова. И здесь между детьми и родителями достаточно теплые отношения — при внешней конфликтности между Владимиром и его отцом. Причем утверждается внутренняя правда отца как несущая сыну истинное благо.
Видоизменение страсти и показ ее как страсти к деньгам отмечают произведения Пушкина первой половины 1830-х годов. Сосредоточенность на страсти к деньгам, к выигрышу, к идее внезапного обогащения делает героя одиноким. Он может быть фактически одинок при наличии семейного антуража, как в маленькой трагедии «Скупой рыцарь» (1830), или действительно одинок, как Германн в «Пиковой даме» (1833). Страсть к сокровищам перевешивает в бароне Филиппе привязанность к сыну. Не случайно Альбер отмечает, что отец видит в деньгах «не слуг и не друзей», а «господ». Более того, побуждаемый алчностью и желающий сохранить свои сокровища неведомо для кого, барон Филипп обвиняет сына в преступном замысле убить его, а при разоблачении первым бросает сыну перчатку, вызывая того на дуэль. Родственные связи на самом деле не важны для скупца, ценности его деформированы. Они уже тогда были деформированы, когда барон начал заниматься ростовщичеством и обрекал заимодавцев фактически на нужду и смерть. «Жестокий век» — метафора эпохи Нового времени у Пушкина разрушает традиционную семью и ведет к одиночеству в рамках семьи. В остальных «маленьких трагедиях» герои страсти так же субстанциально одиноки при всем проявляемом желании взаимодействовать с другими людьми. Метафизическая деформация ведет к тому, что они являются носителями неизбываемого конфликта.
Так же внутренне одинок Германн, который по природе своей является игроком, живет страстью к игре. И хотя внешне уклад его жизни подчинен идее «упрочить свою независимость» и хотя он говорит, что не может «жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее» [5, с. 215], истинным побудительным мотивом его жизни является страсть к игре. Страсть завладевает героем настолько, что он перестает ценить что-либо другое, например, возможность романических отношений или возможность создать семью.
Критерий метода в его движении к реализму позволяет акцентировать тип героя вне семьи — образы Сильвио из «Выстрела», Евгения Онегина. Онегин как человек, выросший в условиях европеизированного светского Петербурга, практически сиротой при родном отце, оказывается с самого детства внутренне дезориентирован. Юношеские романтические страсти не акцентированы автором и достаточно быстро оборачиваются любовными интрижками. Вся петербургская жизнь героя связана с самоутверждением в свете, приведшим в конце концов к разочарованию и цинизму.
Первая встреча и диалог Онегина и Татьяны осмыслены Н. П. Жилиной в понятиях антитезы «дом — свобода», когда Онегин, отказавшись от невесты, дому предпочитает свободу [1]. Исследователь опирается на идею противопоставления рода и индивидуальной судьбы у А. М. Панченко: «Отречение от рода тождественно выбору индивидуальной судьбы», которая с традиционной точки зрения «есть одиночество и отщепенство» [3, с. 186]. Важно, что мысль о семье не посещает героя и в 8-й главе, во время второй встречи с Татьяной.
Причем в целом для романа характерно присутствие «условной семьи» — семьи как некоего обязательного социального факта, принятого общественного атрибута. Ларины, например, достаточно условная семья, которая показана прежде всего через быт и образ жизни. Интересно, что родные сестры Татьяна и Ольга имеют мало общего между собой, их внутренний мир сложился под влиянием разных обстоятельств.
Наконец третий тип — герой, вписанный в традицию, в которой семья является непреложным элементом бытия. Здесь отличаются сами представления о семье — от идиллического, близкого к идиллическому хронотопу, у Евгения в «Медном всаднике» (1830) до разумного подхода в случае с Ибрагимом («Арап Петра Великого», 1827). У последнего семья предстает как поприще и наслаждений, и обязанностей человека: «Ужели суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека» [5, с. 30]. Однако ни тому, ни другому персонажу не удается создать семью — противятся этому внешние обстоятельства. Семья здесь — искомый идеал, в котором человек может найти полноту бытия.
И самое важное, финальное для Пушкина осмысление концепта «семья» дается в историческом романе «Капитанская дочка» (1836). Важно, что историческая тема с ее стремлением к реализации мимезиса как основного способа познания и представления действительности почти неизбежно ведет у Пушкина к изображению семьи как обязательного субъекта реального исторического и бытийного процесса. Это было уже в трагедии «Борис Годунов» (1824).
В «Капитанской дочке» телеология семьи, ее ценностные смыслы раскроются у Пушкина наиболее полно. Это реализуется в расширении понятия «семья» до понятия «род», когда включение в более широкий понятийный круг позволяет глубже понять смысл концепта. Семья не есть отдельное образование, семья есть звено в череде поколений рода, когда традиция наследуется от пращура к потомкам. Причем скрепляющим началом являются не столько кровные связи, сколько нравственные. Носителем этой нравственности является старший Гринев: «Пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести». Долг и обязанности человека при условии неразрушаемой теплоты отношений являются глубинной скрепой семьи и рода.
Но даже и здесь, в этом вершинном прощальном романе, могут бушевать страсти: не только собственнические страсти Швабрина, но и желание Гринева не подчиниться воле отца. В более общем смысле поиска конечной истины они выливаются в вопрос, который поставил В. Катасонов: «Как жить в этом мире ожесточеннейших страстей, гнездящихся в твоем же собственном сердце, как спастись от неизбежной, беспощадной судьбы, творимой этими страстями?» [2]. Романтическая страсть, как оказалось, может преобразоваться в обычные житейские страсти.
Центральную роль в изживании и преобразовании житейской страсти играет невеста Гринева Маша Миронова. Ее позиция — «Нет, я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия» [5, с. 284] — выражает христианскую идею смирения и почитания родителей. Родители предстают не просто старшими, а выражающими божественное благоволение или отсутствие оного. «Акт родительского благословения вносит в отношения влюбленных высокий религиозный смысл, над этими отношениями отныне — Бог» [7]. Дети же побеждают право индивидуальной правды и раскрываются как продолжатели духа семьи и рода. Не случайно связь родителей и детей есть условие семейственного счастья детей.
Именно общая христианская основа объединяет семьи «добрых и честных» людей. А индивидуальная разница семейных моделей на втором плане — патриархальная в семье Гриневых, гинекратическая у Мироновых. Важно и то, что Пушкин окончательно отходит от семьи без матери. Он непросто шел к изображению семьи, которую мы называем полной — отец, мать, дети. Образ матери отсутствует в значительном числе произведений Пушкина: «Евгений Онегин», «Арап Петра Великого», «Барышня-крестьянка», «Гробовщик», «Дубровский». И лишь в «Капитанской дочке» образ матери наполняется сущностным смыслом.
Таким образом, движение от одинокого героя к герою вне семьи и, наконец, к герою в семье запечатлевает движение от романтизма к реализму, от западнической модели к национальной в ее традиционном православном варианте. «Христианские константы милосердия, сострадания, благословения, молитвы, соборности, благодати, совести формируют национальное русское сознание героев» как представителей семьи и рода [2].
Список литературы От одинокого героя к герою в семье: вектор семьи в творчестве зрелого Пушкина
- Жилина Н. П. Идея дома в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин" [Электронный ресурс]. URL: https://cyberlemnka.m/artide/n/ideya-doma-v-romane-a-s-pushkina-evgeniy-onegin.
- Катасонов В. Н. Хождение по водам. Религиозно-нравственный смысл повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка" [Электронный ресурс]. URL: http://katasonov-vn. narod.m/statji/razdel4/4-v.n.katasonov_khozMenie_po_vodam.htm#77 (дата обращения: 10.08.2020).
- Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры. Т. 3: (XVII - начало XVIII века). М., 1996.
- Пушкин А. С. Избранное. Библиотека русской художественной публицистики. М.: Советская Россия, 1980.
- Пушкин А. С. Собр. соч.: в 10 т. М.: Правда, 1981. Т. 5.
- Хохлова Т. А. Православная этика в сознании героев романа А. С. Пушкина "Капитанская дочка" [Электронный ресурс]. URL: https://docplayer.ru/29770749-Filologicheskie-nauki.html. (дата обращения: 12.08.2020).
- Шапошникова В. В. Слово "Бог" в повести А. С. Пушкина "Капитанская дочка" [Электронный ресурс]. URL: http://www.pushkinopen.ru/texts/view/32 (дата обращения: 14.08.2020).