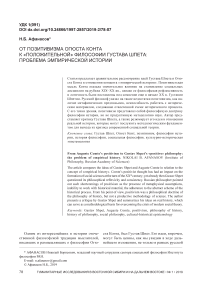От позитивизма огюста конта к "Положительной" Философии густава шпета: проблема эмпирической истории
Автор: Афанасов Николай Борисович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 2 (48), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья предлагает сравнительное рассмотрение идей Густава Шпета и Огюста Конта в отношении концепта «эмпирической истории». Позитивистская мысль Конта оказала значительное влияние на становление социальных дисциплин на рубеже XIX-XX вв., однако ее философская рефлексивность и логичность были поставлены под сомнение еще в начале XX в. Густавом Шпетом. Русский философ указал на такие недостатки позитивизма, как наличие метафизических предпосылок, неспособность работать с историческим материалом, следование отвлеченной схеме исторического процесса. С его точки зрения, позитивизм представлял собой философскую доктрину философии истории, но не продуктивную методологию наук. Автор представляет критику Густава Шпета, а также резюмирует его идеи в отношении реальной истории, которые могут послужить методологическим фундаментом для выхода из кризиса современной социальной теории.
Густав шпет, огюст конт, позитивизм, философия истории, история философии, социальная философия, культурно-историческая эпистемология
Короткий адрес: https://sciup.org/170175901
IDR: 170175901 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-2/78-87
Текст научной статьи От позитивизма огюста конта к "Положительной" Философии густава шпета: проблема эмпирической истории
Одним из интереснейших в истории отечественной философской традиции мыслителей, писавших и размышлявших о философии Огю- ста Конта, был Густав Шпет. Его идеи, впрочем, могут быть ценны, как мы увидим в ходе дальнейшего изложения, не только в рамках русской философской традиции. Рассмотрение Шпетом проекта социальной физики тем продуктивнее, что оно, во-первых, предлагает глубокое и не «школьное» понимание характера мысли французского философа, тем самым представляя ценность как замечания философствующего историка философии. Шпет видит философию Конта, когда она еще жива в умах современников. Во-вторых, анализ критического отношения Шпета к философии Огюста Конта помогает увидеть дополнительные грани в философии самого русского мыслителя, которому не был чужд интерес к тематике истории и социального измерения человеческого бытия [2, c. 103; 7, c. 18]. Историко-философское измерение шпетовского рассмотрения позитивизма в более общем контексте Просвещения на примере влияния философии Огюста Конта на русскую интеллектуальную культуру чрезвычайно важно для понимания ее развития. Помимо этого, важно, что современная социальная теория и теоретическая социология, базирующиеся на идеях Конта, столкнулись с рядом затруднений в процедурах самолегитимации собственного метода. Возможно, критика Густава Шпета может помочь найти выход из сложившихся методологических затруднений.
Судьбу философского проекта Огюста Конта следует признать одной из наиболее удачных в ряду философских учений XIX в. Попробуем прояснить, что мы имеем в виду. В первую очередь, речь идет о том, что проект «социальной физики», наиболее подробно изложенный философом в шестой книге его сочинения «Позитивная философия» [19, p. 118–120], реализовался в полном объеме, послужив основой для создания новой научной отрасли знания – социологии. Учитывая значительную часть замыслов самого Конта, состоявших – совершенно в духе позитивизма – в необходимости заменить философский вопрос «почему?» наукообразным вопрошанием «как?» [9, c. 210–211], следует признать, что в этом отношении им удалось осуществиться.
Смысл этого изменения вектора рассмотрения социальной реальности доступен наблюдателю и сейчас, спустя более чем полтора столетия после выхода трудов Конта: современную социологию, скорее, характеризует фрагментация [24, p. 114–116] исследований, их эмпирический, количественный характер; выделение и даже создание зачастую не связанных друг с другом подтеорий и новых методологических установок для работы с многообразием действительности, но никак не претензия на универсальное понимание того, что есть общество, и как оно функционирует. Социология ставит по большей части те вопросы, на которые может ответить эмпирическим исследованием, и сама возможность дать ответ при помощи определенной методологии, которая только и признается адекватной для получения знания, предшествует формулировке исследовательской задачи. Кажется, что в таком случае цель науки, как познания, чьи результаты неизвестны заранее, размывается. Заметим, что в социальной философии наблюдается аналогичное положение дел.
Несмотря на то, что Конт не предложил важных методологических подходов для работы с социальным, которые были бы апробированы поколениями социологов на практике и продолжали находить свое применение при научной работе, его относят к важнейшим классикам социологии наряду с Эмилем Дюркгеймом и Максом Вебером, чьи интерпретации и идеи, заметим, не утратили актуальности и продолжают активно использоваться в работе социологами [6, c. 5–7; 20, p. 110–111]. Энтони Гидденс в предисловии к книге «Социология. Вопросы и проблемы», призванной охарактеризовать в самом фундаментальном ключе дисциплину, ее генезис и современное состояние, упоминает Конта, когда пишет, что мыслители прошлого, «…формулируя цели социологии, … стремились повторить в области исследования социального мира достижения естественных наук в объяснении физического мира. Огюст Конт (1798–1857), впервые употребивший термин “социология”, был самым ярким представителем такого подхода» [4]. То есть Конт был важен не оригинальностью своей мысли, но «яркостью» в репрезентации методологической установки.
Далее, Э. Гидденс, переходя от исторического экскурса к смыслу современной социологии, упоминает Конта лишь как мыслителя, чей подход оказал решающее влияние на Эмиля Дюркгейма, которому и суждено было сформировать рабочую парадигму исследования социальной реальности [4, c. 134]. С нашей точки зрения, этот ход мысли английского социолога говорит о Конте гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Удивительным образом, Конта, признанного «отца» социологии, сложно назвать социологом, а его влияние и роль в социологии обусловливается главным образом тем, что он транслировал удачно им же сформу- лированную установку на естественнонаучное измерение социальной реальности, которую воспринял Дюркгейм. Ирония этого момента в том, что эту установку следует считать метафизической и философской.
Историко-философское разделение мысли Конта на «философский» пласт, к которому традиционно относят утопические, политические и религиозные сочинения философа, и «социологический», сформировавший социологию как науку, не представляется нам в достаточной степени корректным, поскольку его мысль исключительно философична в своем единстве, пусть и не в достаточной степени рефлексивно. Это, впрочем, ничего не говорит о том, что она априорно лишается своей ценности, хотя и указывает на некоторые ограничения ее проектного характера. Макс Шеллер, в частности, призывая к более сложному истолкованию исторического развития и места человека в нем, пишет, что Огюст Конт «…в своем “законе трех стадий” разделял и оценивал историю в соответствии со стадиями развития человеческого знания и технической цивилизации человечества, с ужасающей наивностью прилагая к ней мерку современной ему позитивно-индуктивной науки, западноевропейского индустриализма и его столь ограниченные в пространстве и времени масштабы ценностей» [11, c. 144].
Поэтому полемику вокруг идей Конта с целью их критического рассмотрения не только любопытно, но и необходимо помещать именно в философский, а не исключительно научно-методологический, социологический контекст, зачастую априорно содержащий наивный дух позитивизма. Тем более что тот же Гидденс критично высказывается о границах применимости позитивизма в современной социологии: «…Практическое применение социологических знаний не идентично и не может быть идентичным практическому применению достижений естественных наук. Дело в том, что атомы не могут знать, что о них думают ученые, и изменить свое поведение соответствующим образом» [4, c. 134]. При этом эвристический потенциал философской дискуссии вокруг идей французского мыслителя был наиболее продуктивным в первой четверти XX в., когда влияние позитивизма как методологической установки и умонастроения еще продолжало оставаться доминирующим.
Кратко обрисовывая релевантный для нас интеллектуальный контекст эпохи рубежа XIX и XX вв., столь необходимый для понимания глубоко полемичной мысли Густава Шпета и замысла его проекта философии истории философии, необходимо отметить особое место позитивизма в жизни, практике, а главное и в умонастроениях деятелей той поры. Из перспективы начала XXI в. может сложиться представление, будто позитивизм утрачивал свои позиции под натиском только появившейся феноменологии, зарождавшейся аналитической философии, развивавшейся «философии жизни» и ряда других философских школ. Однако эта оценка не будет соответствовать действительности. В самом деле, на рубеже веков и в первой четверти XX в. появилось достаточно много нового в мысли и теории, но то, что это лишь зарождалось и начинало набирать популярность не может свидетельствовать в пользу того, что уже тогда было очевидно, что именно эти феномены станут характеризующими эпоху. Мы не должны быть обмануты призраком новизны. Первая мировая война еще не окончилась кризисом позитивистских надежд, Гуссерль и Витгенштейн еще не выдвинули свои контр-проекты рационалистичному развитию философии [22, p. 15, 28], и позитивизм, а, следовательно, и Конт занимали одну из лидирующих позиций, являясь – опустим здесь сложные переплетения с марксизмом, утилитаризмом и дарвинизмом – наиболее приемлемой философской рамкой построения картины мира для большого числа интеллектуалов.
Наиболее артикулировано идей Конта Шпет касается в формально отличных по задаче работах, опубликованных в нескольких независимых друг от другу сочинениях. Значительное внимание фигуре французского философа было уделено в лекционных курсах 1912 г. по логике и в конспектах по теории познания, истории новой философии, истории науки, которые оставались неопубликованными до реконструкции, проведенной философом Т.Г. Щедриной только в 2010 г. [14], но, очевидно, важным образом характеризующими мысль Шпета и его взгляды. В вышедшей в 1916 г. книге «История как проблема логики. Часть первая» Шпет также обращается к творчеству отца социологии, поскольку без обращения к Конту завершение проекта французского Просвещения было бы невозможно описать с историко-философской точки зрения, а важность феномена Просвещения как вехи в развитии европейской мысли для философии Густава Шпета, учитывая работу представителей французского и немецкого Просвещения с феноменом истории, сложно перео- ценить. Помимо этого, французский философ играет важную роль в книге, казалось бы, никак не связанной с контекстами социологии, французской мысли и позитивизма вообще. Речь идет о посвященной истории русской культуры и философии работе, также реконструированной Т.Г. Щедриной с использованием архивных материалов «Очерк развития русской философии» [13]. Эта связь российской философии с позитивизмом, совершенно в духе времени, впрочем, является дополнительной иллюстрацией органичной включенности русской философии в контекст мировой мысли.
Для логики нашего рассмотрения важно понимать замысел Шпета в отношении построения философской истории философии [23]. Ключевое здесь то, что история философии не является историей в общепринятом толковании смысла этого слова, хотя нужно заметить, что уже изначально в древнегреческом ἱστορία содержался смысл «расследования» и синонимичность понятиям «знание», «наука» [3, c. 638]. С нашей точки зрения, шпетовское понимание, несомненно усложненное достижениями в области развития философского знания, ближе всего именно к античному пониманию задач исторического познания. Предпринимая попытку картографировать место истории философии Густава Шпета, с известной долей погрешности, присущей метафорическому мышлению, следовало бы поместить ее между гегельянским пониманием развития духа в истории и античным аналитическим рассмотрением [5, c. 108]. При этом русский мыслитель не ставит своей задачей строить утопию через прослеживание логики истории, что в корне отличает его от интересующего нас в рамках данного исследования Конта и, конечно же, от влиятельной позиции Карла Маркса.
Интересно, что для самого Шпета учение Конта распадалось на несколько неравноценных по философской значимости частей. Так, Шпет выделял значение Огюста Конта для философии науки, указывая, что французский мыслитель сделал много для отстаивания значения рациональности в европейской культуре. В отношении ценности его соображений относительно устройства физической вселенной Шпет, тем не менее, не испытывает иллюзий: «В начале XIX века, например, Конт утверждал, что для науки навсегда останется недоступным знание химического состава звезд. Однако очень скоро после этого утверждения как раз химический состав звезд был открыт Бунзеном» [14, c. 55].
Догматизм позитивизма, детерминированный отвлеченной философской схемой, не дал результатов на практике. Сам Густав Шпет в тех же лекционных курсах демонстрирует себя как гораздо более гибкий, не лишенный воображения мыслитель [14, с. 85, 134]. Шпет признавал продуктивное намерение за импульсом, послужившим Конту для создания позитивной философии, но реализация этого намерения на практике не нашла интеллектуальной поддержки у русского философа.
Отношение к истории, подчеркивание ее роли является важным тематическим сходством в проектах Густава Шпета и Огюста Конта. Как мы показали выше, Конт, пусть и не желая именно этого, мыслил, скорее, философски, и рассматривать влияние его позиции на философию следовало бы больше с точки зрения разработки позитивистского проекта философии истории. При этом важно разграничивать терминологическое употребление у Конта. К «истории» самой по себе он обращается сравнительно редко, но вот к «естественной истории» [19, p. 75, 93, 99] отсылок в его философских трудах огромное количество, и можно было бы смело утверждать, что это одно из ключевых понятий его философии. За понятием естественной истории скрывается представление о том, что человеческое общество, социальная динамика существуют в соответствии с естественными законами – законами, которые обнаруживаются образцовыми эмпирическими науками, такими как физика или биология, при работе с природой.
Далее Конт именно на основе концепта естественной истории выстраивает свое представление об истории вообще и формулирует свой знаменитый закон трех стадий. Часто можно встретить мнение, что он является аксиоматическим и уже на его основе выстраивается здание социальной динамики Конта. Однако сам философ указывает на то обобщение эмпирических наблюдений, которое лежит в его основе: «Развитие, которое приносит за собой улучшение, мы можем признать фактами. … В любом случае гармония и движение являются результатом неизменных естественных законов природы, которые производят все феномены вообще, и настолько более непонятные в области социального, насколько величественнее сложность рассматриваемых феноменов» [19, p. 196]. Из этой мысли путем логического следствия выводится непреложность «позитивного» вектора развития человечества, которое, развиваясь, необходимо улучшает себя и свою социальную структуру, в которой существует [19, p. 207].
Философски осмысляя эту позицию, не будет преувеличением определить эту философию истории как формально завершенную. В самом деле, для Огюста Конта ясны механизмы, приводящие в движение историю, прозрачна динамика этих процессов, имеющая вполне конкретную, эмпирически верифицируемую направленность. Даже способы познания исторического процесса, как философские, так и научные, не скрыты от умозрения наблюдателя. При этом научные способы познания первичны по своей логике, а философия на историческом промежутке своего существования, вероятно, до того момента, как Конт создал свое учение, отстает от хода развития науки. Философия рубежа Просвещения нуждалась в модернизации, и Конт преодолевает ее отставание, заявляя о бесплодности метафизических попыток осмысления мира, и, в противопоставление неработающему методу познания, предлагает опереться на логику наук, то есть выдвигает программу позитивизма. Завершением логики всех наук в применимости к миру человеческого будет социальная физика, рассматривающая многообразие явлений в их динамике, и во многом заимствующая опыты работы с живым у биологии [19, p. 251]. Но это уже свершившееся завершение, поскольку, представляя количественное многообразие явлений и предоставляя лишь новое на пути развития техники и самосознания человеческого общества, ничего качественно нового в человеческой истории открыто не будет. Живая история мысли, для Конта представлявшаяся историей многочисленных заблуждений и метафизических гипотез, завершилась, открыв будущее место измерительной деятельности социальной физики.
Представление Шпета об истории в корне отличается от контовской концепции. Самое важное, что она не является ни концом философии, ни концом какого бы то ни было процесса вообще. История – это живая, полноценная форма существования философии, в которой только и может существовать мысль. Характеризуя философскую историю Конта, Шпет пишет, что «…проникнутая идеей “эволюции” философская история приводит к мысли об одной общей систематической науке о социальном и, таким образом, приводит к созданию динамической социологии, с основной идеей прогресса (Конт)» [12, c. 37]. Положительный ее смысл заключается в движении к созданию научной истории, являющейся несомненным благом, поскольку она собирает эмпирический материал. Собственно, для Шпета философская история является первичной для построения научной, что свидетельствует о личной позиции философа, артикулирующей глубоко укорененную в европейской культуре взаимосвязь между метафизикой и эмпирическими науками, а не о противопоставлении научного и философского познания. Проблемы философского рода возникают тогда, когда в процессе развития истории на базе рационализма, без осознания своей связи с философией в истории «… то, что может быть, в свою очередь, принимается ею за то, что должно быть, и в результате просто утверждается, как то, что было» [12, c. 38].
Последнее замечание Шпета ценно и как характеристика концепций научной истории, порождающих нормативные варианты философской истории, и может быть трактовано, как адресованное в том числе и Конту. Как подчеркивает Т.Г. Щедрина, «…научная, или как ее называет Шпет, “положительная” философия не является оппозицией религиозной философии, как у нас часто сегодня полагают, понимая под научной философией традицию, идущую от “позитивной” философии Конта. Шпет называет такую “позитивную” философию “приватной”, отрицательной» [1, с. 12]. Философский смысл этой отрицательности позитивной/пози-тивистской философии истории раскрывается в нескольких важных проявлениях. В частности, позитивистский взгляд, налагая нормативную рамку из перспективы своего времени, по определению условия задачи, считающегося более развитым и совершенным не только в техническом, но и в интеллектуально-философском смысле, упраздняет смысл значительной части истории мысли вообще. Этот подход необычайно успешен для научного описания и построения моделей хозяйственного развития обществ, познания «вещей» [12, c. 228], но не подходит для работы с более важной для Густава Шпета как философа историей мысли.
Самоценность любой мысли, находившейся в диалоге и контексте эпохи, упраздняется позитивизмом, что ведет к переопределению предмета истории в духе рационализма, происходит подмена и метода, и предмета исторического познания. Шпет пишет, что «… спецификация, вносимая рационализмом, сразу переходила к названию человека в качестве предмета истории, чем, как выше не раз уже было отмечено, сразу вносилась в определение гипотеза, имен- но подсказывалось психологическое объяснение там, где требовалось прежде всего логическое указание предмета» [12, c. 366]. Но существует ли человек отдельно, вне истории? Не является ли каждая историческая эпоха сама по себе достойной исследования? С точки зрения Шпета, ответы на эти вопросы есть, и прояснить их смысл могла бы помочь логика. Логические дисциплины для Шпета тем важнее, что философия, единственно имеющая универсальный характер, способный связать знания, человека и мир в единый комплекс представлений, в своей основе имеет логику, принадлежащую к числу основных философских дисциплин [14, c. 19–20].
Кажущаяся сложность предмета познания, для многих упраздняющая саму возможность создания единого, универсального метода исторического познания, для Шпета является, скорее, аргументом в пользу работоспособности того подхода, который он предлагает: история становится проблемой логики, но не ценности или утопии. И эта логика, как показывает реализация замысла философа, находит себя в философии истории философии. При этом под логикой подразумевается нечто отличное от используемого в служебном качестве в статистике или математике: «… В логике же мы в сущности не подвинулись вперед. … Между тем как раз современные споры о предмете истории и вообще социальных наук с возрастающей настойчивостью выдвигают этот вопрос на первую очередь» [12, с. 224]. Логика присуща не только оценке событий, но и самим событиям, и разработка ее в отношении к социальности является приоритетной задачей для развития «положительной» философии истории.
Любопытно, что «положительное» начало, присущее настоящей философии, обозначено Шпетом именно таким термином, что необходимо учитывать, если соотносить это с характеристиками «позитивного», которые вкладывает в философию Огюст Конт. С нашей точки зрения, это весьма удачная лингвистическая находка философа, одновременно подчеркивающая особенности его концепции и отграничивающая его идеи от «позитивного» подхода рационалистской философии истории. Идеи к философии истории, предложенные Контом в «Курсе позитивной философии», не являются положительными. Для Шпета их влияние на конституирование современной ему философии можно было бы однозначно охарактеризовать как негативное, поскольку они не просто фор- матируют философское пространство под себя, отрицая другие конкурирующие идеи, но и способствуют утверждению нового, «привативно-го» статуса философии, лишая ее возможности жить в мире: «Но опасность, о которой мы говорим, кроется здесь в том, что философия не просто отождествляется с наукой или трактуется как совокупность “наиболее общих” выводов науки, – это слишком наивно, – а ей придается видимость совершенно самостоятельной сферы знания» [12, с. 20].
Дух гегелевской философии истории просматривается в изложении и Конта, и Шпета, и в рефлексии Шпета над проектом Конта. Он является логически и структурно их объединяющим, несмотря на столь разную его интерпретацию у двух философов. Его присутствие в одном случае – случае «позитивной» философии Конта – формально, а в случае философской истории Густава Шпета обогащает «положительное» движение мысли. Если для Конта отрицание прошлого в истории мысли, за исключением опоры на некоторых философов, таких как Кондорсе [12, c. 121], которых он относит к своим предшественниками, – это необходимость философии, то для Шпета работа с чужой мыслью является составной частью собственно философского творчества. Говоря о параллелизме в интерпретации философии истории Конта и Гегеля, мы можем обратить внимание на то, что «… несомненно социологическая концепция, предложенная Контом, поддается опасно оптимистической интерпретации таким образом, что научное представление о произвольном порядке фактически подходит к совпадению с систематической апологией любого существующего порядка» [21, p. 541].
Применение позитивизма для разработки реально работающей методологии истории с точки зрения Шпета абсурдно, потому что оно зеркально отражает последствия эмпиризма, который, «… желая быть философией, основанной на естественно-научном опыте, … не оставил даже методологической проблемы этого опыта, тем более он не был в состоянии поставить и понять проблему “опыта исторического”» [12, с. 381]. Положительная философия же исходит из задачи подведения эмпирического под более общую философскую схему [8, c. 132], которая позволит обнаружить в закономерностях, логической структуре феноменов их смыслы, лежащие вне формальных наблюдений. Только в ее рамках исторический опыт, как опыт социальности, наполненный смыслом и существующий во времени, становится предметом познания. «По мнению Шпета, в историческом познании мы идем от чувственной действительности как загадки к идеальной основе ее, чтобы разрешить эту загадку через осмысление действительности, через усмотрение разума, в самой действительности реализованного и воплощенного» [16, с. 73].
Сам позитивизм и Конт как его представитель становятся объектами исследования для историко-философской мысли Густава Шпета. Рассмотрение позиции Огюста Конта Густавом Шпетом формально следует разделить на две параллельные, не находящиеся в иерархическом отношении области. В первую очередь Конт интересует Шпета как представитель специфического движения в мысли французского Просвещения. Отталкиваясь от своих представлений о смысле истории философии, Шпет, несмотря на очевидное несогласие с позицией французского философа, дает его идеям и их влиянию объективную оценку, которая предоставляет исследователю дополнительную ясность в вопросе о том, каков генезис философии Конта, если рассмотреть его критически. Это является прекрасной иллюстрацией конкретного различия между подходами к истории философии у двух мыслителей, ведь будь позитивизм Огюста Конта доминирующей методологической парадигмой в работе с историей философии, Шпет, как и многие другие философы, не удостоился бы внимания.
Ни в первой, ни во второй части работы Шпета «История как проблема логики» Конту не посвящены отдельные главы. В качестве философа истории Конт для Шпета вторичен, что показывает признание русским мыслителем философской новизны скорее за идеями Тюрго, чем Конта – идеями, которые дают «… в высшей степени интересный образчик философского обозрения истории» [12, с. 119]. В таком тоне об Огюсте Конте Шпет не пишет, однако замечает, что сам Конт неверно указывал свой идейный исток в трудах Кондорсе. Для Шпета недостаток рефлективности исторического мышления самого философа уже ясно характеризует, в негативном ключе, возводимую философскую систему. Тюрго же «…обнаруживает необычайную широту кругозора, умение видеть общее и связующее между самыми разнообразными проявлениями человеческого духа, тонкое понимание смысла и ценности философских и психологических теорий, искусное разделение и анализ в сложных проявлениях творчества» [12, с. 119–120].
Но зачем тогда вообще упоминать Конта? В чем историко-философский смысл обращения к мысли философского противника, которая характеризуется Шпетом как вторичная и неоригинальная? Полемическими соображениями объяснить это нельзя, поскольку Шпет и Конт все-таки не современники. Указанное нами очевидное влияние идей Конта или, говоря более обще, влияние позитивизма, ассоциируемого с идеями Конта, может объяснить цели Шпета лишь отчасти, ведь мы концентрируемся именно на концептуальной работе философа, а не на его малых работах, посвященных критическим рассмотрениям. Именно это кажущееся противоречие дает ключ к пониманию метода философской истории философии, которая отнюдь не пренебрегает научностью, но рассматривает все важное, что повлияло на развитие мысли. Для того, чтобы преодолеть эмпиризм вообще, необходимо проследить его генезис и выделить из него то, что будет ценно для философии. Самым ценным в нем является повышенное внимание «… к исторической проблеме и к историзму, как принципу» [12, с. 134]. Конт, предложив свое понимание места истории и подтолкнув социальную физику к созданию, тем самым также сыграл значительную роль в эмпирической истории будущего становления философии истории.
Второй пласт включения идей Конта в фокус рассмотрения Густава Шпета мы обнаруживаем при работе философа с историей русской мысли. Говоря об интеллектуальном наполнении русской жизни в 1840-е гг., Шпет в конспекте серии статей А.А. Скабичевского отмечает, что вопросы социальные и социально-политические занимали умы, «…и в то же время была впервые проповедана русской публике позитивная философия Конта» [13, с. 608–609]. В «Конспекте “Очерка”» Шпет отмечает замечание Бердяева о положительном влиянии Конта, чья философия заменила для русской философской публики материализм [13, с. 51]. Эта философия затем завладела умами некоторых видных отечественных интеллектуалов, в частности Петра Лавровича Лаврова, которому Шпет посвящает отдельный разбор.
Шпет указывает на то, что сама философия Конта не была детально проработана ни Лавровым, ни кем-либо еще из отечественных философов. Ее восприятие, сформированное более духом времени, нежели качеством идей, превратилось в специфическое порождение, совмещающее в себе потребность в живой мысли, но в отсутствии историко-философской точности и знания приписавшее часть собственных достижений мысли Конту [13, с. 476]. Шпет видит в этом не недостаток мысли, но интересный пример того, как функционирует дух эпохи: это не социальная детерминация, но заблуждение философского разума, которое обусловлено верным желанием познания, которое не всегда удается осуществить. Для осуществления его необходимо прибегать к тем философам, чьи учения Шпет относит к «положительным». В контексте запроса на феноменальное познание исторической закономерности такой фигурой мог бы выступить и отчасти выступал Иммануил Кант [13, с. 501].
Помимо фундаментального вопроса об истории, который тематически объединял Шпета и Конта, важнейшим является вопрос о методологии научного познания. Шпет «…рассматри-вает педагогическую модель О. Конта, Дж. Ст. Милля, Г. Спенсера в контексте их философского знания, что само по себе весьма существенно для сохранения образовательной традиции фундаментального исследования. Но понимание научности в позитивистской установке жестко прагматизировано» [15, с. 12]. Казалось бы, речь идет об образовании, но оно покоится на фундаменте представлений о научности вообще, и тут мы сталкиваемся с принципиальным расхождением позиций.
Конта интересовали вопросы философии науки, поскольку для осуществления проекта позитивной философии было необходимо разрешить методологические затруднения, обосновать верность метода эмпирического познания. Заблуждением является утверждение, будто социология стоит в основании научного познания. Это невозможно уже в силу того, что сама социология заимствует свой метод у физики и биологии и должна выстраивать себя по их канону, лишь в применимости к относительно более сложным системам [18, p. 229, 234]. Безусловно Конт отмечал влияние «социальной физики» и социальную детерминацию познания [19, p. 169], однако оно не первично. Рефлексия Конта в отношении построения научного знания выглядит примитивной в сравнении с идеями Шпета, указывавшего на философский, логический базис познания, существующий в комплексном историческом и диалогическом измерениях, ключевым актором в которых является уникальная личность исследователя и его «сфера разговора» [17, c. 26–27]. Можно было бы сказать, что и для Шпета, и для Конта методология науки едина, поскольку, в сущности, с методологической точки зрения, нет различия между гуманитарными и естественными науками, прикладными и фундаментальными, однако мы видим, какая пропасть в смыслах скрывается за этой формулировкой. И эта пропасть может стать очевидной лишь при историческом рассмотрении.
Итак, само обращение Шпета к фигуре Огюста Конта было инициировано несколькими факторами, в числе которых наиболее значимыми являются важность французского философа для истории философии XIX и начала XX вв. Густав Шпет при этом, рассматривая философские идеи Конта буквально мимоходом, задает критическую парадигму, указывая на фундаментальные несовершенства и наивность метода основателя социологии, к которым относится излишнее внимание к эмпирическим наукам и совершенное непонимание философии истории, скрытое искусственными ограничениями позитивизма. В противовес этому Шпет обосновывает свой метод познания, куда более комплексный, сложный и лишенный по меньшей мере тех критических недостатков, что присутствовали в концепции позитивной философии. Даже в рамках познания социальной реальности методологические наработки Густава Шпета [10], прицельно не занимавшегося социологией, выглядят куда более убедительными, чем примитивный редукционизм Огюста Конта.
Список литературы От позитивизма огюста конта к "Положительной" Философии густава шпета: проблема эмпирической истории
- Автономова Н.С., Вендитти М., Гусейнов А.А., Денн М., Лекторский В.А., Микешина Л.А., Найман Е.А., Порус В.Н., Пружинин Б.И., Чубаров И.М., Щедрина Т.Г., Янцен В.В. Густав Шпет и современная философия гуманитарного знания. К 130-летию Г.Г. Шпета. Встреча вторая // Вопросы философии. 2010. № 7. С. 3-39.
- Афанасов Н.Б. К пониманию статуса социального мира (размышление над книгой) // Вопросы философии. 2018. № 4. С. 100-110.
- Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь (репринт V-го издания 1899 года). М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2011.
- Гидденс Э. Социология // Социологические исследования. 1994. № 2. C. 129-138.
- Ерыгин А.Н. Русская философия в контексте «Феноменологии духа» Гегеля (историографические сюжеты) // Вестник русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15. № 4. С. 99-111.