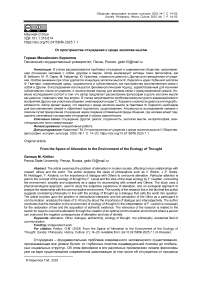От пространства отчуждения к среде экологии мысли
Автор: Кириллов Г.М.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема отчуждения в современном обществе, затрагивающая отношения человека с собой, другими и миром. Автор анализирует взгляды таких философов, как В. Бибихин, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер, Ю. Кристева, о важности диалога с Другим для преодоления отчуждения. Особое внимание при этом уделяется концепции экологии мысли Ф. Ларюэля и идее глубинной экологии Ф. Гваттари, соединяющей среду, социальность и субъективность как пространство восстановления связи с собой и Другим. В исследовании используется феноменологический подход, задействованный для изучения субъективного опыта отчуждения, и экологический подход для анализа связи с коммуникативной средой. Новизна исследования состоит в том, что автор предлагает рассмотрение философии в русле экологии мысли как диалога, ставящего мир под вопрос. В статье затрагивается проблема межкультурного взаимодействия и восприятия Другого как участника общения, анализируются идеи С. Хоружего о важности диалога и интерсубъективности. Автор делает вывод, что переход к среде экологии мысли (в трактовке Ф. Ларюэля) необходим для восстановления связей и обретения подлинного существования. Актуальность исследования связана с поиском путей преодоления отчуждения через создание оптимальной среды общения, где человек может преодолеть негативные последствия отчуждения и утраты идентичности.
Отчуждение, Другой, диалог, подлинность, экология мысли, не-философия, экзистенциальное поле коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/149148779
IDR: 149148779 | УДК: 101:1:316.614 | DOI: 10.24158/fik.2025.7.1
Текст научной статьи От пространства отчуждения к среде экологии мысли
и продукта труда, от других людей и от своей собственной родовой сущности). В настоящее время отчуждение воспроизводится обезличивающей информационной средой, в которой нарастает преобладание коммуникации над подлинным общением. В эпоху цифровой революции и тотальной медиатизации сферы коммуникации этот феномен приобретает новые, подчас неожиданные формы, требуя переосмысления традиционных философских подходов. Владимир Бибихин в своем анализе современного информационного пространства охарактеризовал эту агрессивную среду как пространство «непривязанных смыслов», которое возникает тогда, когда «мысль перестаёт быть непосредственно словом, и возникает “дискурс”, пространство… якобы где-то существующее, на деле мнимое» (Бибихин, 2020: 41). «Мнимое пространство», по точному выражению Павла Флоренского, создает иллюзию присутствия и включенности, тогда как на деле лишь углубляет экзистенциальный разрыв между человеком и его подлинным бытием-в-мире. Флоренский в своих геометрических исследованиях показывает, как мнимые пространства, обладая всеми формальными признаками реальности, тем не менее остаются принципиально неуловимыми для непосредственного переживания, превращаясь в своеобразные ловушки сознания. По мнению П. Флоренского, мнимое пространство разделяет мир видимый и мир невидимый. Оно является зеркальным двойником мира объективного. Термин «мнимое пространство» активно используется в языке современной науки. Это пространство – нематериальное. В этой точке «с обратной стороны» существуют совершенно другие ощущения времени и состояния («мнимых координат») (Флоренский, 1991: 24).
Человек ХХI века, помимо обычного материального мира, погружен в виртуальный, мнимый, из-за чего границы между реальностью и виртуальностью часто становятся размытыми. Такая ситуация способствует отчуждению индивида как от собственной сущности, так и от других людей и общества в целом. Этот процесс, имеющий глубокие историко-философские корни, в цифровую эпоху приобретает характер настоящей эпидемии. Самым тяжелым и опасным видом отчуждения, несомненно, является отчуждение от самого себя, чреватое овнешнением и овеществлением и, наконец, утратой подлинного Я. Результатом этой наиболее драматической формы отчуждения в современных условиях становится разрыв человека с самим собой – утрата внутренней целостности и устойчивой идентичности. Такое отчуждение ведет к потере смысла жизни и одиночеству. И это не случайно: осмысленное существование может быть только в событии с Другим, с которым возможно вести диалог.
Согласно базовым принципам философии экзистенциализма, наличие Другого является неотъемлемым элементом для формирования идентичности. В становлении самосознания конституирующую роль играет Другой: именно через взгляд Другого, через его признание или отрицание складывается наше представление о себе. По словам Жана-Поля Сартра, «… другой не только открыл то, чем я был: он конституировал меня по новому типу бытия…» (Сартр, 2002: 247). Однако западная философская традиция, начиная с картезианского радикального разделения res cogitans и res extensa, создала предпосылки для углубляющегося разрыва между сознанием и телесностью, между Я и миром. Развивая эту линию, И. Фихте ввел концепцию делимого Я и Не-Я, что, с одной стороны, позволило преодолеть жесткий дуализм Декарта, но с другой – заложило основы для последующей фрагментации человеческой идентичности1. Наряду с этим множественность Я предполагает перспективу его пространственно-временного измерения, а впоследствии порождает проблему определения его онтологической прописки, поскольку присутствие сознания в мире неочевидно. Дуализм и даже разрыв духовности и телесности не преодолевается немецкими классиками, а даже становится абсолютным. Такая трактовка Я во многом обусловлена трансцендентальным методом, унаследованным И. Фихте от И. Канта, который, будучи трансцендентальным идеалистом, тем не менее постулирует, что «все субстанции, поскольку они могут быть восприняты в пространстве как одновременно существующие, находятся в полном взаимодействии» (Кант, 1998: 311). Показательно, что Кант подчеркивает: возможность общения в широком смысле «нельзя понять лишь разумом… без внешнего созерцания в пространстве» (Кант, 1998: 341). Однако это его замечание долгое время оставалось без внимания.
В XX веке дуалистическая тенденция получила мощное развитие в различных философских и психологических школах. Психоанализ Зигмунда Фрейда расколол человеческую психику на сознательное и бессознательное, введя представление о принципиальной неполноте и противоречивости Я. Экзистенциализм, при всей своей направленности на поиски аутентичного существования, акцентировал внимание на изначальной заброшенности человека в мир, его одиночестве перед лицом абсурда. Постмодернистские теории довели эту линию до логического завершения, де-конструируя саму идею целостного субъекта. В современных концепциях «диалогической самости»
(психология) речь идет о множественности Я-позиций (Hermans, 2014), но при этом возникает принципиальный вопрос: что обеспечивает единство такого множества? Без объединяющего начала – будь то интерсубъективность, телесность или «плоть мира» в понимании Мориса Мерло-Понти – множественность рискует превратиться в хаотический набор фрагментов, лишенных внутренней связи. Одна из неизбежных онтологических проблем, порождаемых концепцией множественности Я, – взаимосвязь сознания (Я) и окружающего его мира, представления о котором имеют тенденцию расширяться. В процессе познания себя и мира человек может обнаруживать нечто среднее между Я и Не-Я – своеобразную «буферную зону», которую невозможно однозначно идентифицировать ни с полюсами Я, ни с полюсом Не-Я1. Речь в данном случае идет о диалектике взаимоотношений между Я и Не-Я, поскольку создается не просто усредненное или смешанное состояние, а именно срединное пространство – нечто, находящееся посредине между субъективным Я и внешним Не-Я. Имеется в виду особая онтологическая зона, где Я и Не-Я взаимодействуют, меняются местами и даже взаимопроникают. В процессе общения и контакта с другими (или даже с самим собой в рефлексии) появляются новые точки самоидентификации – дополнительные Я-по-люса. Они формируются в ходе конституирования горизонта самости, то есть в процессе осмысления границ и содержания собственного Я. Эти новые позиции не остаются абстрактными, они обретают онтологический вес, становятся значимыми для бытия личности. Налицо динамический процесс самоопределения, где Я не статично, а постоянно перестраивается через взаимодействие с Не-Я. В ходе такого динамического процесса возникают новые версии себя, которые либо включаются в идентичность, либо исключаются из нее, а иногда и возвращаются в статус Другого. Эти позиции впоследствии либо интериоризируются в пределах самости, либо отторгаются, оказываясь вовне. Такое толкование подчеркивает диалогическую и изменчивую природу личности. Отчуждению могут подвергаться и интериоризированные позиции. Не случайно в известном произведении С.Я. Маршака героиня сомневается в собственной идентичности и произносит фразу: «Ну, значит, не я» (Маршак, 1973: 485). Безусловно, отчуждение может проецироваться и на фигуру Другого. Этот вид отчуждения происходит тогда, когда мы признаем Другого Чужим. Тем самым мы исключаем его из пространства своего потенциального общения. Удаляем из числа своих контактов или даже вносим его в черный список. Однако одновременно с этим сужается сфера жизненного мира человека, сжимается экзистенциальное поле его общения. В конечном итоге отчуждение имеет самые серьезные последствия для возможности сохранения идентичности человека. Прерываются контакты как внутри, так и вовне самости. Тем не менее интериоризация в самость фигуры Другого порождает новые проблемы. К примеру, Эдмунд Гуссерль задается обоснованным вопросом: «…каким образом я, помимо моего индивидуального самосознания, могу ещё иметь всеобщее, трансцендентально-интерсубъективное сознание?» (Гуссерль, 2022: 269). Философ обращает внимание на то, что актуальное Я способно конституировать в себе Другого, то есть в нем обретает бытийную значимость «другое» Я (Гуссерль, 2022: 249).
Мартин Хайдеггер в своем анализе современности увидел в отчуждении не просто социальный феномен, но фундаментальную экзистенциальную катастрофу, в которой человек оказывается поглощен безличным «Man» – анонимной массой, диктующей стандартные модели поведения и восприятия. В таком режиме существования исчезает не только индивидуальность, но и сама возможность подлинного бытия-в-мире. Технический прогресс, стандартизация всех сфер жизни, потребительские ценности – все это превращает человеческое существование в автоматизированный процесс, где нет места подлинному вопрошанию о каком-либо смысле. Однако Хайдеггер не ограничивается критикой, он предлагает путь преодоления через «открытость» (Erschlossenheit), предполагающую не только раскрытие себя миру, но и готовность к встрече с Другим как равноправным участником совместного бытия. Эта идея перекликается с гуссерлев-ской концепцией интерсубъективности, где Другой ‒ не просто внешний объект, а «другое» Я, конституирующее собственное сознание. Таким образом, в феноменологии открытость проявляет себя как интерсубъективность. Понимание является формой присвоения, поэтому с абсолютно Чужим никакой диалог невозможен. Как полагает Б. Вальденфельс, Чужой – это «то, что лежит за пределами сферы собственного (“fremd”), находится где-то в другом месте» (Вальден-фельс, 1999: 110). Таким образом, отчуждение неизбежно проецируется на фигуру Другого, превращая его в Чужака, Постороннего, а в пределе – во Врага. Как отмечает С. Хоружий, «замыкание» в себе предполагает подмену реального Другого конструированием в сознании «образа Врага» (Хоружий, 2018). Этот процесс приводит к еще большему углублению отчуждения, так как человек начинает воспринимать мир через призму враждебности и недоверия. В результате взаимного непонимания и недоверия происходит «расчеловечивание» не только Врага, но и самого актора. Чем бесчеловечнее оказывается Враг, тем более суровым и жестоким становится актор. Другой – Чужой – Враг может быть одержим страстью, настроен враждебно, однако даже в этом случае с ним необходимо строить отношения. Взаимодействие, соприкосновение, контакт с Чужим – Врагом вырастает в отталкивание, замыкание и прямое отторжение. В конечном итоге экзистенциальное поле коммуникации между оппонентами сужается и исчезает, в нем утрачивается возможность трансляции смыслов, перспектива на вероятность диалога становится призрачной. Следует заметить, что Другой является зеркалом, фоном, своеобразным отражением нас самих. Чтобы диалог не прекращался, необходимо избегать экзистенциальной ненависти, обладать способностью понимать и прощать. Для этого необходимо владеть умением представлять себя на месте Другого.
В своем глубоком психоаналитическом исследовании «Черное солнце: Депрессия и меланхолия» Юлия Кристева (2010: 13) развивает эту линию, обращая внимание на то, что современный человек – будь то мигрант, вырванный из родного культурного контекста, или индивид, разорванный внутренними противоречиями, страдают от фундаментальной «утраты места». Кри-стева вводит образ «аутофага» – человека, пожирающего самого себя в тщетной попытке заполнить экзистенциальную пустоту. Этот образ особенно актуален в эпоху социальных сетей и цифровых технологий, когда человек постоянно проецирует вовне различные версии себя, ни одна из которых не является подлинной.
Выход из этого экзистенциального тупика предлагает концепция глубинной экологии, разработанная Феликсом Гваттари. На наш взгляд, этот оригинальный подход объединяет три взаимосвязанных измерения – окружающую среду, социальные отношения и субъективность, – предлагая альтернативу традиционным дуализмам и формам отчуждения. При этом она должна включать в себя и техногенную среду коммуникации, поскольку «экология виртуального оказывается такой же неотложной, как и экология видимого мира» (Гваттари, 2023: 120). Рыночные технологии, постоянно развиваясь, предлагают все более изощренные методы воздействия на субъективность, что приводит к гомогенизации индивидуального опыта. Мир, подвергающийся компрессии под влиянием глобализации и технологического прогресса, демонстрирует аналогичное воздействие на личность. Следует признать, что подавляющее большинство людей оказывается в ситуации, где их «личность угасает, а намерения быстро теряют свою последовательность, качество отношений с другими при этом притупляется» (Guattari, 2000: 9). Таким образом, философ призывает к переходу от отношений «Я – Оно» (где Другой выступает лишь как объект манипуляции и использования) к подлинному диалогу «Я – Ты», основанному на взаимном признании и эмпатии. Один из основоположников экософии и глубинной психологии, Арне Несс, настаивал на необходимости расширения человеком своей идентификации, ибо здоровое экологическое эго не должно сводиться к проекции своего маленького Я и его тени (The Ecology of Wisdom…, 2008: 35). Глубинная экология призвана осуществить радикальную смену приоритетов, преодолев дуалистическое понимание реальности, характерное для новоевропейской философии. Ее цель – формирование холистического мировоззрения, в котором материальный и духовный аспекты бытия неразделимы. В основе такого подхода лежит идея равноправного диалога всех форм жизни, отвергающего традиционную иерархию, где человек выступает как «творец и венец природы», а остальные существа оказываются запертыми в клетках, аквариумах и горшках.
В русле этой тенденции создана и книга Франсуа Ларюэля «Последнее человечество: новая экологическая наука» (Laruelle, 2020). По замыслу автора, такая наука должна стать не только экологией природы, но и экологией мысли. Ларюэль видит в экологии нового соперника философии, способного предложить альтернативу традиционным взглядам на взаимоотношения живых существ и их среды. Таким образом, экология становится пространством между философией и биологией, призванным преодолеть отчуждение, порождаемое иерархическим распределением бытия. Ее задача – вернуться от абстрактного бытия-в-мире к Земле как изначальному пространству мысли. В поисках общего основания для бытия представители разнородных существ и сущностей оказываются в кругу мыслителей, разрабатывавших сходные идеи. Подход Ларюэля перекликается с Дао в китайской философии, а также с концепцией плоти Мориса Мерло-Понти и учением о Едином у Плотина (Рист, 2005: 182). В частности, Мерло-Понти предлагает онтологическое обоснование такой экологии, утверждая, что размежевание между телом и миром невозможно в том случае, если мир является плотью. Согласно его недуальной логике, голосу разума предшествует голос природы, а «пропеванию» мира человеком – суровая проза мира. Ключевым становится понятие плоти – единой ткани, из которой состоят и тело человека, и окружающий мир. Именно плоть формирует онтологическую среду, где «субъективность и объект являются одним единственным целым» (Мерло-Понти, 2006: 261). Экзистенциальное пространство, образуемое феноменальным телом, связанным с текстурой плоти мира, «конституирует структуру субъективности, образуя экзистенциальное поле» (Кириллов, 2020) коммуникации.
Франсуа Ларюэль в своей радикальной не-философии развивает и углубляет антидуали-стический холистический подход «глубинных» экологов, предлагая принципиально новую онтологическую перспективу. Его метод заключается в последовательном отвержении традиционных философских дуализмов (субъект/объект, реальное/воображаемое, природа/культура) в пользу радикальной имманентности Единого (Реального) (Srnicek, 2011). В отличие от классической философии, которая неизменно пытается «поймать» Реальное в свои концептуальные сети, не-фи-лософия признает его принципиальную неуловимость и избыточность по отношению к любым попыткам концептуализации. Ларюэль использует в своих исследованиях оригинальную метафору рыбы-воды: он полагает, что традиционная философия подобна рыбаку, который пытается вытащить рыбу (Реальное) из воды (имманентности), но тем самым лишает ее жизни. В противовес этому Ларюэль предлагает современному философу стать трансцендентальной «рыбой-водой» – существом, которое не противопоставляет себя среде, но полностью сливается с ней, сохраняя при этом свою идентичность1.
Этот впечатляющий образ, имеющий параллели в квантовой физике (где частица может одновременно проявлять свойства волны), становится ключевым для понимания оригинальной онтологии Ларюэля (Laruelle, 2021). В своем эссе он развивает эту метафору, замечая, что философ, становясь рыбой, «не пытается выпрыгнуть из океана, чтобы увидеть его со стороны, но растворяется в нем…» (Laruelle, 2021: 7‒15). Этот впечатляющий образ выражает суть не-фи-лософского подхода: бытие внутри имманентности без потери себя, радикальное единство без растворения.
Ларюэль, как ни парадоксально, отрицает классический диалог, считая его скрытой формой насилия над Реальным. Вместо традиционной коммуникации, предполагающей субъект-объектные отношения, он предлагает «не-коммуникацию» – принципиально иной режим взаимодействия, где нет ни активного отправителя, ни пассивного получателя, а существует лишь общее поле имманентности. Этот подход имеет определенные параллели с хиазмой Мерло-Понти (взаимопереплетением субъекта в единстве его телесности и плоти мира), но без требования обратимости и симметрии (Laruelle, 2021), характерных для феноменологической традиции.
Возникает закономерный вопрос: может ли такая «не-коммуникация» стать основой для преодоления отчуждения в современном мире? Философ отвечает на этот вопрос утвердительно: если традиционный диалог всегда предполагает скрытую иерархию (кто-то говорит, кто-то слушает; кто-то активен, кто-то пассивен), то не-философское взаимодействие основано на принципе togetherness – совместности без подчинения, единстве без слияния. В этом смысле подход Ларюэля предлагает радикальную альтернативу как индивидуалистическим моделям, так и тотализирующим концепциям коллективного.
Полагаем, что преодоление отчуждения в современном мире требует не просто возврата к традиционным формам диалога, но фундаментального переосмысления самих оснований человеческого бытия-вместе. В противном случае станет реальностью предостережение А. Эйнштейна о «поколении идиотов», которое придет, «когда технологии превзойдут простое человеческое общение» (Галочкин, 2024: 210). Концепции Гваттари и Ларюэля, при всех их различиях, сходятся в одном принципиальном моменте: необходимо создать новую среду существования, где человек не будет противопоставлен ни миру, ни Другому, ни самому себе. «Экология мысли» – это не просто теоретическая конструкция, но практическая программа: отказ от антропоцентризма, признание множественности форм бытия, поиск новых способов соприсутствия и со-бытия. По словам Ларюэля, «человек – это не идея гуманизма, но посредник, отказавшийся от медиации»2. Очевидно, именно в этом радикальном отказе от привычных схем и категорий рождается возможность подлинного общения – не вопреки отчуждению, но помимо него, в измерении радикальной имманентности и совместности.
При всем кажущемся антагонизме концепций Мерло-Понти и Ларюэля (зеркальность – не-зеркальность, унилатеральность – обратимость) обоих философов объединяет «верность земле», для них обоих окружающий мир оказывается постоянной и безусловной предпосылкой. Сохранение среды мысли невозможно без философии как постоянного самоосмысления, само-вопрошания, но, чтобы сохранить свою примордиальную диалогичность, философия не должна быть замкнута на самой себе, о чем напоминают нам французские философы.