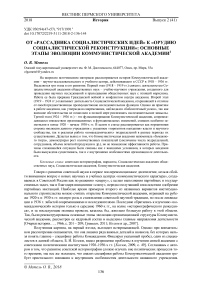От "рассадника социалистических идей" к "орудию социалистической реконструкции": основные этапы эволюции коммунистической академии
Автор: Метель О.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Советский век
Статья в выпуске: 2 (41), 2018 года.
Бесплатный доступ
На широком источниковом материале рассматривается история Коммунистической академии - научно-исследовательского и учебного центра, действовавшего в СССР в 1918 - 1936 гг. Выделяется три этапа в его развитии. Первый этап (1918 - 1919 гг.) связан с деятельностью Социалистической академии общественных наук - учебно-научного учреждения, созданного для проведения научных исследований и преподавания общественных наук с позиций марксизма. Работа ее была прервана Гражданской войной и конфликтом внутри академии. Второй этап (1919 - 1924 гг.) охватывает деятельность Социалистической академии, сохранившей в отличие от своей предшественницы преимущественно исследовательские функции. Однако на практике в работе академии, как утверждали современники, наблюдался «библиотечный уклон», так как внешние обстоятельства не позволили в полной мере реализовать исследовательские замыслы. Третий этап (1924 - 1936 гг.) - это функционирование Коммунистической академии, сопровождающееся множеством организационных и функциональных изменений, ставших особенно заметными в конце 1 920 - начале 1930-х гг. В целом в статье рассматривается как нормативная сторона эволюции данного учреждения с указанием «горизонтов ожидания» власти и научного сообщества, так и реальная работа «комакадемических» подразделений в разные периоды их существования. Делается вывод о том, что Коммунистическая академия напоминала «бумажного тигра», демонстрируя рост количественных показателей (увеличение числа подразделений, сотрудников, объема печатной продукции и др.), но не повышение эффективности работы. Причины сложившейся ситуации были связаны как с внешними условиями, в которых академия была вынуждена существовать, так и с внутренними особенностями организации ее деятельности.
Советская историография, марксизм, социалистическая академия общественных наук, социалистическая академия, коммунистическая академия
Короткий адрес: https://sciup.org/147245160
IDR: 147245160 | УДК: 930:94(47+57)."917/1991" | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-2-136-144
Текст научной статьи От "рассадника социалистических идей" к "орудию социалистической реконструкции": основные этапы эволюции коммунистической академии
Говоря о развитии советской науки в первое послереволюционное десятилетие, нельзя обойти вниманием вопрос о новых научных и учебных центрах «коммунистического характера», создаваемых в Советской России как по решению «сверху», с целью выполнения партийных и государственных задач, так и благодаря инициативе «снизу», нередко получавшей впоследствии одобрение партийных инстанций. Наиболее ярким примером второго из названных вариантов институционального строительства можно считать открытие Коммунистической академии, игравшей на рубеже 1920-х и 1930-х гг. видную роль в становлении советской научной традиции, но после ликвидации в 1936 г. забытой современниками и исследователями. Последние обратились к изучению «ко-макадемической» истории только в середине 1960-х гг., на волне «историографического ренессанса», и за последующие полвека провели, казалось бы, довольно большую работу в этой области. Так, были реконструированы основные этапы эволюции организационной структуры Коммунистической академии, рассмотрен ее кадровый состав и выделены главные направления деятельности [Очерки истории… , 1966, с. 201 – 209; Гришаев , 2011; Козлов и др., 2007].
Полученная картина, на первый взгляд, выглядит исчерпывающей. Однако при внимательном рассмотрении оказывается, что она лишена ряда важных деталей и нюансов, без которых нельзя понять главное – специфику работы Комакадемии. Фиксируя указанный пробел, один из специалистов в данной области, Б. И. Козлов, видел разрешение проблемы в изучении связей академии с советскими политическими институтами 1920–1930-х гг. [ Козлов , 2009, с. 49]. Соглашаясь с автором в том, что развитие советской историографии сложно изучать вне политических процессов того времени, мы все же полагаем, что анализ специфики работы Коммунистической академии требует пристального внимания к внутренним особенностям деятельности названного учреждения.
Ведь Комакадемия, хотя и испытывала серьезное воздействие со стороны партийно-политического аппарата, порой приводившее к кардинальной смене исследовательского курса, все же не являлась только простым выразителем воли партии. Вступая в сложное взаимодействие с властью, она искала варианты адаптации партийных директив к практике повседневной научно-исследовательской работы, демонстрируя сложные механизмы взаимодействия научного сообщества и власти, не укладывающиеся в объяснительную модель прямого контроля большевиков за учеными.
Однако реконструкция внутренних механизмов работы Коммунистической академии оказывается для исследователя непростой задачей. Основным препятствием на данном пути является состояние дошедших до нас источников. Несмотря на обилие архивных материалов, сохранившихся в фондах Архива РАН и Государственного архива Российской Федерации, мы располагаем преимущественно делопроизводственными документами. Основная особенность данных текстов заключается в том, что они не позволяют в полной мере представить будни сотрудников Коммунистической академии, фиксируя преимущественно нормативную сторону научно-исследовательской работы учреждения. Иными же свидетельствами, к примеру, столь подходящими для такой цели источниками личного происхождения, мы практически не располагаем. Именно поэтому в рамках настоящей статьи мы предприняли попытку рассмотрения специфики функционирования Коммунистической академии, ориентируясь не столько на реконструкцию повседневной деятельности ее членов, сколько на изучение направлений ее работы и общих результатов деятельности в сочетании с классическим анализом ее организационной и кадровой структуры.
На наш взгляд, Коммунистическая академия прошла в своем развитии три основных этапа. Первый этап, связанный с деятельностью Социалистической академии общественных наук (далее – САОН), начался в 1918 г., когда группа лиц во главе с М. А. Рейснером и М. Н. Покровским выступила с инициативой открытия в Советской России учреждения, способного осуществлять «разработку вопросов научного социализма и коммунизма и распространять научное образование в духе марксизма» [ Удальцов , 1922, с. 13]. Подобная идея, по словам М. Н. Покровского, возникла у них с М. А. Рейснером в период работы над текстом первой советской конституции, когда обнаружилось, что большинство членов специально созданной для решения этой задачи комиссии были крайне плохо образованы теоретически [ Покровский, 1922, с. 38]. Подготовленный инициативной группой проект новой академии в мае 1918 г. был вынесен на обсуждение СНК и после некоторых согласований одобрен ВЦИК РСФСР.
Создатели САОН возлагали на нее большие надежды (Задачи Социалистической академии… , 1918, с. 5). Новую академию рассматривали как первый в мире «рассадник социалистических идей», который должен был выполнять две основные функции: проводить с позиций марксизма научные исследования «в чистом смысле этого слова» в области общественных наук и заниматься организацией учебной деятельности, одновременно осуществляя пропаганду социалистических знаний среди широких народных масс (ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 1. Д. 43. Л. 49; Задачи Социалистической академии..., 1918, с. 5).
Для выполнения названных задач в САОН были организованы два специализированных подразделения – научно-академическая и учебно-просветительская секции. Первой было поручено проведение научных изысканий, тогда как второй – организация учебной деятельности (Из Положения о САОН, 1968, с. 212). Для работы в научно-академической секции САОН, как утверждали ее создатели, были приглашены «лучшие мыслители социализма всего мира» (Открытие Социалистической академии, 1918, с. 3), составившие своеобразный «научный интернационал» и занявшие должности действительных членов, призванных заниматься проведением научной работы в стенах академии, и членов-соревнователей, напоминавших по статусу прежних «оставленных для подготовки к профессорскому званию». Объединенный в рамках учебно-просветительской секции преподавательский состав САОН также предполагалось формировать из видных мыслителей того времени, нередко стоявших на разных идеологических позициях. Им предстояло вести занятия у слушателей, в число которых мог быть включен любой желающий, достигший шестнадцатилетнего возраста. Для этого требовалось предоставить лишь удостоверение личности и две фотокарточки, а также заполнить анкету. И, хотя по замыслу создателей академии ее основными студентами должны были стать стремящиеся к знаниям рабочие-коммунисты, занятия посещали преимущественно беспартийные служащие [ Удальцов , 1922, с. 22].
Официально приступив к работе в начале октября 1918 г., САОН, однако, не смогла оправдать выданный ей «кредит доверия», практически сразу столкнувшись с трудностями. Если говорить об исследовательской деятельности академии, то она фактически не велась, подменяясь выполнением поручений партии и правительства, использовавших представителей САОН в качестве экспертов при разработке университетской реформы, подготовке учебной программы ФОНов, открытии Смоленского университета и т.д. Созданные же для публикации материалов войны 1914– 1918 гг. и разработки документов династии Романовых специальные комиссии свою работу так и не развернули. Не смогли продемонстрировать серьезных научных успехов и члены-соревнователи САОН, большинство которых согласно сохранившимся отчетам только приступили к разработке избранных тем в пределах составления библиографий и чтения соответствующей литературы. Правда, некоторое оживление в научную работу академии внесли организованные ее сотрудниками публичные заседания, посвященные годовщине октябрьской революции (15 ноября 1918 г.), творчеству К. Каутского (17 ноября 1918 г.) и памяти Р. Люксембург и К. Либкнехта (26 января 1919 г.).
Подобные результаты были вполне предсказуемы, если учитывать то обстоятельство, что действительные члены САОН одновременно занимали видные государственные посты и не располагали временем для глубоких научных изысканий. Так, избранные в состав упомянутых ранее специальных комиссий М. Н. Покровский и Н. И. Бухарин занимались решением текущих политических задач и, следовательно, не могли осуществлять публикацию документальных материалов. Зарубежные же марксисты, на содействие которых возлагались большие надежды, не только не стремились к объединению усилий с советскими коллегами, но и нередко выступали против них, выражая недовольство социально-экономическими и политическими экспериментами большевиков (К. Каутский).
Несколько лучше САОН выполняла свои учебные функции, связанные с преподаванием широкого набора курсов в рамках специальных разрядов - учебных подразделений, и по форме, и по функциям напоминавших прежние факультеты. Первоначально в академии насчитывалось три разряда: социально-исторический, политико-юридический и финансово-экономический. Позднее к ним добавился технико-экономический разряд. Занятия в рамках разрядов проводились без четкого учебного плана по дисциплинам, предложенным самими преподавателями в соответствии со своими научными интересами. К примеру, в рамках социально-исторического разряда Н. М. Лукин читал курс по истории Великой французской революции, В. П. Волгин вел занятия по истории социалистических учений, а А. Д. Удальцов - семинарий по истории хозяйственного быта (ГА РФ. Ф. Р3415. Оп. 1. Д. 30. Л. 85 об.). Все занятия начинались в вечернее время и неизменно привлекали внимание значительного числа слушателей, количество которых к началу 1919 г. превысило 2 тыс. человек. Однако дальнейшее развертывания учебной работы САОН оказалось невозможным. Препятствиями на этом пути стали как внешние обстоятельства, так и внутренние проблемы. В первом случае решающую роль сыграли Гражданская война, потребовавшая мобилизации сотрудников и слушателей академии, а также открытие ФОНов, коммунистических университетов и совпартшкол, сделавших преподавательскую деятельность академии просто избыточной [ Покровский , 1928, с. 10-11]; во втором - конфликт между преподавателями и студентами, который, как свидетельствуют источники, вспыхнул из-за обвинений ряда преподавателей в приверженности «чуждой идеологии». В результате перед сотрудниками САОН встала серьезная проблема, связанная с определением профиля дальнейшей деятельности учреждения.
После долгих споров весной 1919 г., в обстановке Гражданской войны, был принят новый устав академии, обозначивший начало второго этапа ее истории. Согласно этому документу САОН была переименована в Социалистическую академию, ставшую, по словам М. Н. Покровского, «ученым учреждением, которое никого не обучает и никаких лекций не устраивает» [Покровский, 1928, с. 12], хотя и сохраняет за собой некоторые учебные функции (ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 1. Д. 32. Л. 16). Основная же научная задача Социалистической академии теперь заключалась в «исследовании и разработке вопросов истории, теории и практики социализма» (ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 1. Д. 32. Л. 16). Для выполнения этой задачи в состав Социалистической академии должны были входить члены академии и научные сотрудники. Первые по своему положению и статусу ничем не отличались от действительных членов прежней САОН, изменился лишь их состав, так как все зарубежные марксисты, как не оправдавшие доверия, были из академии исключены (АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 1063. Л. 45). Научные сотрудники академии «второго созыва» напоминали прежних членов- соревнователей, хотя и отличались от них по статусу и объему выполняемых функций. Недаром некоторые «соревнователи» САОН стали научными сотрудниками Социалистической академии (ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 1. Д. 51. Л. 15, 29 об.).
Основной организационной единицей Социалистической академии стали кабинеты. Первоначально задумывавшиеся как вспомогательные подразделения, предназначенные для хранения литературы по определенной тематике (Из протокола заседания..., 1968, с. 218), они были превращены в исследовательские структуры. Состав кабинетов не был постоянным. В 1920 г. в Социалистической академии работало шесть кабинетов, призванных изучать жизнь и деятельность К. Маркса, историю социализма, политическую экономию, философию, историю Англии и Франции. В 1922 г., после выделения из состава академии в самостоятельное исследовательское учреждение Института К. Маркса и Ф. Энгельса, «кабинетная система» претерпела значительные трансформации, связанные с изменением количественного и качественного состава кабинетов и организацией при них специальных секций, которые уже к концу года стали базовыми элементами академической организационной структуры.
Все кабинеты Социалистической академии имели единый план работы, предполагавший систематизацию имеющихся тематических материалов и разработку марксистской методологии (АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 1058. Л. 6 – 7). Однако эти планы выполнены не были. Еще в 1922 г. А.Д. Удальцов охарактеризовал работу Социалистической академии как первоначальное накопление «средств научного производства», а в 1928 г. М. Н. Покровский прямо говорил, что никакой систематической научной работы академия не вела [ Удальцов , 1922, с. 34; Покровский , 1928, с. 12]. Действительно, за годы своего существования Социалистическая академия не подготовила ни одного крупного исследовательского проекта, ограничиваясь разработкой некоторых частных сюжетов, входивших в область научных интересов ее действительных членов и научных сотрудников. Единственным успешно развивавшимся подразделением академии в это время была библиотека. Она была организована еще в 1918 г. в рамках САОН и постоянно пополнялась благодаря приобретению и конфискации книжных и документальных коллекций. Именно поэтому нередко современники полушутя говорили о Социалистической академии как о библиотеке, при которой действует научное общество.
Безусловно, подобный «библиотечный уклон» в работе академии во многом объяснялся обстоятельствами Гражданской войны и последующим восстановлением разрушенного хозяйства, не способствовавшим налаживанию эффективной и планомерной исследовательской работы. В то же время немалую роль в этом играли кадровые проблемы, вызванные нехваткой научных сотрудников и их серьезной загруженностью – одновременным выполнением обязанностей в других учреждениях. Причем пополнить ряды исследователей новыми кадрами оказывалось достаточно трудно. Недаром в начале 1920-х гг. Д. Б. Рязанов выступил с предложением открыть специальные курсы, которые бы позволили подготовить требуемых научных сотрудников. В 1921 г. такие курсы при Социалистической академии были созданы, но уже через год они изменили направление деятельности, обратившись к решению актуальной задачи – подготовке будущих партийных работников (АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 1058. Л. 14; Протокол общего собрания…, 1923, с. 425).
Новые изменения в работе академии произошли после XII съезда ВКП (б), потребовавшего существенно расширить ее деятельность. На Социалистическую академию была возложена задача критики «буржуазной и ревизионистки настроенной профессуры» в области как общественных, так и естественных наук (АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 1063. Л. 27). Результатом воплощения в жизнь партийных директив стали новые организационные трансформации, приведшие к изменению самого облика данного учреждения. Получив новое название – Коммунистическая академия при ЦИК СССР, она превратилась в «универсальный» научный центр, осуществлявший исследования по широкому спектру гуманитарных и естественнонаучных дисциплин (АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 26. Л.2 об.).
Новации в работе интересующего нас учреждения были зафиксированы в его новом уставе, принятом в 1926 г. Согласно данному документу Коммунистическая академия представляла собой «высшее всесоюзное ученое учреждение, имеющее целью изучение и разработку вопросов обществоведения и естествознания, а также вопросов социалистического строительства на основе марксизма-ленинизма» [«Положение»… , 1974, с. 233]. Для этого академия должна была вести исследовательскую и научно-экспедиционную работу во всех областях знания, готовить «высококвали- фицированных работников в области теории и практики марксизма-ленинизма» и содействовать распространению «знаний, проникнутых духом марксизма-ленинизма» [«Положение»…, 1974, с. 233]. Выполнение названных функций было возложено на действительных членов, избираемых по совокупности заслуг в области теоретической или практической деятельности, членов-корреспондентов, известных своими трудами в области марксизма-ленинизма, старших и младших научных сотрудников, осуществляющих научные изыскания в рамках отдельной предметной области, а также ученых специалистов, приглашаемых по решению отдельных секций и институтов [«Положение»…, 1974, с. 234 – 235].
Организационная структура реформированной академии имела достаточно сложный характер, в ее составе были разные типы подразделений: секции, институты, комиссии, кабинеты, ассоциации, учебные и вспомогательные учреждения, музеи и научные общества. Их количественный и качественный состав постоянно менялся, обнаруживая до 1932 г. тенденцию к неуклонному росту, осуществляемому как благодаря открытию новых центров в рамках самой академии, так и вследствие добровольного или насильственного присоединения к ней ранее самостоятельных структур. Особенно заметным последний из названных вариантов «комакадемической» экспансии стал в период «культурной революции» и последовавшей за ней организационной перестройки «научного фронта», когда Комакадемия присоединила к себе институты, ранее входившие в систему РАНИОН, и Институты красной профессуры (далее – ИКП). Причины подобных «перемещений» были связаны со стремлением «комакадемического» руководства устранить своих «конкурентов», обвинив последних в «демарксизации» молодежи (РАНИОН) или в «распылении» наличных марксистских сил (ИКП). Тогда же в Коммунистической академии появились региональные отделения, созданные в Ленинграде на базе бывшего Ленинградского института марксизма (1929 г.) и Средней Азии на базе Среднеазиатской ассоциации марксистско-ленинских научно-исследовательских учреждений (1931 г.). В результате произошедших организационных трансформаций к началу 1930-х гг. Коммунистическая академия представляла собой объединение десяти исследовательских институтов, одной ассоциации, в свою очередь состоявшей из одиннадцати подразделений, одной секции, шестнадцати научных обществ, библиотеки, издательства, двух региональных отделений, а также Институтов красной профессуры [ Козлов и др., 2007, с. 142 – 143].
Фактически 1928 – 1932 гг. стали для Коммунистической академии временем «расцвета», когда в атмосфере «культурной революции» и развернувшейся борьбы с различными «уклонами» на нее возлагались особые надежды по созданию новой «марксистско-ленинской» науки, отвечавшей потребностям «социалистического строительства». Поэтому сотрудники академии, осознавая себя «бойцами» «научного фронта», стремились к разработке политически актуальных тем, откликались на каждый новый «партийных призыв» и постоянно перестраивали свою работу. Обосновывая такой подход, М. Н. Покровский утверждал, что главная задача Комакадемии – помогать партии в деле реализации политики, «которая ведет к торжеству пролетарской диктатуры не только в нашей стране, но и в целом ряде стран» [ Покровский , 1928, с. 13]. В противном случае, как подчеркивал историк позднее, она рискует обратиться в академию в собственном смысле слова, «которая сидит в келье под елью, в стороне от дороги, и смотрит, как по этой дороге бегают автомобили, тракторы» (Пленум Коммунистической академии…, 1930, с. 31).
Для того чтобы превратиться в основной центр по разработке марксистско-ленинской теории в СССР, сотрудники Коммунистической академии должны были перестроить ее работу на новых началах. Отныне предполагалось перейти от индивидуальной научной работы, объявленной «кустарщиной», к коллективным исследованиям, подчинявшимся принципам жесткого планирования. Идея обязательного планирования научных работ была не нова, она была озвучена большевистскими теоретиками еще в середине 1920-х гг. как способ преодоления «тупика, в котором оказалась наука в капиталистических странах» ( Бухарин , 1988, с. 327), и реализовывалась еще в стенах Социалистической академии. Для сотрудников же Коммунистической академии следование этой идее означало, что отныне вся их деятельность должна быть организована в рамках разработки нескольких общих тем, результаты изучения которых было необходимо представить в твердо установленные сроки. В 1931 – 1932 гг., откликаясь на повсеместное внедрение принципов социалистического соревнования, сотрудники Коммунистической академии перешли на бригадный метод работы и заключали договоры о соцсоревновании между коллективами (АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 1063. Л. 37).
До 1933 г. Коммунистическая академия являлась не только научно-исследовательским, но и учебным центром, которому после ликвидации РАНИОН была поручена подготовка аспирантов. Она осуществлялась как в Институтах красной профессуры, так и в институтах Комакадемии и была ориентирована на подготовку ученых-коммунистов, способных проводить научные изыскания на базе марксистско-ленинской методологии. Основную массу аспирантов Комакадемии составляли «выдвиженцы» – коммунисты, имевшие большой партийный стаж и весьма скромную образовательную подготовку. Наконец, институтам Коммунистической академии была поручена и массовая работа, связанная с популяризацией марксистского учения на предприятиях страны.
Однако результаты и научно-исследовательской, и учебной, и даже массовой работы Коммунистической академии «третьего созыва» оказались относительно скромными. Еще в 1928 г. ее Президиум констатировал, что основные структурные подразделения академии выполняют свой план не более чем на 30–50% (АРАН. Ф. 355. Оп. 1а. Д. 26. Л. 10–11). В дальнейшем современники подчеркивали, что научная продукция академии нередко ограничивается «заголовками», а сама она исправно получает «векселя, которые придется оплачивать» (АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 45. Л. 26).
Соглашаясь с тем, что подобные высказывания справедливы лишь отчасти, мы не можем не признать того факта, что планы научной работы «комакадемических» институтов никогда не выполнялись полностью. К примеру, в 1933 г. в Институте истории из 26 планируемых трудов из печати не вышло ни одного, шесть были исключены из плана, четыре перенесены на следующий год, а остальные находились в стадии редактирования и подготовки (АРАН. Ф. 359. Оп. 1. Д. 230. Л. 4). Более планомерно развивалась «докладная» деятельность названного института, особенно на рубеже 1920-х и 1930-х гг., когда он в числе других подразделений Коммунистической академии выступил в качестве площадки для многочисленных дискуссий, ориентированных не столько на разработку спорных проблем марксистской теории, сколько на борьбу с «классовыми врагами» – «буржуазными» исследователями, представителями различных «уклонов», «социал-фашистами» и др. Учебная работа «комакадемических» институтов вовсе завершилась полным провалом, очевидным и для самих академиков, и для партийного руководства. Занятия с аспирантами проходили нерегулярно, учебные планы не выполнялись по вине как преподавателей, не имевших возможности проводить занятия в полном объеме, так и учащихся, стремившихся не столько к знаниям, сколько к должностям. Что же касается массовой работы, то она была во многом формальной.
Причины подобных провалов были связаны с несколькими обстоятельствами. В первую очередь стоит обратить внимание на материально-техническую базу Коммунистической академии, совершенно не соответствующую ее постоянно растущим потребностям. Первоначально академия занимала небольшое здание на Покровке, принадлежавшее ранее Практической академии. В дальнейшем она не раз меняла адреса и получала в свое распоряжение новые объекты. Однако ни строительство новых зданий, ни реконструкция имеющихся помещений не могли полностью удовлетворить все возрастающие потребности академии. И, хотя руководство Комакадемии неоднократно обращалось в партийные инстанции с просьбой о предоставлении дополнительных площадей, полностью этот вопрос решен не был.
Одновременно академия испытывала финансовые трудности, связанные с постоянной нехваткой денежных средств, выделяемых государством на ее содержание. Нередко финансирование осуществлялось в неполном объеме, и средства приходилось тратить не столько на организацию научных исследований, сколько на выплату заработной платы и хозяйственные нужды. Так, в 1928 г. практически половина выделенной по смете суммы в 1697000 руб. была потрачена на капительный ремонт здания (АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 167. Л. 19).
Недостаточное финансирование не могло не сказаться на кадровом составе Коммунистической академии, постоянно испытывавшей нехватку специалистов. Виной тому – особенности кадровой политики академии, с момента своего основания ориентированной на привлечение или крупных партийцев, имевших репутацию теоретиков, но не располагавших необходимым временем для выполнения возложенных на них функций, или коммунистической молодежи, не приобретшей, а иногда всерьез и не стремившейся приобрести необходимые знания. В результате ежегодный количественный рост кадров, демонстрируемый в отчетных документах (в 1926 г. в академии работало 109 научных сотрудников, в 1927 г. – 138, а в 1930 г. – 298), не являлся залогом улучшения качества исследований. Тем более, что в академии было широко распространено совместительство и использование труда внештатных сотрудников, нередко работавших без оплаты труда, а потому не стремившихся в полном объеме выполнять задания. Одновременно кадровые проблемы Коммунистической академии были связаны с особенностями организации рабочего времени сотрудников, которых, с одной стороны, стремились жестко контролировать, а с другой – обременяли дополнительными обязанностями.
Внутренние трудности, которые испытывала Коммунистическая академия, совпали с очередным изменением политического курса, обусловленным отказом от политики «культурной революции». Первым «симптомом», предвещавшим скорый «закат» академии, стала ее организационная перестройка 1932 – 1933 гг., связанная с сокращением числа «комакадмических» учреждений и выведением из состава академии Институтов красной профессуры. Несмотря на это, Коммунистическая академия все еще оставалась крупным научным центром, которому в 1934 – 1935 гг. партия поручала решение достаточно ответственных задач. К примеру, подготовку учебной литературы для средней школы. В это же время, как убедительно показал В. Г. Бухерт, в партийных кругах неоднократно возникал вопрос о целесообразности дальнейшего существования Коммунистической академии [ Бухерт , 2013, с. 329]. Сторонники ее ликвидации, в частности, Э. Я. Кольман, в свете «советизации» Академии наук СССР на рубеже 1920-х и 1930-х гг. настаивали на нецелесообразности сохранения двух академических центров, выполнявших схожие функции. В феврале 1936 г., после работы специальной комиссии ЦК ВКП(б) во главе с А. А. Андреевым, Коммунистическую академию было решено ликвидировать путем слияния со Всесоюзной академией наук (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 227. Л. 8–22). В постановлении ЦИК и СНК в качестве основной причины подобного шага назывались параллелизм в научной работе двух структур и возникающее в связи с этим «распыление» научных сил (О ликвидации Коммунистической академии, 2000, с. 216 – 224). Академия наук СССР должна была включить в свой состав ряд бывших «комакадемических» институтов и вспомогательных учреждений, принять на работу ее сотрудников (в соответствии с представленным списком), а также получить в свое распоряжение все ее имущество.
Мы полагаем, что истинные причины ликвидации Коммунистической академии кроются, с одной стороны, в обстоятельствах внутрипартийной борьбы середины 1930-х гг., а с другой – в результатах деятельности самих «комакадемических» институтов. В первом случае стоит обратить внимания на тот факт, что в первой половине 1930-х гг. в Коммунистическую академию в порядке «понижения в должности» направлялись многие оппозиционеры, из которых далеко не все были уволены после нескольких внутренних «чисток». Теперь же пришла пора ликвидировать этот «оплот троцкизма». В то же время нельзя забывать, что члены Комакадемии не смогли в полной мере решить стоявшие перед ними задачи по разработке марксистско-ленинского учения, допуская постоянные срывы в работе научных подразделений и отдельных сотрудников.
Таким образом, одной из базовых особенностей функционирования Коммунистической академии является существенный разрыв между реальной работой данного учреждения и декларируемыми им целями и результатами. Особенно заметным этот разрыв стал в первой половине 1930-х гг., когда, претендуя на статус главного научного центра страны, академия все больше превращалась в «бумажного тигра», не справляясь с поставленными перед ней задачами.
Список литературы От "рассадника социалистических идей" к "орудию социалистической реконструкции": основные этапы эволюции коммунистической академии
- Гришаев О. В. Создание Коммунистической академии и ее роль в развитии советской науки России в 20-е гг. ХХ в. // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: История. Политология. Социология. 2011. № 2. С. 27-33
- Козлов Б. И. Методологические проблемы исторической реконструкции деятельности Коммунистической академии ЦИК СССР // Загребаева В. Н., Козлов Б. И., Савина Г. А. Коммунистическая академия ЦИК СССР (1918-1936): Матер. к социальной истории: Сб. статей / под ред. Б. И. Козлова. М.: Слово, 2009. Вып. 2. С. 46-71
- Козлов Б. И., Савина Г. А. Коммунистическая академия ЦИК СССРвсистеме отношений науки и власти (1924-1936 гг.) // Институционализация отношений государства и науки в истории России (XVIII-XX вв.): Сб. статей / под ред. Б. И. Козлова. М.: Слово, 2007. Вып. 1. С. 121-148
- Козлов Б. И., Савина Г. А. Социалистическая академия общественных наук - несостоявшийся проект институционализации советского обществоведения (1918-1924) // Институционализа-ция отношений государства и науки в истории России (XVIII - XX вв.): Сб. статей / под ред. Б. И. Козлова. М.: Слово, 2007. Вып. 1. С. 115-120
- Очерки истории исторической науки в СССР: в 5 т. / под ред. М. В. Нечкиной. М.: Наука, 1966. Т. 4. 854 с
- Покровский М. Н. 10 лет Коммунистической академии: Вступительное слово М. Н. Покровского на юбилейном заседании Президиума Комакадемии 25 мая 1928 // Вестник Коммунистической академии. 1928. № 4. С. 7 - 20
- Удальцов А. Очерк истории Социалистической академии (1918-1922 гг.) // Вестник Социалистической академии. 1922. № 1. С. 13-37
- Примечания М. Покровского // Вестник Социалистической академии. 1922. № 1. С. 38-39