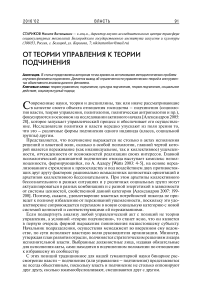От теории управления к теории подчинения
Автор: Стариков Никита Витальевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 2, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена авторская точка зрения на истолкование методологических проблем изучения феномена подчинения. Делается вывод об ограниченности управленческих теорий в инструментах объективного анализа данного феномена.
Теория управления, подчинение, культура подчинения, теория подчинения, социальное действие, социокультурный подход
Короткий адрес: https://sciup.org/170168307
IDR: 170168307
Текст научной статьи От теории управления к теории подчинения
С овременные науки, теории и дисциплины, так или иначе рассматривающие в качестве своего объекта отношения господства – подчинения (социология власти, теория управления, политология, политическая антропология и пр.), фокусируются в основном на исследовании активного начала [Александров 2005: 28], которое запускает управленческий процесс и обеспечивает его осуществление. Исследователи политики и власти нередко упускают из поля зрения то, что это – различные формы подчинения одного индивида (класса, социальной группы) другим.
Представляется, что подчинение выражается не столько в актах исполнения решений и властной воли, сколько в особой психологии, главной чертой которой является переживание (как индивидуальное, так и коллективное) ущемленности, отчужденности от возможностей реализации своих интересов. Главной психологической доминантой подчинения отсюда выступает комплекс неполноценности, формирующийся, по А. Адлеру [Watts 2003: 4-5], на основе нереализованного стремления к превосходству и под воздействием двух противостоящих друг другу факторов: рационально осмысленных ценностных ориентаций и архетипов коллективного бессознательного. При этом архетипы коллективного бессознательного в разных ситуациях и у различных социальных групп могут актуализироваться в разных комбинациях и с разной энергетикой в зависимости от системы ценностей, свойственной данной категории [Александров 2007: 199200]. Поэтому, скажем, удовлетворение властных потребностей никогда не приведет к полному избавлению от переживаний ущемленности, поскольку это удовлетворение сопровождается переходом в новую социальную категорию с новой системой ценностей и соответствующими ей переживаниями.
Если подвергнуть анализу любой управленческий акт с позиций не теории управления, а условной «теории подчинения», то станет ясно, что он является в первую очередь формой выражения повиновения вышестоящему субъекту. Начальник подразделения, осуществляя менеджмент во вверенном ему ведомстве, по сути исполняет властную волю руководителя организации. Министр, утверждая план развития отрасли, подчиняется стратегическим решениям лидера исполнительной власти. Выбранные должностные лица, издавая обязательные для исполнения акты, сами находятся в подчиненном положении по отношению к избравшему их сообществу.
С этих позиций традиционное для нашей гуманитарной науки бинарное рассмотрение власти – подчинения (или управления – подчинения) представляется не всегда объективным, поскольку власть и подчинение не столько оппонируют друг другу, сколько взаимообусловливают, смешиваются друг с другом.
Оговоримся, что под подчинением мы понимаем не синоним понятий «господство», «принуждение», что встречается в русском языке, а социальную практику, при которой человек (социальная группа, класс) руководствуется целями и правилами, являющимися по отношению к нему внешними (диктуемыми другими людьми, социальными институтами) либо не согласующимися с его непосредственными стремлениями (внутренней моралью) [Раскумандрина 2009: 19]. В этой трактовке подчинение наиболее близко понятию «повиновение», которое разбирал И.А. Ильин [Ильин 1994: 379; Александров 2014: 145].
Анализ такой социальной практики должен быть освобожден от ценностных оснований управленческих наук, чем злоупотребляют некоторые социологи, политологи, делая выводы о социальной значимости, «эффективности» либо «неэффективности» подчинения с позиций соответствия целям управления, ценностям организации.
Между тем ценности подчинения и ценности управления не сводимы друг к другу. Эффективность менеджмента (мерило управленческих практик в представлениях прикладных социологов) зачастую не является ни критерием, ни целью, ни ценностью подчинения. Многие, если не большинство действий руководителя с точки зрения теории управления могут быть описаны как необоснованные, нерациональные, аффективные и т.д., тогда как с позиций теории подчинения они же откроются кардинально иными: продуманными, рассчитанными, рефлексивными...
В античной философии есть понятие дицеи как оправданности действий (текстов, дискурсов и т.д.) [Валеева 2010; Игнатова, Римский 2012; Тлостанова 2013-2014]. Заимствуя философские приемы, мы можем говорить о том, что возможно рассматривать противоречия между идеей управления как установления порядка и фактическим отсутствием порядка путем перенесения ответственности за дисгармонию на подчинение. Подчиненный индивид (группа, класс) стремится создать в осознаваемом им качестве управляемого объекта новую действительность, в которой он может достичь наиболее полной самореализации и свободы, тем самым неизбежно разрушая управленческий замысел. Таким образом, исследование феномена подчинения имеет выход не столько в проблематику управления, сколько в область философской и социальнопсихологической проблематики человеческого существования.
Обратимся к имеющемуся на сегодняшний день в гуманитарных науках методологическому аппарату исследований данного феномена. Характеристика подчинения как активной социальной практики просматривается у М. Вебера, утверждавшего, что подчинение объекта прямо связано с преодолением сопротивления со стороны последнего [Weber 1947: 152]. Несомненно, веберовская теория социального действия (и его типов – целерационального, ценностнорационального, традиционного и аффективного) может стать важным методологическим инструментом истолкования подчинения. Данный тезис в какой-то мере подтверждают выводы Дж. Хоманса, рассматривавшего исполнителя как действительного субъекта трудовых отношений [Матросов 2006: 178-179]. Объяснение социальных действий подчиненного у Дж. Хоманса происходит через выдвижение и доказательство пяти гипотез (успеха, стимула, ценностей, голодания – насыщения, фрустрации).
В психологии подчинение, нередко коррелирующее с категорией устойчивости, операционализируется через синтез двух характеристик – подчиняемости и исполнительности. Каждая из них может быть представлена в виде континуума, крайние значения которого – «принятие подчинения» и «отвержение подчинения» (для континуума «подчиняемость») и «принятие поставленной задачи» и «переформулирование задачи под свои личные интересы» (для континуума «исполнительность») [Раскумандрина 2009: 19].
Рассуждения о культуре и социальных технологиях подчинения мы находим у некоторых философов, культурологов. Так, В.Б. Александров определяет четыре способа личностного бытия подчиненного [Александров 2005: 30-32]:
-
1) нерефлексивную исполнительность, растворяющую подчиненного в собственной деятельности: человек не задумывается о смысле подчинения, действуя как деталь механизма;
-
2) рефлексивную исполнительность, предполагающую развитое самосознание, некоторую самостоятельность и даже творчество, но в пределах, заданных нормативами;
-
3) служение, обнаруживающееся, когда и профессиональное, и непрофессиональное бытие органически сливаются на основе единой системы ценностей;
-
4) творческое соучастие, характеризующееся высокой рефлексивностью, осознанием себя как члена единого коллектива, готовностью и способностью оценивать действия руководителя.
Современное осмысление типов культур подчинения не может не опираться на философские воззрения, которые мы находим в произведениях русской художественной литературы XIX в., прежде всего у Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.В. Гоголя, принятых научным сообществом не только как деятели искусств, но и как знаковые для развития русской философии мыслители.
У М.Е. Салтыкова-Щедрина, несмотря на доведенный до крайности «циничный реализм» [Александров 2011: 153] его произведений, просматриваются предпосылки объективной типологизации российской культуры подчинения (прежде всего, в циклах «Господа ташкентцы», «В среде умеренности и аккуратности», «История одного города»). Эта культура, по Щедрину, представлена следующими типами исполнительских техник:
-
1) господа ташкентцы (в современном понимании наиболее близкая социальная группа – менеджеры среднего звена), исполнительность которых находится на полюсе «принятие поставленной задачи», при этом ценностным основанием ее является не желание послужить Отечеству, а эгоистические интересы и стремление отхватить свой кусок от государственного пирога;
-
2) господа молчалины, последовательно проходящие стадии «служения» с постоянным поиском опоры на «нужного человека», моделирующие свои карьерные ступени от «безответного существа» и «козла отпущения» через «необходимую домашнюю челядь» начальника, хорошо информированную о его слабых местах, – к месту «в седле» [Алякринская 2007: 188];
-
3) глуповцы, характеризующиеся бесконечным доверием к власти, исключающим любые увлечения новыми политическими идеями и формирующим практики ходоков с идеологией о том, что власть не знает всех проблем на местах, и если ее просветить, то она спасет свой народ.
При всей карикатурности образов М.Е. Салтыкова-Щедрина применяемая им методика выпуклого представления действительности позволяет избежать сладостно-некритического к ней отношения, достоверно зафиксировать и оценить тенденции ее изменений. Не случайно описанные Щедриным типы вполне актуальны и для сегодняшней структуры российского подчинения.
Представления об очищении исследований подчинения от стереотипов управленческих дисциплин органично соответствуют принципам социокультурного подхода к анализу общества, согласно которому именно сообщество (не государство) является субъектом собственного воспроизводства, суть социального развития. По меткому выражению главного идеолога социокультурного подхода
А.С. Ахиезера, «“вулкан” человеческой истории находится внутри самих людей» [Ахиезер 1997: 51].
Гипотетически влияние культуры подчинения на воспроизводство общества представляется не только значительным, но и, ко всему прочему, технологизированным. Социальная технологизация подчинения начинается с его идеологизации. Примеры из произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина как раз олицетворяют применение технологий подчинения на основе сформированных в среде исполнителей властной воли ценностных ориентаций и идеологем.
Сегодня есть основания предполагать господство культуры подчинения нео-конформистского типа с ее идеологией ненасилия и толерантности. Эта идеология основывается, во-первых, на твердом утилитарном убеждении в неконструктивности конфронтации, социального взаимодействия с позиции cилы, во-вторых, на нравственном убеждении в том, что позиция терпимости, согласия и прощения – это сильная позиция уверенной в себе стороны [Козлов 2011: 28].
Таким образом, из всех типологий культур, выделенных А.С. Ахиезером, подчинению соответствует в большей степени утилитарная культура, которая несет нравственный идеал, содержащий возможность превращать все элементы реальности, доступные соответствующему субъекту, в средство достижения ранее сложившихся целей [Рябова 2008: 187]. Утилитарная нравственность современной российской культуры подчинения органично идеологизирует традиционные социальные практики, балансирующие между абсолютной покорностью, растворением в руководителе и категорическим неприятием менеджмента, враждебностью, ненавистью. Такую дуальную оппозицию, раскалывающую отечественную культуру подчинения, емко описывал Н.А. Бердяев, отмечавший одновременно «мятежность, непокорность в русской душе, неудовлетворенность ничем временным, относительным и условным», с одной стороны, и «неслыханный сервилизм», «жуткую покорность», нежелание «самодеятельности и активности» – с другой [Бердяев 1990: 20-21].
В случае когда культура подчинения не склоняется к одному из полюсов представленной дуальной оппозиции, а стремится находить баланс в положении «между», тогда, по А.С. Ахиезеру (этот процесс он называл медиацией), происходит воспроизводство и культуры, и социальных отношений на качественно ином уровне.
В этом контексте подчиненный (человек, группа, класс) уже не может рассматриваться как пассивный исполнитель, размытый (то ли масса, то ли конкретный индивидуум) управляемый объект. Это, по меньшей мере, участник активных процессов формирования настоящего и будущего состояний социокультурной сферы. А если так, то ближайшая задача современной гуманитарной науки – определить сперва уровень социальной технологизации культуры подчинения и следом – степень ее влияния на воспроизводство сообщества, динамику социокультурного развития.
Сделанные в разное время и в контексте разных теорий наблюдения М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, А.С. Ахиезера, В.Б. Александрова не теряют своей актуальности и в наши дни. Проблема обобщения этих наблюдений и теоретико-методологического осмысления подчинения по-прежнему справедливо ищет своего исследователя.
Список литературы От теории управления к теории подчинения
- Александров В.Б. 2005. Культура подчинения. -Управленческое консультирование. № 3(19). С. 28-33
- Александров В.Б. 2007. Психологические основы провинциализма. -Управленческое консультирование. № 1(25). С. 199-206
- Александров В.Б. 2011. Народ перед лицом власти в «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. -Научные труды Северо-Западного института управления. Т. 2. № 2. С. 148-157
- Александров В.Б. 2014. И.А. Ильин о «культуре повиновения». -Управленческое консультирование. № 4. С. 145-151
- Алякринская М.А. 2007. Вопросы административного руководства и подчинения в русской культурной традиции (на материале творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина). -Управленческое консультирование. № 4(28). С. 183-189
- Ахиезер А.С. 1997. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). Т. 1. От прошлого к будущему. Новосибирск: Сибирский хронограф. 804 с
- Бердяев Н.А. 1990. Судьба России. М.: Советский писатель. 246 с
- Валеева Г.В. 2010. Проблема теодицей в русской религиозной философии конца XIX -начала XX вв. -Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Философия. Социология. Право. № 11. Т. 2. С. 140-148
- Игнатова В.С., Римский В.П. 2012. Проблема «традиции -инновации» и генезис научно-инновационных субкультур (культурно-цивилизационный контекст). -Наука. Искусство. Культура. Вып. 1. С. 34-58
- Ильин И.А. 1994. О сущности правосознания. -Сочинения в 10 томах. М.: Русская книга. Т. 4. 624 с
- Козлов А.С. 2011. «Подчинение» конфликту. -Конфликтология. № 4. С. 26-35
- Матросов Т.А. 2006. Эволюция управленческих парадигм руководства-подчинения в западной социологии. -Научный вестник МГТУ ГА. Сер. История, философия, социология. № 101. С. 177-179
- Раскумандрина М.Е. 2009. Стиль подчинения и успешность деятельности субъекта. -Педагогика. Психология. Социальная работа. Вып. 1. С. 19-22
- Рябова М.Э. 2008. Динамика российского общества: вклад в науку. Ахиезер, А. С. Труды. -Философия и общество. Вып. № 3(51). С. 186-194
- Тлостанова М.И. 2013-2014. Проблема человека в постконтинентальной философии. -Вопросы социальной теории. Т. VII. Вып. 1-2. С. 73-95
- Watts R.E. 2003. Adlerian, Cognitive, and Constructivist Therapies: An Integrative Dialogue. N.Y.: Springer Publishing Co Inc. 160 р
- Weber M. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. N.Y.: Oxford University Press. 436 p