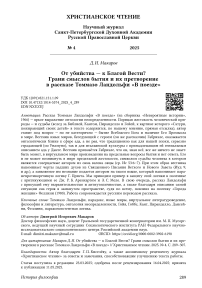От убийства — к Благой Вести? Грани смыслов бытия и их претворение в рассказе Томмазо Ландольфи «В поезде»
Автор: Дмитрий Игоревич Макаров
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 4 (115), 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассказ Томмазо Ландольфи «В поезде» (из сборника «Невероятные истории», 1966) — яркое выражение онтологии неопределенности. Порицая жестокость человеческой природы — и судьбы (вслед за Библией, Кантом, Пиранделло и Гойей, к картине которого «Сатурн, пожирающий своих детей» в тексте содержится, по нашему мнению, прямая отсылка), автор ставит под вопрос — но не категорично — бытие Всеблагого Бога и наличие Его Промысла в мире. Вестник иных миров, беседующий с героем (он же рассказчик) Габриэле, оказывается онтологически ближе к сфере ада, а не рая, что традиционно как для нашей эпохи, серьезно страдающей (по Унамуно), так и для итальянской культуры с принадлежащим ей гениальным описанием ада у Данте. Вестник признаётся Габриэле, что он, зная всё, все же ничего не знает: быть может, в виртуальном мире произведения на предельные вопросы бытия и нет ответа. Его и не может возникнуть в мире предельной жестокости, символом судьбы человека в котором являются созерцаемые автором из окна вагона овцы (ср. Ис 53:6–7). При этом образ вестника напоминает черты падших духов из Священного Писания Ветхого и Нового Завета (Иуд 9; и др.), а заявляемое им незнание подается автором на таком языке, который напоминает паранепротиворечивую логику Г. Приста. Мы приводим пример в защиту этой логики в полемике с критикующими ее Дж. Р. Б. Аренхартом и Э. С. Мело. В свою очередь, рассказ Ландольфи с присущей ему выразительностью и антиутопичностью, а также благодаря описанию самой ситуации сна героя в замкнутом пространстве, судя по всему, повлиял на поэтику «Города женщин» Феллини (1980). Работа сопровождается русским переводом рассказа.
Томмазо Ландольфи, парадокс, иные миры, виртуальное литературоведение, философия и литература, онтология неопределенности, Гойя, Гоббс, Кант, Пиранделло, Дансейни, Феллини, параконсистентная логика
Короткий адрес: https://sciup.org/140313086
IDR: 140313086 | УДК: 1(091):821.131.1.09 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_4_289
Текст научной статьи От убийства — к Благой Вести? Грани смыслов бытия и их претворение в рассказе Томмазо Ландольфи «В поезде»
E-mail: ORCID:
E-mail: ORCID:
Томмазо Ландольфи (1908–1979) — один из наиболее закрытых, герметичных и парадоксальных писателей современной Италии1. Многое еще остается сделать для расшифровки сложной образно-идейной системы Мастера, который на протяжении всего своего творчества, испытывая стойкое влияние русской (Достоевский), немецкой и мировой культуры, боролся с нацизмом и утверждал горние, трансцендентные смыслы человеческого существования.
Начать такую работу было бы проще всего с изучения небольших рассказов Ландольфи, вошедших в ряд сборников; в частности — как изучаемый нами рассказ «В поезде» — в сборник «Невозможные истории» (Racconti impossibili; 1966). При краткости словесного плана для автора характерна глубина метафор и парадоксов, богатство образности и содержания. Все эти черты авторского стиля раскрываются уже при простом чтении; однако творчество Ландольфи требует более глубокого погружения. Мы предлагаем читателям наш перевод рассказа, сопровождаемый дальнейшим — неизбежно частичным и неполным — анализом.
Томмазо Ландольфи
В поезде
Перевод с итальянского Д. И. Макарова2
Сколько хватало глаз, за оконцем тянулась ничем не примечательная равнина: пастбища сменялись одно другим, то тут, то там отделяясь друг от друга несколькими рядами низеньких вязов — или ручейком в окружении тополей. Море вдали изредка поблёскивало сквозь просеки, которыми перемежалась сменявшая угодья чаща. Через равномерные промежутки времени очередную небольшую станцию сносило ветром, когда мы проносились мимо.
На пастбищах этих паслись по большей части овцы, казавшиеся бездвижными; лишь время от времени одна из них — с мордой, вечно обращённой к земле, — продвигалась чуть вперёд, и тотчас же остальные тесно сомкнутой отарой следовали за ней, волнообразно струясь по малейшим неровностям рельефа. И я ловил себя на мысли: сколько из этих овец, спокойно щиплющих травку, завтра, а то и того ранее, окажутся мертвы, будучи безжалостно осуждены мясником, и что это будут за овцы? Что, если бы их убийство (говорил я себе далее) не было безжалостным актом доминирования со стороны человека3, а являлось определённого рода болезнью — или, с позволения сказать, самой смертью? Разве всё не свелось бы к тому же самому?4 Конечно, негоже печалиться об умирающем — или о том, кому должно умереть, коль скоро все мы, ничуть не раньше и не позже… И всё-таки (возражал я сам себе) для их смерти есть по крайней мере хоть какой-то предлог, хотя бы и искусственный; а для нашей? Неужели в конечном счёте найдётся хоть кто-то, кто бы питался нами — так, как мы питаемся ими?
Но в этот момент я обратил внимание на то, что мои раздумья, сколь бы они ни были далеки от всякой вычурности, начали принимать, скажем так, чуточку беспокойный оборот, так что я повернулся на сиденье — словно бы специально для того, чтобы вызвать к жизни очередное размышление, и… Ещё успел заметить сквозь приоткрытые ресницы блеск прозрачной лагуны и в самом её центре — наверху береговой косы — городок, а потом… В конце концов я, похоже, погрузился в сон.
-
— Ну так что, Габриэле? Договорились? Вон тот, что там, внизу, а за ним другой, и третий, и четвёртый. И — оглянёмся по сторонам — больше никого пока нету.
-
— А как же быть с тем из ваших чад, что стоит вон там, с молодою женой, вяжущей чулки?
— Ах, этот…
— Но…
— В чём дело?
-
— Нет, ничего… Вот я и говорю: почему именно он, и почему именно те, что там, да и вообще — почему все они там?
-
— А, эти-то? Да что с тобой — шутить изволишь или вконец спятил? Тебе прекрасно известно, что мои распоряжения непостижимы. Ведь это же ясно, э-э-э… что у меня для них — собственные весомые причины.
— И какие же?
-
— Да что с тобой?! До чего ж мы дошли: ты меня допрашиваешь! Однако ж забавно, что ты вспоминаешь об этом сейчас, целую вечность спустя…
-
— Однако в действительности это я целую вечность хотел вас спросить…5
-
— Габриэле, Габриэле, не валяй дурака! Или ты хочешь, чтобы в тебе воспылала — в силу сношения с этим людом — часть их идеек? Я тебя воодушевляю, ты действуешь и отдаёшь необходимые указания.
-
— Так вам не угодно мне ответить?
-
— Тем самым я бы утратил достоинство; и потом, чёрт возьми, непостижимое есть непостижимое!6
— Или всё дело в том, что вы не можете мне ответить?
— Однако ж! Этак мы и до дерзостей дошли?
— Нет, что вы! Извините. Вы — это вы7, и я бы никогда себе не позволил…
— Вот так-то лучше! Давай-ка смелее…
— Иначе говоря, как и вон тот, поодаль, что не ведает ни о чём — и счастлив?
-
— Я тебе уже сказал, что да.
— Гм-м… И… как оно?
-
— О, с этим разбирайся сам: поступай, как хочешь — и как ты поступал всегда. Возможно, наугад.
-
— Что до него, то, видите ли, для него, как и для тех, кто остаётся, образ действия имеет немалое значение8.
-
— Большое спасибо за эти сведения! Разве я не в курсе, если знаю всё? Но я не привык размениваться на такого рода мелочи… Ну, ступай прочь! Не вешай нос. Короче: ты ведь хотел, чтобы всё обошлось по-быстрому?
-
— Откуда же мне знать? С одной стороны, лучше бы так, с другой же — лучше будет, если ему и всем прочим будет отпущено время для подготовки… Что вы на это скажете?
-
— Помилуй, Габриэле! Что я знаю о том, что может взбрести им в голову? Знаешь, они свободны мыслить и совершать всё, что им вздумается, пока… Во всяком случае, мне бы казалось, что для тех, кто не сведущ ни в чтении, ни в письме, предпочтительнее всего — какое-нибудь прекрасное мгновение9.
-
— Так и быть по-вашему.
-
— И я так полагаю. Ну, так что… инфарктик, произведённый вручную, тебя бы устроил?
-
— Ну что ж, инфаркт так инфаркт. Впрочем, болезнь это модная, разбитые инфарктом ощущают прямо-таки гордость: это ведь словно бы дополнительное подтверждение того, что они — люди своего времени.
-
— Стало быть, в таком случае всё уладили ко всеобщему удовлетворению. Давай, несись на всех парах!
— Гм-м…
-
— Ну чего ты там опять бормочешь? Вопрос, понятно, риторический, ибо я читаю в твоём сердце (эх, а хотелось бы увидеть): ты всё ещё обдумываешь свои предыдущие вопросы (которые, впрочем, слагаются в один-единственный вопрос10); ты ускользаешь, чтобы получить ответ, и так далее, и тому подобное.
— Именно так.
-
— О мой несносный серафим11, мне жаль оставлять тебя ни с чем, но должен же ты понять, что, не говоря уж о достоинстве, я не могу… А впрочем, давай! Если ты мне состроишь такую гримасу, я не стану сопротивляться. Глянь-ка, до чего я дошёл: на этот раз я и в самом деле желаю тебе ответить.
— Ах, что за милость с вашей стороны! Так отвечайте.
— Ты спрашиваешь: почему?
— Так точно.
— И я тебе отвечаю со всей искренностью, что не знаю, что и отвечать.
— Как так? Это вы-то?..
— А вот так: верь или не верь, возвращайся или не возвращайся, а я не знаю, что и отвечать. Что равнозначно ответу: я не знаю, почему12.
— Но постойте, но как же так?..
— Оставь всё как есть, и оставь все возможные заключения и все вытекающие отсюда затруднения13. Факт остаётся фактом: я не знаю. Что сказать тебе?14 Наверное, отцы пожирают и должны пожирать своих сыновей.
— Но как… но вы же обманываете сами себя: согласно новейшим-с теориям, это сыновья пожирают отцов.
— Внизу — пожалуй, да; у нас же — я повторяю — именно отцы пожирают сыновей. Впрочем, это — не в новизну15: припомни Кроноса или как его там…
Конец рассказа
Приложение
Д. И. Макаров
Анализ рассказа Ландольфи
Только что прочитанный нами рассказ Ландольфи содержит множество аллюзий, философских раздумий, намеков и подсказок (едва ли не главная из них — в конце), однако для удобства анализа приведем текст еще раз — с обозначением того, какому из героев принадлежит та или иная реплика, и с нумерацией самих этих реплик.
Условные обозначения: А — ангел/собеседник Габриэле; Г — Габриэле = Рассказчик = Автор.
Томмазо Ландольфи
В поезде
Сколько хватало глаз, за оконцем тянулась ничем не примечательная равнина: пастбища сменялись одно другим, то тут, то там отделяясь друг от друга несколькими рядами низеньких вязов — или ручейком в окружении тополей. Море вдали изредка поблёскивало сквозь просеки, которыми перемежалась сменявшая угодья чаща. Через равномерные промежутки времени очередную небольшую станцию сносило ветром, когда мы проносились мимо.
На пастбищах этих паслись по большей части овцы, казавшиеся бездвижными; лишь время от времени одна из них — с мордой, вечно обращённой к земле, — продвигалась чуть вперёд, и тотчас же остальные тесно сомкнутой отарой следовали за ней, волнообразно струясь по малейшим неровностям рельефа. И я ловил себя на мысли: сколько из этих овец, спокойно щиплющих травку, завтра, а то и того ранее, окажутся мертвы, будучи безжалостно осуждены мясником, и что это будут за овцы? Что, если бы их убийство (говорил я себе далее) не было безжалостным актом доминирования со стороны человека, а являлось определённого рода болезнью — или, с позволения сказать, самой смертью? Разве всё не свелось бы к тому же самому? Конечно, негоже печалиться об умирающем — или о том, кому должно умереть, коль скоро все мы, ничуть не раньше и не позже… И всё-таки (возражал я сам себе) для их смерти есть по крайней мере хоть какой-то предлог, хотя бы и искусственный; а для нашей? Неужели в конечном счёте найдётся хоть кто-то, кто бы питался нами — так, как мы питаемся ими?
Но в этот момент я обратил внимание на то, что мои раздумья, сколь бы они ни были далеки от всякой вычурности, начали принимать, скажем так, чуточку беспокойный оборот, так что я повернулся на сиденье — словно бы специально для того, чтобы вызвать к жизни очередное размышление, и… Ещё успел заметить сквозь приоткрытые ресницы блеск прозрачной лагуны и в самом её центре — наверху береговой косы — городок, а потом… В конце концов, я, похоже, погрузился в сон.
[ А 1] — Ну так что, Габриэле? Договорились? Вон тот, что там, внизу, а за ним другой, и третий, и четвёртый. И — оглянёмся по сторонам — больше никого пока нету.
[ Г 1] — А как же быть с тем из ваших чад, что стоит вон там, с молодою женой, вяжущей чулки?
[ А 2] — Ах, этот…
[ Г 2] — Но…
[ А 3] — В чём дело?
[ Г 3] — Нет, ничего… Вот я и говорю: почему именно он, и почему именно те, что там, да и вообще — почему все они там?
[ А4 ] — А, эти-то? Да что с тобой — шутить изволишь или вконец спятил? Тебе прекрасно известно, что мои распоряжения непостижимы. Ведь это же ясно, э-э-э… что у меня для них — собственные весомые причины.
[ Г 4] — И какие же?
-
[ А 5] — Да что с тобой?! До чего ж мы дошли: ты меня допрашиваешь! Однако ж забавно, что ты вспоминаешь об этом сейчас, целую вечность спустя…
-
[ Г 5] — Однако в действительности это я целую вечность хотел вас спросить…
-
[ А 6] — Габриэле, Габриэле, не валяй дурака! Или ты хочешь, чтобы в тебе воспылала — в силу сношения с этим людом — часть их идеек? Я тебя воодушевляю, ты действуешь и отдаёшь необходимые указания.
-
[ Г 6] — Так вам не угодно мне ответить?
-
[ А 7] — Тем самым я бы утратил достоинство; и потом, чёрт возьми, непостижимое есть непостижимое!
-
[ Г 7] — Или всё дело в том, что вы не можете мне ответить?
-
[ А 8] — Однако ж! Этак мы и до дерзостей дошли?
-
[ Г 8] — Нет, что вы! Извините. Вы — это вы, и я бы никогда себе не позволил…
-
[ А 9] — Вот так-то лучше! Давай-ка смелее…
-
[ Г 9] — Иначе говоря, как и вон тот, поодаль, что не ведает ни о чём — и счастлив?
-
[ А 10] — Я тебе уже сказал, что да.
-
[ Г 10] — Гм-м… И… как оно?
-
[ А 11] — О, с этим разбирайся сам: поступай, как хочешь — и как ты поступал всегда. Возможно, наугад.
-
[ Г 11] — Что до него, то, видите ли, для него, как и для тех, кто остаётся, образ действия имеет немалое значение.
-
[ А 12] — Большое спасибо за эти сведения! Разве я не в курсе, если знаю всё? Но я не привык размениваться на такого рода мелочи… Ну, ступай прочь! Не вешай нос. Короче: ты ведь хотел, чтобы всё обошлось по-быстрому?
-
[ Г 12] — Откуда же мне знать? С одной стороны, лучше бы так, с другой же — лучше будет, если ему и всем прочим будет отпущено время для подготовки… Что вы на это скажете?
-
[ А 13] — Помилуй, Габриэле! Что я знаю о том, что может взбрести им в голову? Знаешь, они свободны мыслить и совершать всё, что им вздумается, пока… Во всяком случае, мне бы казалось, что для тех, кто не сведущ ни в чтении, ни в письме, предпочтительнее всего — какое-нибудь прекрасное мгновение.
-
[ Г 13] — Так и быть по-вашему.
-
[ А 14] — И я так полагаю. Ну, так что… инфарктик, произведённый вручную, тебя бы устроил?
-
[ Г 14] — Ну что ж, инфаркт так инфаркт. Впрочем, болезнь это модная, разбитые инфарктом ощущают прямо-таки гордость: это ведь словно бы дополнительное подтверждение того, что они — люди своего времени.
-
[ А 15] — Стало быть, в таком случае всё уладили ко всеобщему удовлетворению. Давай, несись на всех парах!
[ Г 15] — Гм-м…
[ А 16] — Ну чего ты там опять бормочешь? Вопрос, понятно, риторический, ибо я читаю в твоём сердце (эх, а хотелось бы увидеть): ты всё ещё обдумываешь свои предыдущие вопросы (которые, впрочем, слагаются в один-единственный вопрос); ты ускользаешь, чтобы получить ответ, и так далее, и тому подобное.
[ Г 16] — Именно так.
[ А 17] — О мой несносный серафим, мне жаль оставлять тебя ни с чем, но должен же ты понять, что, не говоря уж о достоинстве, я не могу… А впрочем, давай! Если ты мне состроишь такую гримасу, я не стану сопротивляться. Глянь-ка, до чего я дошёл: на этот раз я и в самом деле желаю тебе ответить.
[ Г 17] — Ах, что за милость с вашей стороны! Так отвечайте.
[ А 18] — Ты спрашиваешь: почему?
[ Г 18] — Так точно.
[ А 19] — И я тебе отвечаю со всей искренностью, что не знаю, что и отвечать.
[ Г 19] — Как так? Это вы-то?..
[А20] — А вот так: верь или не верь, возвращайся или не возвращайся, а я не знаю, что и отвечать. Что равнозначно ответу: я не знаю, почему.
[Г20] — Но постойте, но как же так?..
[А21] — Оставь всё как есть, и оставь все возможные заключения и все вытекающие отсюда затруднения. Факт остаётся фактом: я не знаю. Что сказать тебе? Наверное, отцы пожирают и должны пожирать своих сыновей.
[Г21] — Но как… но вы же обманываете сами себя: согласно новейшим-с теориям, это сыновья пожирают отцов.
[А22] — Внизу — пожалуй, да; у нас же — я повторяю — именно отцы пожирают сыновей. Впрочем, это — не в новизну: припомни Кроноса или как его там…
2. Рассказ Ландольфи в контексте исторических судеб европейской философии (краткий очерк на примере Т. Гоббса)
Конец рассказа
1. Анализ. Общие замечания
Итак, после вводной — пейзажно-описательной — части, в которой ставится, впрочем, философская проблема обусловленности смерти некой причиной (то есть, так сказать, телеологии Танатоса — или танатотелеологии), рассказ переходит к диалогу, состоящему из 43 реплик: 22 реплик ангелоподобного существа (которое, впрочем, в реплике А17 иронично обращается к Габриэле: «О мой несносный серафим») и 21 реплики главного героя — Габриэле. Можно спекулировать уже относительно самого числа реплик представителя иного мира (словно сошедшего со страниц «Heterocosmica» Л. Долежела) — 22 — как о довольно прозрачном указании на число букв еврейского (а также сирийского) алфавита. Подобного рода герметизм входит в число неотъемлемых признаков той струи постмодернизма, к которой примыкал Ландольфи (вспомним актуализацию схожих мотивов в «Замке скрестившихся судеб» и «Таверне скрестившихся судеб» И. Кальвино [Кальвино, 2024]16). Это неудивительно, учитывая близость Ландольфи флорентийским поэтам-герметикам 30-х гг. ХХ в. и определенные смысловые переклички с герметизмом Монтале (см.: [Сабурова, 2018, 6–8, 95–98, 167, 203]). Впрочем, степень этой близости далеко не была абсолютной. Полистилистику, полижанровость и далекий от тривиальности мировоззренческий синтез мы находим практически в каждом завершенном произведении Мастера. И рассматриваемый рассказ — не исключение.
Чтобы представить основы и, как нам кажется, глубинную суть позиции Ландоль-фи — писателя, подводящего, подобно Кржижановскому, Кальвино, Буццати, итоги мировоззренческих исканий нескольких веков Новой и новейшей истории, начиная с мировоззренческого переворота сер. XVII в., начнем издалека — с исторических судеб европейской философии, за символическое олицетворение которой возьмем все еще недостаточно исследованную во всемирно-историческом масштабе фигуру Томаса Гоббса (1588–1679)17.
Гоббс ошибается, полагая Библию только лишь законом Божиим (см.: [Гоббс, 2022, 310, гл. XXXIII]) . Соответственно, Сам Бог выступает у британского мыслителя как Король, и поэтому — в силу инверсии — король в его системе есть если и не Бог, то верховный наместник Бога на земле (см.: [Гоббс, 2022, 310–311]). Благодаря данной инверсии в мысли Гоббса осуществляется типичная для зрелого католицизма (с XIII в.) подмена религиозного, соборного и внутреннего начала Церкви — началом внешним и политическим (ср.: [Макаров, 2017]), политизация богословия, богословской и философской мысли. А отсюда уже простирается прямой путь к праворадикальным нео-кальвинистским сектам наподобие сторонников Р. Рашдуни (1916–2001)18.
Соответственно, и критерии оценки зла — лишь внешние: соответствие или несоответствие монаршей воле, которая в случае демократии заменяется волей большинства. А это значит, что никто не знает, в чем заключается моральный критерий (так и неот-мирный герой Ландольфи не знает ответа на вопрос Габриэле). Писатель категорически не согласен с такой позицией. В этом смысле и кантовское понятие о «развращенности сердца» (см. прим. 2) знаменовало собой принципиальный момент в обновлении европейской — а чуть позже и русской — моральной философии, который Ландольфи как видный интеллектуал-мыслитель, естественно, не мог не принимать во внимание.
Позиция Гоббса в предельном — вырожденном — варианте дает, среди прочего, лозунг мексиканских повстанцев- кристерос (1926–1929), отразившийся в творчестве великого Хуана Рульфо (1917–1986): «Да здравствует Христос-царь!» [Рульфо: Ночь, когда он остался один, 2024, 289]. Но какой бы ни была мексиканская конституция 1917 г., ограничившая власть Католической Церкви, возникает вопрос: если Сам Христос ничего не делал для вооруженной борьбы за укрепление собственной политической власти на земле, стоит ли тем, кто считает себя Его ревностными последователями через девятнадцать веков, так поступать? Ведь «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Фил 2:5). А христоцентризм не имеет ничего общего с какой бы то ни было политической озабоченностью. Византинизм, следующий совету Христа Спасителя: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф 22:21), как культурный тип — наглядное выражение этой последней тенденции.
Забегая вперед, отметим, что Ландольфи также категорически выступает против политизации мировоззрения художника как такового: и данный рассказ, в котором сфера политического не затронута ни единым союзом или запятой, служит наглядным тому подтверждением.
Неортодоксален Гоббс и в вопросе об именах Божиих; более того, с православной позиции, он докатывается до ереси агностицизма (чем-то близкой Варлааму Калабрийскому): мы не знаем подлинных имен Божиих, которые бы соответствовали Ему in re, т. е. самому Его бытию, а все имена для Всевышнего, предлагаемые нами, выражают лишь наше желание славить Его самым почетным образом, будучи, таким образом, чисто субъективны (см.: [Гоббс, 2022, 313, гл. XXXIV]). Неверное (в свете патристики, а также 1-го, 2-го и 64-го правил Трулльского Собора; см.: [Никодим Свято-горец, 2019, 192–200, 301–303]) толкование Гоббсом Быт 1:2; 8:1 вытекает из его чисто схоластического представления о некоем простом и бездвижном Боге, лишенном каких бы то ни было энергий (см.: [Гоббс, 2022, 313–314]).
Аналогичным образом Гоббс дает ложные имманентно-психологические, т. е. субъективные и антивизантийские (а не трансцендентно-энергийные) по духу толкования таким местам Писания, как Быт 41:38; и даже ключевому — Ис 11:2–3 (см.: [Гоббс, 2022,
314–315]). Аналогичную грубую ошибку встречаем при толковании Рим 8:9 (а не 13:9, как указано в русском издании Гоббса); Лк 4:1 и пар. (см.: [Гоббс, 2022, 316]). В Лк 4:1 имеется в виду не просто некое «рвение», а именно Дух Святой — во Христе почивающий (Гал 4:6 и др.). Такого виртуального объекта, как это гоббсовское вымышленное «рвение», во Христе не было.
Одним словом, ясно, что *Бог Гоббса ≠ Богу православного церковного Предания. Еще замечательнее по дерзости прилагаемое Гоббсом объяснение своих толкований — оно просто наивно и абсурдно с точки зрения святоотеческого церковного Предания:
«Если бы мы понимали эти слова (Рим 8:9. — Д. М. ) буквально, то это значило бы, что Сам Бог (ибо таковым был наш Спаситель) был исполнен Бога, что было бы нелепо и бессмысленно (курсив наш. — Д. М. )» [Гоббс, 2022, 316].
Очевидно, три Лица Троицы для Гоббса, как и для Иоанна Филопона (VI в.) — три обособленные в Своей замкнутости субстанции, т. е. гоббсовская триадология (при всей зачаточности своего выражения) склоняется к тритеизму 19.
Еще более отделившейся — и, соответственно, отделенной и отдаленной от святоотеческого Предания — выглядит ангелология Гоббса (точнее, то, что выдается автором за наличие таковой). Английский мыслитель и правовед сводит ангелов к… акциденциям головного мозга, из которых, однако же, Бог умудряется произвести вестников Своей воли! (см.: [Гоббс, 2022, 317–318])20. Неужели ж у Него их не было до появления европейской философии Нового времени? Опровержения подобного вопрошания Гоббс не дает…
По сути, от Гоббса уже пролегает дорога к феноменологии Гуссерля с ее приматом тяготеющего к солипсизму сознания, творящего из себя целые миры. Не входя в современные споры вокруг этого учения, укажем лишь, что, согласно одному из наиболее проницательных его критиков в сер. ХХ в., описание чего-либо , игнорирующее собственную внутреннюю самобытность и своеобразие своего предмета (читай — а не только его бытие в нашем сознании), его собственную внутреннюю определенность некими конститутивными признаками, не выявляющее его конечную, итоговую внутреннюю определенность in se , «невозможно по существу» (см.: [Nink, 1951, 188]). Мы вновь возвращаемся к платоновско-христианскому (как это было, например, у того же Метохита) положению: истина есть истина вещей (см.: [Макаров, 2021, 270–272])21 . « Бытие-для-меня (и вообще бытие-для-другого ) какого-либо предмета или положения вещей предполагает его соответствующее [данному модусу бытия] бытие-в-самом-себе (курсив наш. — Д. М. )» [Nink, 1951, 188].
3. Постановка проблемы анализа рассказа в свете современного «виртуалистского литературоведения»
Перейдем теперь к непосредственному рассмотрению проблем литературного и/ или внелитературного бытия изображаемых в литературе объектов.
В свете сказанного на примере Гоббса возникает вопрос общего характера, который мы, опять же, сформулируем на примере творчества замечательного итальянского писателя-неореалиста (мы умышленно употребляем этот термин) Джованнино Гуаре-ски (Guareschi; 1908–1968): Христос в рассказах Дж. Гуарески — это реальный Христос церковного Предания или самостоятельно сконструированный писателем образ? Так, не отрицая ведущей роли в создании произведений авторского воображения и интуиции, можно отметить, что диалог Христа с Распятия с героем, базовая черта без малого всех рассказов писателя, — одна из характерных особенностей ранней францисканской агиографии (Христос с Распятия в Сан Дамиано заговаривает с Франциском [Топорова, 2018, 18, 22]), естественно, известной автору.
Далее, возникает вопрос о том, является ли Христос Гуарески (в дальнейшем — ХристосГ) *Изводящим Св. Духа вместе с Отцом (согласно догмату о филио-кве, осужденному в православии на Влахернском Соборе 1285 г.) или нет? Здесь мы сталкиваемся со сложной проблемой взаимодействия и взаимопереплетения художественно-литературной и богословской традиций. Каких-то единых правил решения этой проблемы в «виртуалистском литературоведении» пока нет (ср.: [Parys, 2018, 2–4]). Однако представляется разумным полагать, что по умолчанию (если не задекларировано обратное) писатель исходит из собственных художественных или даже мистико-художественных интуиций, к которым в данном случае возможно по крайней мере прислушаться (если они явно не идут вразрез с догматикой).
Поэтому как образ Франциска Ассизского близок нам художественно (а духовно — это уже более сложная проблема, для решения которой следует обратиться к творениям свт. Игнатия Брянчанинова), так и ХристаГ, говорящего с доном Камилло в рассказах из серии «Малый мир» [Гуарески, 2016]22, можно полагать Спасителем мира — Господом Иисусом Христом, а самого Джованнино Гуарески — одним из лучших христианских апологетов столетия, работавших в сфере литературы, наряду с К. С. Льюисом и Г. К. Честертоном. У него также оказывается, что «мир — окно, а не пустая бесконечность!» [Честертон, 2008, 125]. Окно — или по крайней мере отблеск иного, горнего мира.
Или… или это окно может приоткрывать нам также и мир инфернальный?
Рассказ «В поезде» более или менее явным образом отсылает нас именно ко второй возможности.
4. Опыт краткого истолкования рассказа
Рассказ достаточно явным образом (реплики А 21 & Г 21 & А 22) отсылает читателя — и исследователя — к мифу о Кроносе, пожиравшем своих детей (спастись удалось лишь Зевсу — в пещере на Крите). Менее явна отсылка к однозначно трагической трактовке этого мифа на картине Франсиско Гойи «Сатурн, пожирающий своего сына» (1819–1823; музей Прадо, Мадрид). Безумный Сатурн у Гойи не оставляет младенцу Зевсу ни малейшей надежды на спасение. Характерно, что Эльвира Басевич сравнивает гойевского Сатурна/Кроноса с газовыми камерами нацистских лагерей (см.: [Basevich, 2017, 254, n. 2]).
Общеизвестна популярность Гойи в широких кругах простого народа — и интеллигенции. Об актуализации интереса к творчеству художника в 30-е гг. ХХ в. позволяет, в частности, судить письмо В. В. Набокова жене (№ 127 от 14 ноября 1932 г.), в котором отмечается, что «в доме Евреинова23 дух царит мистико-фрейдо-гойевский»
[Набоков, 2019, 224]. В случае рассказа Ландольфи влияние Фрейда (если оно вообще было) практически не дает о себе знать (как и у самого Набокова), но насчет духа «мистико-гойевского», как нам кажется, сомнений не остается.
Менее явным, но также узнаваемым образом Ландольфи отсылает к роману Л. Пиранделло «Записки кинооператора Серафино Губбио» (1915), известнейшего итальянского лауреата Нобелевской премии по литературе (1934), одного из шести. Ситуация Серафино, убегающего от роковой влюбленности в женщину-вамп, носящей русское имя Варя Несторофф, наглядным образом напоминает: а) ситуацию Габриэле; б) состояние наличия (в тексте произведения) множества параллельных виртуальных миров , разделившихся и вступивших в конфликтные отношения между собой. Процитируем ключевой для нашего анализа фрагмент романа:
«А я? Из какого мира я? Куда едет он, а куда — я?.. Его ночь и моя ночь... Я находился вне времени, вычеркнутый из этого мира, у меня не было ничего… Неужели та ночь была и моей тоже, коли я не знал, как мне ее прожить и зачем я в ней оказался? Ночь и время принадлежали ему, этому мужчине средних лет, который сейчас досадливо вертел шеей, окаймленной белоснежным воротничком. Нет ни времени, ни мира, ничего; я пребывал вне всего этого, вне жизни и себя самого. И не представлял ни где я, ни зачем я здесь» (тетрадь 6, гл. IV) [Пиранделло, 2011, 243–244].
Хотя, если быть логически более корректным, несовозможными, видимо, надо было бы признать реальный мир действия романа — и такой мир, в котором все герои были бы счастливы и отвечали друг другу взаимностью, а Варя Несторофф не вела бы себя как роковая женщина-вамп. Однако миры Серафино (ср., кстати, намек на героя Пиранделло в обращении вестника к Габриэле в реплике А 17) и Габриэле (как известно, имя отсылает к почитанию архангела Гавриила, приносящего Благую Весть Приснодеве Марии) умышленно — интенционально (со стороны Ландольфи) — совозможны друг другу; более того, подлежат (согласно вполне угадываемому замыслу более позднего автора) расшифровке и объяснению один через другой.
Еще одним парадоксом этого немого пейзажа, оживленного, кроме мелькающих в отдалении (что все время подчеркивается писателем) фигурок людей, лишь овцами (ср. в этой связи Ис 53:6–7, особенно 6а: «Все мы блуждали, как овцы…»), является молчание и отсутствие Благой Вести. Казалось бы, все слагаемые чаемой нами — читателем и автором в душе — ситуации веры налицо: есть «серафим» Габриэль (нельзя не отметить в таком обращении к нему со стороны неотмирного персонажа понижающую иронию), есть неотмирный персонаж — вестник (только вот какой из бездн? не инфернальной ли? — это было бы типично для итальянцев после Данте), есть прекрасные пейзажи, сносимые ветром от движения поезда, — но вся эта равнина пустынна. Нет Бога и Его явления. Нет Откровения. Нет и столь почитаемой католиками Мадонны (т. е. Богородицы). И вся эта речь неотмирного существа ничего не открывает (см. реплики А 12 и А 16, с одной стороны — и противоречащие им реплики о незнании: А 17, А 19, А 20 и А 21): небеса молчат. Тишина. Над землей расстилается «horror antiquus» (Л. С. Бакст) — та самая «жажда слышания слов Господних» (Ам 8:11), о которой предвозвещал древний пророк…
Тогда возникает резонный вопрос: а есть ли мiр ? Не есть ли он всего лишь кантовская иллюзия (вспомним учение великого немца о пространстве и времени)? Не исчезает ли он, рассыпаясь в прах, как это происходит с Николаем Ивановичем Серпуховым во второй миниатюре из цикла Даниила Хармса «О явлениях и существованиях» (1934) [Хармс, 2016, 36-38]? Не есть ли мир рассказа — мир как бы ветхозаветный, т. е. уже «пост-христианский», и не выступает ли рассказ пророчеством о грядущих судьбах Европы?
Ответить на это лаконичнее всего не меркнущей в веках констатацией Гамлета: Дальнейшее — молчание; ^e rest is silence. «Оставь всё как есть», — говорит вестник иных миров своему собеседнику Габриэле (А21): слишком поздно бороться с, по-види-мому, явственно надвигающимся злом. Не проще ли всего в очередной раз пояснить сказанное им (равно как и не сказанное, ибо в рассказе изрядная часть предполагаемого содержимого остается невысказанной) словами поэта:
Он сказал: «Довольно полнозвучья, Ты напрасно Моцарта любил…»?
В мире рассказа Габриэле одинок, как и герои подавляющего большинства современных нарративов, — а также в силу только что нами названных причин. Впрочем, одинок ведь и философ вообще (а Габриэле подается Ландольфи как пробуждающийся интеллектуально, если не духовно, философ; пробуждающийся — по крайней мере к тому первоосновному сомнению, о котором изрекал свои афоризмы Декарт). Эту ситуацию одиночества мыслителя описывает не только Бердяев24; как заметил Х. Субири, «до наступления великой эпохи [культурного доминирования] Афин греческий мудрец оставался человеком уединенным» [Zubiri, 2018, 201]. Но из этой ситуации возможны разные выходы — в том числе и к положительным жизненным ситуациям. Быть может, герой Ландольфи, заснув, все же что-то прозревает ? Хотя бы саму эту — так и хочется сказать: разлитую в воздухе — трагичность?
Сам мотив засыпания Габриэле, его погружения в сон удивительным образом (и едва ли не напрямую) предваряет сюжет фильма Феллини «Город женщин» (1980), вышедшего уже после смерти автора. Но сходство — не только в этом: перед нами в обоих случаях — антиутопия, более явная и развернутая у Феллини, но намеченная уже и у Ландольфи — и подготавливаемая десятилетиями и веками развертывания европейской истории.
И потому глубоко справедливы слова мексиканца Хуана Рульфо, звучащие в унисон ощущению всех крупных деятелей культуры истекшего, да и нашего столетия: «время есть самая тяжелая ноша, которая только может выпасть на долю человеку» [Рульфо: Наследство Матильды Архангел, 2024, 327].
Вестник иного мира называет героя неким «несносным серафимом» ( А 17) [Landolfi, 2017, 142], что звучит в данной связи, пожалуй, даже как ласковосентиментальный эвфемизм для обозначения куда как более страшных хтониче-ских реальностей; в заключение рассказа выясняется, что внизу — на земле — дети пожирают отцов (понимать это выражение надо метафорично; вспомним, конечно, «Отцов и детей» Тургенева), тогда как наверху — на неких антикизирующих небесах — «повторяю, именно отцы пожирают детей. Впрочем, это — не в новизну: припомни Кроноса или как его там…» ( А 22) [Landolfi, 2017, 143].
Указанием на отсутствие новизны в сюжете писатель дает понять, что отсылает к неким современным трактовкам мифа о Кроносе в более ужасающем духе — подлинного хоррора; из различных антецедентов именно известная своей мрачностью, едва ли не превосходящей Изенгеймский алтарь Грюневальда, картина Гойи (потом эта линия будет продолжена в «Гернике» Пикассо) кажется наиболее вероятным объектом, на который непосредственно ориентировался Ландольфи. Рассказ встает в один ряд со столь значительными произведениями Мастера, осуждающими нацизм, как «Новое о психике человека. Человек из Мангейма» [Ландольфи, 1987, 95–118] с развернутой здесь антиутопией о цивилизации собак, некогда бывших людьми (ведь подобный инфантицид, описанный Габриэле вестником, и есть признак скатывания мира и цивилизации к хтоническому, животному состоянию).
В мире, в котором оказывается герой рассказа, действуют законы парадоксальной логики Н. А. Васильева, согласно которому « Несовместимость противоречащих свой ств (курсив наш. — Д. М. ) — онтологическое свойство нашего мира, вообще говоря, не обязательное для мира „воображаемого“» (цит. по: [Драгалина-Чёрная, 2009, 31]).
Сходный контраст между традицией и миром постмодерна легко обнаруживается и в поэзии (на сотнях примеров). Стоит лишь сравнить между собой, к примеру, лауду «О ликование сердца!..» монаха-поэта Якопоне да Тоди (1230/1236– 1306), исполненную мистического восторга от так или иначе испытанной встречи со Христом, и предельный в своей брутальности и беспощадности верлибр современной португальской поэтессы Адилии Лопеш (род. 1960) «Моя Муза до бытности мною»:
Моя Муза до бытности мною моя Муза учила меня не зная того распевала что петь — языка лишиться 25 и вот твой язык я решилась исторгнуть дабы училась ты петь моя Муза бесчеловечна но я не знаю другой 26
А. Лопеш, с одной стороны, серьезна в смысле Унамуно: «Серьезность — это счастье жить своей (курсив автора. — Д. М. ) жизнью, водруженной на скорби бытия и пронизанной этой скорбью» [Унамуно, 1981, 235].
С другой стороны, серьезность поэтессы, переходя некую черту, имеет свойством перетекание в безнадежность как предел развития качества… Подобный духовный вектор, чуждый Якопоне, прочитывается и в рассказе Ландольфи. Но все же не доминирует безусловно: автор оставляет открытым для читателя ряд путей. Вера Ландоль-фи далека от того, что Борхес называл «теологией испуганного пономаря» [Борхес, 2022, 86 («что-то неуловимо полицейское»), 84]. Незнание героя и его неуверенность относительно того, с кем он имеет дело, не исключает надежды.
Материал рассказа имеет непосредственное отношение к проблеме синтеза искусств: испытав, по-видимому, влияние (наряду с Библией и Кантом) живописи Гойи, прозы лорда Дансейни и — особенно — Пиранделло, автор, в свою очередь, оказал (как нам кажется) воздействие на киноязык и философию кино Федерико Феллини (не говоря уже — но это отдельная большая тема — о воздействии на его собратьев по перу, скажем, Паоло Вольпони). А также на нас — живущих и мыслящих.
Хотя, возможно, сказанное автором, не чуждым постмодернистского сарказма, можно попытаться свести к одной несложной фразе: Смысл есть, но Бог его знает, в чем он заключается. И все же — даже предельными гранями своей мысли Ландоль-фи далек от атеистического гуманизма в стиле «французских левых» или порвавшего с ними в конце концов Камю27. Недоумение вестника иных миров (к которому, впрочем, Габриэле в реплике Г 8 прилагает парафраз Имени Божия из Исх 3:14, да и само множественное число в обращении здесь есть явственным образом Pluralis majestatis) не «тяготеет кошмаром над мыслью собственного творца» (выражение
С. Великовского) [Великовский, 1998, 125], но изящно претворяется в плюрализм утверждаемых вселенных (или, быть может, уровней бытия) и частичных правд о мире в его неопределенности.
Более того, мы можем утверждать, что теория познания Ландольфи в данном рассказе тяготеет к диалетеизму (наиболее продуманному варианту паранепро-тиворечивой логики, продвигаемому сегодня Г. Пристом и его единомышленниками). Согласно этой логике (и, как нам кажется, воззрениям Ландольфи), среди пропозиций, с помощью которых люди описывают мир, встречаются высказывания как минимум с тремя видами истинностных значений (ИЗ): {T} (true — истинные), {F} (false — ложные) и {N} (neutral — нейтральные, также обозначаемые английским словом glut — «излишек», «избыток». Последние, что очевидно, изобилуют в философских и религиозных текстах: «Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих» (Откр 3:15–16).
Согласно бразильским критикам данной теории — Джонасу Р. Б. Аренхарту и Эдерсону С. Мело, говорящий: «Сократ — не японец», не желает допускать возможность того, будто философ все-таки принадлежит к этой нации, — тогда как в диале-теизме, признающем наличие класса ИЗ = {N}, говорящий не может не подразумевать, хотя бы в порядке мысленного эксперимента, этого второго смысла, исключающего первый [Arenhart, Melo, 2019, 14].
Дальше авторы в своей критике Приста не идут, но мы можем внести, как нам кажется, хотя бы одно небольшое уточнение. Рассмотрим две по видимости схожие фразы: Я не Моцарт ( а ); и: Я не Моцарт, но... ( б). Эти две пропозиции четко отличаются одна от другой: если фраза ( а ) — не диалетеична и содержит отрицательную презумпцию (совпадающую с ассерцией), то фраза ( б ) — диалетеична, а ее презумпция достаточно недвусмысленным образом опровергает ассерцию ( А что, если все-таки и я — .тоже Моцарт?). Так вот, в рассказе Ландольфи позиция ангела может быть выражена именно диалетеической фразой типа ( б ): « Я не знаю, но…»
Причины такого неведения, присущего данному ангелу весьма сомнительной природы, более чем очевидны и проясняются в свете Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Так (чтобы привести один пример), в Иуд 9 Господь по молитве св. Архангела Михаила запрещает лукавому и его войску в том числе и знание, а именно — то подлинное духовное ведение, которым Бог наградит — и уже награждает — святых (Лк 11:13; 1 Фесс 5:23; Пс 118:129-130 и др.).
Все эти смыслы у Ландольфи не эксплицированы, но, как нам представляется, служат несомненно просматривающимся фоном — и, более того, фундаментом — создаваемого им текста, о литературных достоинствах которого выше уже было вынесено более или менее развернутое суждение.
Подведем итог. В повествовании итальянского Маэстро чувствуется стиль, изящество и аристократизм многовековой культуры, изрядно приправленной то возвышающей, то высмеивающей и понижающей риторикой и прочими нетривиальными способами самовыражения мыслящей, чувствующей и переживающей мировой распад личности.