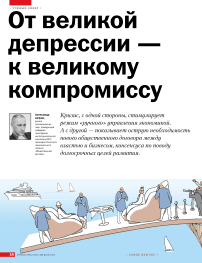От великой депрессии - к великому компромиссу
Автор: Аузан Александр
Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii
Рубрика: Самое важное
Статья в выпуске: 8 (88), 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142169204
IDR: 142169204
Текст статьи От великой депрессии - к великому компромиссу
Вопрос о воздействии институтов, то есть набора правил, на экономическое развитие довольно хорошо изучен за последние 20 лет. Я бы начал с двух больших исследований, которые патронировались Всемирным банком. Одно достаточно давнее, когда посмотрели развитие 84 стран с 1982 по 1994 годы с целью понять, насколько на темпы экономического роста (например, на изменение такого показателя, как валовой но и во власти) существовала ил-не важны для определенной фазы
только экономистов, люзия, что институты
ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
ПРЯМЫЕ ИН ЕСТИЦИИ / № 8 (88) 2009
продукт на душу населения) воздействует политика и какое влияние оказывают институты. Вывод был однозначный: воздействие правил в два раза сильнее, чем влияние текущей политики.
Совсем свежее исследование было завершено накануне экономического кризиса, его организовала комиссия Всемирного банка по экономическому росту, в которую входили отставные президенты и премьеры, крупные экономисты. Там рассматривали опыт 13 стран, показавших наилучшие результаты за последние 25 лет (не ниже 8% среднегодового темпа роста). Оказалось, что очень существенный фактор — наличие национального консенсуса по поводу долгосрочных целей развития, вследствие этого достигается высокая норма накопления, которая позволяет ускорять рост. Кроме того, большое влияние оказывают такие факторы, как макроэкономическая стабильность, преимущественно рыночные способы распределения ресурсов, инвестиции в человеческий капитал.
Россия не принадлежит к тем 13 странам, которые показывают устойчивый экономический рост. Институциональные показатели в нашей стране за последние 5–7 лет ухудшались. Но при наличии высоких темпов конъюнктурного роста у некоторых экономистов (и не роста. Эта иллюзия возникла из-за того, что были 6–8% подъема, начиная с 2002–2003 годов было положительное сальдо по притоку капиталов. Есть страны с не очень хорошими формальными институтами, например Китай и Индия, которые показывали неплохой рост. Хотя должен заметить, что по институциональным показателям они поднимались в эти годы, а Россия нет. Действительно, бывает, что реальное положение вещей, система неформальных институтов компенсирует недостаточное качество законов. Есть такие исследования, например по Индии. К сожалению, вряд ли это относится к России. Если мы начинаем смотреть, что происходит с индексами коррупции, соотношением налогов и коррупционных платежей, то неформальные институты точно не способствовали росту, развитию инвестиций в России.
Есть исследование, которое было предпринято группой экономистов «Сигма». Я принадлежу к этой группе, но этим направлением занимался Леонид Григорьев с его коллегами по Институту энергетики и финансов. Так вот, они посмотрели, что происходило с ввозом и вывозом капитала в России за годы конъюнктурного подъема. Картинка, которая получилась, носит название «Граммофон». Это действительно похоже на трубу граммофона. Выясняется, что Россия ввозила все больше и больше портфельных инвестиций, а вывозила все больше и больше прямых инвестиций. Образно говоря, это означает, что мы выплеснули ванну с водой, а потом пошли по соседям собирать по ведрышку. Именно это объясняет, почему уже летом 2008 года при первых признаках мирового финансового кризиса мы оказались, мягко говоря, «дезабилье» (от французского «раздетый» — ред. ). Портфельные инвестиции очень легко уходят — они и ушли. А прямые инвестиции российского капитала оказались вложенными в заграничные активы.
Почему так происходит? Для того чтобы совершались прямые инвестиции, нужна ясность, понятность и устойчивость правил на годы вперед. Например, в Нидерландах такая устойчивость присутствует, а в России ее нет.


\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \
ИТАР-ТАСС
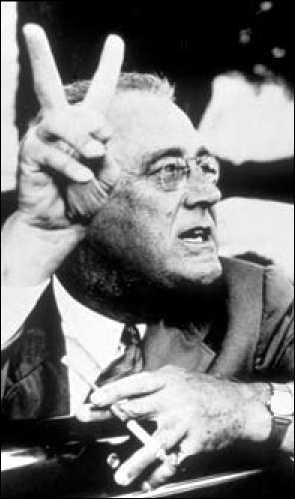
Поэтому бегство инвестиций из России в активы за рубежом объяснимо именно сравнительным качеством институциональной среды. А вот бегство иностранных капиталов (или псевдоиност-ранных, вложенных через офшоры в портфельные инвестиции в России) объяснимо тем, что они очень мобильны. Как прибежали, так и сбежали. То есть то, что они могут снова двинуться в Россию, оценивая конъюнктуру в рамках кризиса как временно пригодную для размещения, не означает, что они, например, в сентябре не уйдут отсюда.
Что делать в этих условиях? У правительства есть несколько путей развития. Существует вариант, связанный с тем, что все начи-
Рузвельту удалось создать широкую антикризисную коалицию, превратившую Америку в великую державу.
нает регулироваться в ручном режиме. Когда давят на конкретные предприятия для того, чтобы они не вывозили деньги за границу, а вкладывали их здесь. Такое в принципе возможно. При этом можно твердо сказать, что иностранные инвестиции не придут потому, что на них нельзя надавить, наоборот, они побоятся того, что на них здесь начнется давление (как в свое время на British Petroleum и на участников соглашения о разделе продукции на Сахалине). При наличии такого давления институты, надо полагать, будут дальше ухудшаться, коррупционные платежи возрастут. Фактически при отказе от формальных понятных правил эти инструменты давления можно применять для получения частных нелегальных доходов.
Другой вариант — пытаться все-таки улучшать институты. Если говорить об условиях для иностранных инвестиций, то, по словам помощника президента РФ по экономике Аркадия Дворковича, выступившего 8 июня на Ученом совете МГУ, один из возможных вариантов состоит в заключении межгосударственных соглашений, которые давали бы гарантии внешним инвестициям. Этот путь в нынешних условиях оказывается более предпочтительным, потому что после того как с прямыми иностранными инвестициями в России происходили события, связанные с местным административным давлением, скорее всего, инвесторы потребуют гарантий не только от российского правительства…
Что касается создания институтов внутри страны, то мы все время говорим о крупных потоках и большом бизнесе. Хотя на самом деле спрос на институты внутри государства формирует скорее малый и средний бизнес и население. Крупные компании во всех странах имеют возможность создать себе индивидуальную институциональную среду. А вот у малых и средних компаний, так же, как и у населения, такой возможности нет. Поэтому для них ясная система правил — условие для массовой экономической деятельности, которая во время рецессии представляется намного более перспективной, чем попытки поднять что-то в крупном производстве.
Кризис, с одной стороны, стимулирует режим ручного управления, это означает, что качество институтов пада- ет, доминирующие группы, осуществляющие новый передел активов, не заинтересованы в создании жестких правил. В этом смысле я и утверждаю, что институциональная модернизация откладывается. С другой стороны, вхождение в модернизацию через кризис возможно, так же, как и создание серии новых институтов. Сошлюсь на пример Великой депрессии. Когда говорят о мерах, которые принимал президент Рузвельт, то обычно упускают из вида такой момент, что президенту удалось создать широкую антикризисную коалицию, которая включала совершенно разные группы: и либеральную интеллигенцию больших городов, и цветное население, и католические меньшинства, и профсоюзы, которые до этого рассматривались как криминальные организации. В результате выросла новая система социального контракта, общественного договора, которая получила впоследствии название Великого компромисса. В рамках этого Великого компромисса, который просуществовал до конца 60-х годов, США и выдвинулись в действительно передовую страну мира. Фактически, это был один из вариантов институциональной модернизации.
Поэтому спрос на институты в условиях кризиса возникает как раз не у верхних групп, а у нижних, которые потеряли доверие ко всему и друг к другу, которые ищут какие-то точки опоры и которые не могут решить вопросы, используя личные связи. Если такие вещи используются властью для формирования широких антикризисных коалиций, то возможен вход в модернизацию.
И вот сегодня в России мы наблюдаем кризис стратегии доминирующих групп, которые управляли и управляют страной и рассчитывали на врастание в транснациональные сети и вхождение в систему мировых институциональных ограничений. Но общественный договор — это то, как строятся отношения с населением своей страны, а не с мировыми центрами. Последние пять лет общественный договор фактически строился на обмене обеспечения стабильности со стороны власти на лояльность со стороны населения, которое было готово идти на ограничение в своих политических правах. Но такая форма во время кризиса вряд ли выживет, потому что власть больше не может поддерживать стабильность по экономическим причинам. Она нуждается в обратных связях. Для нее возник слишком широкий фронт ответственности, который нужно делить с активными группами.
Это предпосылки к формированию другой структуры общественного договора. Он может формироваться в разных вариантах. Не исключено, что возникнет договор (особенно в случае обострения мирового кризиса), основанный на блоковой структуре (во всем в мире) и ценностях великой державы (внутри России). Это будет символический контракт, в центре которого окажутся мобилизационные проекты и принадлежность к статусной державе. На мой взгляд, это нежелательный вариант развития.
Я считаю, что возможен иной путь, когда договор принимает не символический, а политический характер, когда расширяется, хотя бы в ограниченных масштабах, политическая конкуренция. Она должна опираться на включение в принятие решений разнообразных активных групп малого и среднего бизнеса и новую роль институтов гражданского общества.