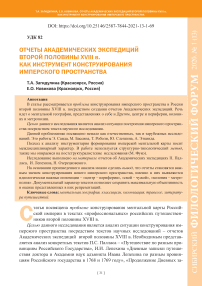Отчеты академических экспедиций второй половины XVIII в. как инструмент конструирования имперского пространства
Автор: Загидулина Татьяна Андреевна, Новикова Елизавета Олеговна
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1 (13), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема конструирования имперского пространства в России второй половины XVIII в. посредством создания отчетов Академических экспедиций. Речь идет о ментальной географии, представлениях о себе и Другом, центре и периферии, колониях и метрополии. Целью данного исследования является анализ ситуации построения имперского пространства посредством текста научного исследования. Данной проблематике посвящено немало как отечественных, так и зарубежных исследований. Это работы Э. Саида, М. Бассина, Т. Роболи, Ю. Слезкина, А. Эткинда. Подход к анализу инструментария формирования имперской ментальной карты носит междисциплинарный характер. В работе используется структурно-типологический метод, также мы опираемся на постструктуралистские исследования (М. Фуко). Исследование выполнено на материале отчетов об Академических экспедициях П. Палласа, И. Лепехина, Н. Озерецковского. На основании произведенного анализа можно сделать вывод, что отчеты становятся важным звеном конструирования нового имперского пространства, именно в них выявляются идеологически важные оппозиции - «центр - периферия», «свой - чужой», «колония - метрополия». Документальный характер текстов позволяет сохранять максимальную объективность в оценке представленных в них репрезентаций.
Ментальная география, классицизм, колонизация, травелог, литература путешествий
Короткий адрес: https://sciup.org/144161646
IDR: 144161646 | УДК: 82 | DOI: 10.25146/2587-7844-2021-13-1-69
Текст научной статьи Отчеты академических экспедиций второй половины XVIII в. как инструмент конструирования имперского пространства
С татья посвящена проблеме конструирования ментальной карты Российской империи в текстах «профессиональных» российских путешественников второй половины XVIII в.
Целью данного исследования является анализ ситуации конструирования имперского пространства посредством текстов научных исследований – отчетов Академических экспедиций второй половины XVIII в. Необходимым представляется анализ конкретных текстов П.С. Палласа – «Путешествие по разным провинциям Российского Государства», И.И. Лепехина «Дневные записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году», «Продолжение Дневных за-
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2020. № 1 (13)

писок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1770 году», «Продолжение Дневных записок путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государства в 1771 году», Н.Я. Озерецков-ского «Описание города Колы, что в Российской Лапландии» в аспекте конструирования имперского пространства.
Для достижения поставленной цели необходимо отметить факты идеологического конструирования империи в анализируемых текстах, сообразуя их с работой Ю. Слезкина «Арктические зеркала. Россия и малые народы севера» [Слезкин, 2008], в которой достаточно полно и подробно описан процесс включения северных земель в имперское пространство.
Обзор научной литературы по проблеме. Ю. Слезкин выдвигает гипотезу о том, что «столкновение культур не может быть полностью описано в терминах угнетения <…> Все образы, о которых пойдет речь <…>, так или иначе порождены имперским господством России в Северной Евразии; но, поскольку они воспроизводят реальность, не тождественную их собственной, важно изучать их взаимоотношения друг с другом, а также с миром, который они искажали и отражали» [Слезкин, 2008, с. 16]. Ю. Слезкин рассматривает процесс колонизации, уделяя особое внимание взгляду колонизатора на культуру, быт, нравы колонизируемых как взгляду Другого.
М. Бассин пишет, что формирование имперской идентичности в России зародилось в Петровскую эпоху на волне реформ, ориентированных на Европу [Бассин, 2005]. Основной дихотомией российского географического пространства исследователь полагает наличие «европейского» центра – метрополии и отдаленных периферий, чужих, колониальных, внеевропейских. Эта дихотомия легла в основу разделения Российской империи на Европу и Азию. Ввиду того что граница между метрополией и колониями была воображаемой – незримой, долгое время велась дискуссия о ее местонахождении. М. Бассин полагает, что фундаментом имперской идеологии стало разделение России на европейский и азиатский сектора.
И. Бусыгина и А. Захаров описывают империю как конструкт, суть которого заключается «в постоянном воспроизводстве модели “доминирующий центр – подчиненная периферия”, причем упомянутые элементы имперской структуры располагаются в территориально различных регионах» [Бусыгина, Захаров, 2006, с. 41]. Основным признаком империи является ее неоднородная и гибридная природа [Бусыгина, Захаров, 2006]. Авторы статьи противопоставляют империю государству-нации, помимо прочего, полагают империю как «незаконченную систему, потенциально стремящуюся к бесконечности, то есть к совпадению с ойкуменой» [Бусыгина, Захаров, 2006, с. 42].
Пространство государства-нации, в свою очередь, не является имперским пространством, так как управление не строится на достаточно лояльном отно- шении к широкому разнообразию культурных, экономических и политических институтов, тяготеет к ассимилирующим и унифицирующим практикам – «как политико-территориальные структуры империя и государство-нация представляют собой “идеальные типы”, которые противостоят друг другу – первый из них отрицает, а второй воплощает право наций на самоопределения» [Бусыгина, Захаров, 2006, 43]. Выстраивание имперской структуры не предполагает унификации, так как это может повлечь за собой крах этой структуры. Характер империй может быть различным: империя может быть морской, континентальной или гибридной [Бусыгина, Захаров, 2006, с. 43]. Для каждого типа характерен самобытный путь колонизации: захват или присвоение близлежащих земель.
Процесс формирования имперской идентичности, как и практически любой социальный процесс, так или иначе отражается на литературе, ее жанровой системе, появлении новых форм повествования, новых тем. Путешествие – наиболее чувствительный к этим изменениям жанр. Именно о формах жанра путешествия пишет Т. Роболи [Роболи, 1926].
Т. Роболи говорит о беллетристической форме жанра путешествия, имеющей мемуарно-эпистолярную основу. В XVIII в. жанр путешествия трансформируется, повествование становится формально интимизированным. Это связано с сентименталистскими тенденциями: «В тематическом отношении ”путеше-ствие” впитало в себя такие характерные для сентиментальной школы черты, как культ дружбы, восхваление жизни, близкой к природе, сельский пейзаж и проч.» [Роболи, 1926, с. 46]. Дело в том, что характерной чертой русских путешествий XVIII в. было обращение к кому-либо, будь то обращение (посвящение) к близким и друзьям, например, в «Путешествии в Малороссию» Шаликова – «любезным сердцу моему Андреевскому, Бну, Тшву», или обращение участников Академических экспедиций к императрице.
По мнению исследовательницы, принципиальным моментом возникновения жанра путешествия было выдвижение «литературного быта на место высокой литературы», где создается совершенно иной язык, одинаково далекий от грубого языка сатирических пьес и от высокого литературного стиля. Ориентация авторов была на язык образованного общества. Сообразуясь с сентемен-тализмом, тематика произведений также была ориентирована на индивидуальное, а не на типическое, на анекдот, а не на быт, что будет принципиально отличать эту литературу от отчетов участников Академических экспедиций, где индивидуального практически не будет, а ориентация на быт будет обязательным условием описания.
Т. Роболи противопоставляет этнографо-исторический или географический род путешествий литературному, это важно в контексте эпохи второй трети XVIII в., когда создаются своеобразные отчеты Академических экспедиций П.С. Палласа и И. Лепехина, Н. Озерецковского и С.П. Крашенинникова, Г.И. Ше-лихова и Е. Кожевина и др.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2020. № 1 (13)
Методология исследования. Исследование путевой литературы сейчас является одним из самых популярных и в то же время не до конца разработанных направлений, оно отмечено интересом современного российского и зарубежного литературоведения.
Исследование путевой литературы подразумевает несколько методологических аспектов: культурного диалога (Запад – Восток), нарратологии (динамика образов повествователя и стилистики самого текста в зависимости от позиции, занимаемой субъектом наррации в антитезе «Запад – Восток») и имагологии, т.е. воображения, культурного «картографирования» тех или иных пространственных миров. Таким образом, методология исследования носит междисциплинарный характер.
Материалом послужили отчеты Академических экспедиций второй половины XVIII в.
Результаты исследования. В XVIII в. начали предприниматься первые большие путешествия, экспедиции, целью которых была, прежде всего, практическая польза, научное осмысление российских территориальных владений. И действительно, по сравнению с XVIII в. «дивящихся» путешественников было относительно немного. Целью тех путешественников было скорее присвоение новых земель, а не их исследование. В XVIII в. путешествие становится частью профессии исследователя, финансируется государством, сам статус путешественника становится принципиально иным. Немцы-путешественники XVIII в. уже обладали культурой травелога, ближайший их аналог – европейцы, приезжавшие в Россию – Герберштейн, Поссевино, Флетчер и др. По мнению Ю. Слезкина, «Московиты XVII века не путешествовали <…> они не рассматривали перемещение в пространстве как достойное занятие и не поощряли стремления дивиться мирским и неблагочестивым вещам» [Слезкин, 2008, с.120].
Подробное описание типов путешествий XVIII в. дано в работе С. Козлова [Козлов, 2003]. С. Козлов подробно характеризует академические экспедиции, образовательные путешествия, так называемые «Grand Tour», а также морские вояжи русских офицеров в 60–90-е гг. XVIII в. Именно Академические экспедиции XVIII в. становятся своеобразными маркерами целенаправленной государственной политики формирования имперской идентичности. Стоит также учитывать, что, в отличие от экспедиций петровского времени, эти были не секретны, открыты, труды во многом создавались для европейского читателя, как бы давая ему осознать мощь и размеры Российской империи.
Проведение экспедиций было одной из главных функций созданной в 1724 г. Академии наук. «По характеру исследований экспедиции делились на: астрономические и географические, предпринимаемые для изучения территорий в картографических целях; “физические” <…>, предполагавшие физико-географические наблюдения и сбор материалов по лингвистике, этнографии, истории, экономике» [Козлов, 2003, с. 13]. Разумеется, ход любой экспедиции должен был фик- сироваться, с чем и связано появление большого количества путевых записок, очерков, дневников. Для фиксации происходящего были разработаны специальные инструкции, что вполне сообразовывало создание этих текстов с литературой классицизма, развивавшейся параллельно. Таких инструкций было несколько. Так, для Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга была составлена инструкция, которая, кстати, уделяла большее внимание конфиденциальности полученной информации, а например, П.С. Паллас и И. Лепехин руководствовались уже другим документом, созданным значительно позже. Их записи являются максимально фактичными.
Вторая Камчатская экспедиция подробно описана Свеном Вакселем в труде «Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга» в 1740 г. [Ваксель, 1940]. Не менее ценную информацию могут дать и дневники И.Г. Гмелина, например «Путешествие в Сибирь» [Гмелин, 2009]. В 1767 г. началась подготовка длительной экспедиции под руководством П.С. Палласа.
Подобную государственную деятельность по освоению территорий Ю. Слезкин называет «великой инвентаризацией XVIII века», это не просто хозяйственное освоение территорий, это комплекс государственных мероприятий – например, перепись населения, составление словарей, таких как «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницей Всевысочайшей особы императрицы Екатерины II» (Спб., 1787–1789) в двух томах, Симона Пал-ласа, составление каталогов, перечней, карт. Таким образом, уже имеющийся хозяйственно-экономический факт использования восточных земель включался в культурную парадигму не просто освоения, но осознания. По М. Фуко [Фуко, 1994], человек XVII в. в Европе и XVIII в. в России научился классифицировать, т.е. не просто сополагать вещи, но прилагать к ним какой-то абстрактнотеоретический признак, создавая тем самым так называемую, «естественную историю» [Фуко, 1994, с. 161], которая своим инструментарием, состоящим из каталогов, списков, таблиц, создавала ядерную структуру самого рационального мышления. Колонки таблицы потенциально бесконечны, отсюда – принципиально «каталожный» характер нарративов путешественников XVIII в., отсюда же и их авторская позиция как «коллекционеров», сборщиков знаний, эмпириков. «В то время как государство продолжало классифицировать подданных <…> это требовало все более добросовестной каталогизации обычаев – вернее, не просто “обычаев”, а “SittenundGebräuchen”, что обычно переводилось как “нравы и обыкновения”» [Слезкин, 2008, с.128].
В XVIII в. политическая идентичность России подвергается коренным изменениям: после заключения Ништадтского мира в 1721 г. Россия провозглашается империей, а правитель – императором. «Эта попытка трансформировать политическую идентичность России сделала необходимым переделать и геополитический образ страны» [Бассин, 2005, с. 278]. Таким образом, Россия должна была быть разделена на европейскую метрополию и азиатские колонии.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2020. № 1 (13)
В начале XVIII в. вопрос о границе между Европой и Азией, проходящей через Россию, не был решен, Петр склонялся к тому, что естественной границей может послужить Уральский хребет («Великий пояс»). Разделение России на Европейскую и Азиатскую имело огромное значение. Во-первых, это разделение легло в основу имперской идеологии, во-вторых, такая граница становилась естественной чертой между центром и периферией.
Одним из первых фундаментальных исследований отношений Запада и Востока в аспекте колониализма было исследование Э. Саида «Ориентализм». «“Местные интересы” – это частные интересы ориенталиста, „центральная власть” – общий интерес имперского общества в целом», – такими словами Саид описывает отношения колонии и колонизаторов [Саид, 2006, с. 67]. Э. Саид говорит о сути античной репрезентации ориентализма в пьесах Эсхила: «Европа могущественна и может отчетливо выражать свои мысли (артикулирована), Азия – побеждена и удалена» [Саид, 2006, с. 87]. Эта репрезентация провела первую границу между Западом и Востоком.
Саид утверждает, что, по мнению самих колонизаторов, они несли несомненную пользу колонизированным территориям в силу того, что считали восточные государства отсталыми, а Запад – оплотом цивилизации, которую можно было и нужно было нести на Восток. При этом обоснование колонизаторов такого положения вещей было следующим: «Есть люди Запада, и есть люди Востока. Первые господствуют, последние нуждаются в том, чтобы над ними господствовали, что обычно означает оккупацию их земель и жесткий контроль над внутренними делами, а их кровь и богатства при этом поступают в распоряжение той или иной западной державы» [Саид, 2006, с. 56]. Подход Саида не совсем применим для модели колонизации в России. Российская колонизация проходила поэтапно, сначала земли присваивались как новооткрытые, а лишь потом, по прошествии достаточно протяженного временного отрезка осваивались интеллектуально. Задачей российских путешественников не являлось миссионерство, первооткрыватели искали экономической выгоды, исследователи вели наблюдения и составляли описания, чтобы донести информацию об отдаленных районах государства до его центра.
Характер российской колонизации был во многом оригинален. Колонизация России происходила в том числе и на арене отношений власти и народа: «В отличие от классических империй с заморскими колониями, колонизация России имела внутренний характер. Империя осваивала собственный народ. Внутренняя колонизация совпала с эпохой Просвещения <…>. Миссионерство, этнография и экзотические путешествия, характерные феномены колониализма, в России имели преимущественно внутренний характер. <…> Народ есть Другой. Отсутствие географических, этнических и лингвистических признаков для такой оппозиции лишь усиливало значение признаков культурных (в частности, религиозных и эстетических)», – характеризует А. Эткинд двойственную природу российской колонизации [Эткинд, 2013, с. 9].
Но в опыте России была как внешняя колонизация, так и внутренняя. Причем сначала – внешняя (взятие Казани, Астрахани, Сибири и пр.), а потом – внутренняя. Внутренняя колонизация – факт культуры, но не администрирования. Оба сценария в XIX в. были равно релевантны. Внутренняя колонизация, в понимании А. Эткинда, возникает тогда, когда слой русских европеизированных интеллектуалов, появившихся в результате реформ Петра, начинает осознавать свой собственный народ как экзотическую реальность, «своего чужого». Народ (крестьянин) становится в перспективе Радищева, Грибоедова, Пушкина, Белинского и др. аналогом «благородного дикаря» европейской литературы. Но если там «благородный дикарь» – это индеец, то в России – собственный крестьянин.
Таким образом, внутренняя колонизация не изменяет сущностно русский колонизационный опыт, а создает двойственность, так как Россия видит себя одновременно в двух перспективах – как европейская держава (и потому субъект колонизации) и как реципирующая европейские нормы культура (и потому – объект колонизации).
Именно такие принципы реализуются в сочинениях П. Палласа и И. Лепехина, они путешествуют по России, не разделяя ее на Россию и не-Россию, они познают ее как свою, разделение есть только на «Я» и «Другой», противопоставляя себя представителям этнических сообществ по культурному и религиозному признаку. Сама форма и идея трудов П. Палласа и И. Лепехина показательна. Их записи – это во многом каталоги российских владений и владений императрицы, именно к императрице, в первую очередь к ней, обращены их труды: «всепресветлейшая, дер-жавшейшая, великая государыня императрица и самодержицы всероссийская, государыня всемилостивейшая! Достопамятная милость, которую Ваше Императорское Величество щедро являете состоящим и возрастающим под высочайшим Вашего Величества покровительством наукам <…> повергнут к стопам Вашего Императорского Величества первые плоды моего по высочайшему Вашего Величества повелению предпринятого физического путешествия» [Паллас, 1773, с. 5]. В рамках рационалистической картины мира в центре всего – просвещенный государь, как в фокусе, собирающий в себе всю энергетику просвещенного государства. Даже в приведенной цитате подчеркнуто, что император – покровитель наук. Это одна из основных его функций. Границы физические здесь воображаемы, для путешественников гораздо более важны границы культурные, этические, их труды показывают разнородность российского населения, акцентируют внимание на культурных различиях, одной из их целей был именно поиск культурных различий, чем повышают авторитет центра и берут на себя роль инвентаризаторов.
Итак, путешественники XVIII в., участники Академических экспедиций, преследовали, прежде всего, научные цели. Написанное ими очень четко структурировано из-за того, что, по сути, их записи являются документальными. В ходе путешествия выясняется, что общественное устройство этнических сообществ, проживающих в империи, структурировано, причем структурировано по
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2020. № 1 (13)
типу общественного устройства центра, например, И. Лепехин замечает, что административное устройство деревень у татар, мордвы и чувашей на реке Черем-шан выстроено по подобию административного устройства русских деревень, быт и образ жизни также сходны с русскими. Он даже проводит параллель между татарским исламом и русским православием: «При молении также никаких особенных обрядов не бывает; Мулла и Абызво образ наших священников, а Муазин соответствует должности нашего пономаря. Наш пономарь созывает в церковь посредством колоколов, а Муазин криком» [Лепехин, 1771, с. 45]. Вот пример применения своей системы оценок к чужому этнографическому материалу. Исследователю здесь безразличны конфессиональные тонкости (что было крайне важно в Средние века, и не только в отношении ислама), он применяет критерий быта – простейшего фундамента цивилизации – пытается соотнести социальные роли, присущие русскому социуму, с тем, что кажется ему аналогами таких ролей в описываемом сообществе.
Таким образом, имеет место ситуация вхождения малой культуры периферии в большую, «свою», «правильную» культуру центра. При этом культура периферии не противопоставляется культуре центра, но все же некоторые обычаи Лепехиным экзотизируются, на их основе конструируются культурные различия, что позволяет ему считать себя носителем культуры центра.
Ю.М. Лотман пишет: «“Своя культура” рассматривается как единственная. Ей противопоставляется культура других коллективов <…>. При этом своя культура противопоставляется чужой именно по признаку “организованность” – “неорганизованность”. <…> Они характеризуются не наличием каких-либо других признаков, а отсутствием признаков культуры» [Лотман, 1992, с. 386]. Несмотря на то что эта мысль относится к архаичным этапам развития культуры, она будет актуальна для ситуации взаимоотношений русских колонизаторов и колонизируемых племен, культура которых находится на более ранней стадии развития.
Сочинение И. Лепехина находится в политической парадигме, говоря о религии местного населения, он замечает, что православие не является единственной, а тем более главной религией этнических групп, населяющих Российскую империю, таким образом подчеркивая ее гетерогенность.
Говоря о культуре, Лепехин экзотизирует местные обычаи, например народную медицину, которая развивалась среди многих этнических групп, населявших Российскую империю. Он описывает медицинские ухищрения местного населения, и делает это весьма иронично: «Абыз сообщил им весь свой припас, между которым бобровая струя по татарскому исповеданию стояла под первою цифрою, за ней следовала киноварь как надежное пристанище обуреваем тяжкими болезнями. Нет такого недуга, который по их приметам не был покорен сему обожаемому лекарству; Хотя такое лечение, сравнивая с записками и примечаниями врачей, кажется быть убийственным, однако должно и то взять в рассуждение, что ежели бы наша бабушка часто своим лечением отправляла на тот свет, то без со- мнения скоро потеряла к себе доверенность», – пишет Лепехин о встрече с деревенской целительницей [Лепехин, 1771, с. 76]. Он как носитель культуры метрополии, следовательно, культуры «правильной» и нормативной, оценивает колониальную культуру как экзотическую, но во многом сходную с культурой центра – когда нарратор видит аналоги, он пишет о них спокойно, как только перестает их видеть – тональность становится иной.
Политика империи не предполагала насильственного введения единой религии: «От всех “объясаченных иноземцев” требовали дать торжественную клятву верности (шертъ) – напрямую или через одобренных русскими представителей. Русские ясачные сборщики предполагали, что у каждого народа есть своя «вера» и что в каждой вере есть своя сакральная формула, скрепляющая всех верующих узами взаимных обязательств» [Слезкин, 2008, с. 35]. И. Лепехин дает по поводу религиозной ситуации следующие комментарии: «Хотя с 1743 году всевозможное старание было прилагаемо нашим духовенством, дабы их просветить правоверием <…> Сначала они пользовались многими выгодами, как то увольнение от податей, которые собирались с некрещеных и запринявших правоверие. Наконец, давалася желающим принять крещение и награда, по чему не редко лакомые до денег раза по два и по три в разных местах крестилися» [Лепехин, 1771, с. 78]. Таким образом, у представителей этнических сообществ оставался относительно свободный выбор вероисповедания, несмотря на то, что иногда за принятие христианства им предлагаются поощрения, например, в виде освобождения от некоторых налогов. Интересно, что спустя сотни лет проблема сосуществования различных верований в пределах метрополии будет рассматриваться художниками и как культурное своеобразие империи, и как выход к особым, тайным знаниям [Сибирская идентичность…, 2015].
Земли империи были крайне разнородны, что, кстати, подчеркивало престиж и авторитет монарха. Например, Н.Я. Озерецковский в сочинении «Описание Колы и Астрахани» пишет о лопарях, живущих на Кольском полуострове: «Все Лопари, России подданные, суть християне одной с нами веры, к которой многие из них прилеплены весьма усердно, хотя во всей Лапландии одна только церковь находится; ибо, кроме Колы, нет нигде Божия храма; и один Кольской священник во всей Лапландии все духовные потребы исправляет. Он временно ездит по Лопарским погостам; дает молитвы родильницам» [Озерецковский, 1804, с.11].
Собственно, для центра поддержание местных обычаев и смирение с местной религией означало своевременную и достаточную выплату «ясака», ситуация могла измениться в начале XVIII в., но христианство не стало популярным в колониях: «Крещения “оптом”, не сопровождавшиеся переменами в обычном праве, привели к созданию значительной группы христиан, не отличимых от язычников. <…> Официальная принадлежность к религиозной общине оказалась оторванной как от формального статуса налогоплательщика, так и от веры в ее традиционном понимании» [Слезкин, 2008, с. 73].
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2020. № 1 (13)
И. Лепехин, будучи в окрестностях горы Тура Тау, записывает следующее: «За свято почитаемая башкирцами Тура Тау принудила нас быть роскошными и возбуждать башкирскую неустрашимость вином: ибо никто из них на сию гору с нами идти не хотел отговариваясь разными обетами, которые они горе должны, и которые еще не исполнены: ибо без исполнения обета взлазить на гору никто не может» [Лепехин, 1771, с. 82]. Путешественник как человек, принадлежащий культуре центра, не воспринимает той смысловой нагрузки, которая есть у этой горы для данной этнической группы, но и представители этнической группы не разделяют взглядов пришельца из центра – их мировоззрения не совпадают – это пример культурного различия, имперское пространство гетерогенно, культурная стратегия империи весьма целостна: просвещение, описание, каталогизация, использование.
Несмотря на то что путешествовали исследователи на территории одного государства, они преодолевали множество границ. Самой главной такой границей была граница колонии и метрополии. Колонии были заселены преимущественно этническими группами, поэтому путешественники выходили не только за физические, но и за культурные, и за языковые границы. Именно культурные различия, существовавшие по разные стороны границы, во многом формировали имперскую идентичность. Так, И. Лепехин проводит границу между жителями Табынска (русскими) и башкирцами, живущими на той же территории: «Хотя Табынск отовсюду окружен лесистыми горами, служащими убежищем разным хищным зверям, однако из табынских жителей, мало к тому охочих. Сие упражнение остается около живущим башкирцам, которые, как и все другие степные народы, к звероловству весьма склонны» [Лепехин, 1771, с. 87]. Несмотря на то что территориально эти группы связаны, они различны по этническому признаку и по образу жизни. И этническая принадлежность, в данном случае выступающая инструментом конструирования культурных различий, является границей между колонией и метрополией.
Интересно, что этнические сообщества противопоставляются жителям центра – русским, но не противопоставляются друг другу. Напротив, автор находит некоторые черты сходства в них. Так, о башкирах И. Лепехин пишет: «В содержании скота в кочевках много они сходствуют с калмыками», «кислое молоко, ай-рян называемое, которое они так, как и татара, употребляют вместо обыкновенного питья» [Лепехин, 1771, с. 82], – это один из маркеров формирования бинарной оппозиции «метрополия – колония».
Заключение. Таким образом, труды, созданные в ходе Академических экспедиций, становятся инструментом конструирования новой имперской идентичности, причем не только и не столько в глазах российского читателя, сколько в глазах западной просвещенной публики, для которой они и создавались. В трудах четко прослеживается дихотомия «метрополия – колония», очень большое внимание авторы уделяют местной экзотике, начиная с одежды, заканчивая гастрономическими впечатлениями: так создается образ другого-чужого, но все-таки принад- лежащего империи. Более того, произведен процесс интеллектуального присвоения, осмысления территории посредством описания ее физико-географических особенностей, а также растительного и животного многообразия.