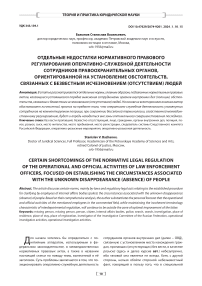Отдельные недостатки нормативного правового регулирования оперативно-служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, ориентированной на установление обстоятельств, связанных с безвестным исчезновением (отсутствием) людей
Автор: Бажанов С.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (76), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются отдельные нормы, главным образом, подзаконных нормативных правовых актов, касающиеся устоявшегося порядка выяснения сотрудниками органов внутренних дел (полиции) обстоятельств, связанных с безвестным исчезновением (отсутствием) людей. На основе их всестороннего анализа автор обосновывает личностный прогноз на предмет того, что оперативно-служебная деятельность упомянутых сотрудников на комментируемом поприще, при сохранении бессвязной терминологии, свойственной межведомственному регулированию, будет и впредь находиться вне зоны оптимального совершенствования последнего.
Без вести пропавший, безвестно отсутствующий, лицо, гражданин, органы внутренних дел, полиция, поиск, розыск, сыск, место жительства, место пребывания, место регистрации, следователь системы следственного комитета российской федерации, оперативно-розыскная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/14129509
IDR: 14129509 | УДК: 343.139.1 | DOI: 10.47629/2074-9201_2024_1_10_15
Текст научной статьи Отдельные недостатки нормативного правового регулирования оперативно-служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, ориентированной на установление обстоятельств, связанных с безвестным исчезновением (отсутствием) людей
Для начала хотелось бы определиться с понятийным аппаратом, используемым в федеральном законодательстве, в межведомственных нормативных правовых актах, а также в названии настоящей статьи по поводу темы, вынесенной в её заголовок. Суть проблемы заключается в том, что позиционировать оперативно-служебную деятельность сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД), связанную с установлением места нахождения граждан, пропавших (отсутствующих) без вести, в качестве розыска (здесь и далее курсив авт.) небезупречно, ибо таковой она является не всегда. Хотя, с другой стороны, нельзя обойти стороной небезызвестный факт, говорящий в пользу того, что в специальной юридической литературе термин «розыск» нередко замещается аналогами, в образе которых выступают его синонимы – «поиск» и «сыск».
В своих многочисленных трудах на эту тему автор настоящей статьи уже неоднократно подчёркивал, что характер правоотношений, возникающих в момент поступления в дежурную часть ОВД (полиции) заявления (сообщения) о безвестном исчезновении (отсутствии) граждан, в условиях новейшего времени, к сожалению, не приобрёл удобоваримого научно-теоретического объяснения. Вследствие сказанного говорить о розыске граждан, пропавших (отсутствующих) без вести, в тесном смысле слова дозволительно лишь условно, выстраивая подходящее для подобных случаев мировоззрение в форме рабочих версий, объективирующих наиболее правдоподобные причины произошедшего.
Именно на означенном прочтении «буквы закона» настаивают российские парламентарии, заложившие в текстуру части 2 статьи 140 УПК РФ формулировку о том, что: «Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления».
Следует иметь в виду, что отдельные авторы упомянутую выдержку из УПК РФ интерпретируют излишне вольготно, культивируя словосочетания «признаки преступления» и «признаками состава преступления» в качестве взаимозаменяемых [7, с. 29-35]. Выглядит это неуклюже, поскольку выражение «признаки состава преступления» представляет собой юридическую абстракцию, недоступную для квалифицированного восприятия, а стало быть, толкования подавляющей массой обывателей, пострадавших от преступных посягательств.
В связи с изложенным для учёных предметом занимательных научных дискуссий становится обновлённый порядок организации и осуществления розыска граждан, пропавших (отсутствующих) без вести, который до сих пор не удосуживается оптимального нормативного правового согласования между заинтересованными правоохранительными ведомствами [8, с. 14-17].
В указанном контексте не возбраняется сделать вывод о том, что проект приказа МВД России, Генеральной прокуратуры России и Следственного комитета России (далее – СК России) от 16.01.2015 № 38/14/5, включивший в себя Инструкцию о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» (далее – Инструкция), направлявшийся на одобрение в Минюст России, вступил, наконец-таки, в действие [2].
Тем не менее, сохраняется неясность в толковании ряда его норм, поскольку не все процедурные недомолвки в них были описаны юридически грамот- ным языком. Для их прояснения и нейтрализации необходимо скрупулёзное изучение директивы, ключевые положения которой по ходу дальнейшего изложения материала будут подвергнуты дозированной технико-редакционной правке.
Следует предуведомить читателей и о том, что последовательное соблюдение пунктуации обсуждаемого нормативного правового акта в данном конкретном случае проигнорировано. Сделано это с корыстной целью, сводящейся к стремлению автора настоящей статьи соблюсти «читабельность» при сравнительном сопоставлении оригинала Инструкции с её доработанной версией.
За отправной момент в обсуждаемом смысле взяты декларации пункта 1 раздела I Инструкции, где отмечается, что она устанавливает порядок рассмотрения в территориальных ОВД и следственных органах системы СК России заявлений и сообщений о преступлениях, а также иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением (иностранных) граждан и лиц без гражданства.
Непредвзятый разбор означенной нормы позволяет судить о наличии в ней чрезмерно фривольного толкования терминологического построения «следственные органы системы СК России», не свободного от очевидной тавтологии. Его дополнение словом «система» положения не спасает, поскольку СК России сам по себе является государственным органом, могущим включать в свою внутреннюю архитектонику исключительно подразделения.
Приведённое умозаключение, основывающееся на базовых аксиомах теории управления, вряд ли подлежит оспариванию.
По ходу дальнейшего изложения Инструкции её разработчиками многократно используются парные словосочетания: «Следственный комитет» и «Следственный комитет Российской Федерации», что свидетельствует об отсутствии у них навыков искусного владения приёмами технико-редакционного толка. К тому же, не удосуживаясь оговаривать отдельно, они не единожды эксплуатируют по тексту фразу «следователь Следственного комитета», ставя таким незамысловатым способом под сомнение его (следователя) принадлежность к строго определенному уровню ведомственной иерархической лестницы, в качестве какового с равной степенью правдоподобия могут выступать как система СК России, так и её центральный аппарат.
В пункте 3 раздела II Инструкции подчёркивается, что сообщения о безвестном исчезновении (отсутствии) граждан подлежат безусловному приему, регистрации и разрешению в установленном законом порядке независимо от давности и места происшедшего, наличия или отсутствия информации о месте их жительства (пребывания), полных анкетных данных, а также фотографий и сведений об имевшихся ранее случаях аналогичного поведения с их стороны.
Примечательно, что в процитированной норме упоминаются лица, что выглядит противоестественно, ибо правильнее было бы рассуждать о гражданах и лицах без гражданства, памятуя о том, что удельный вес последних в числе объектов розыска, по обыкновению, ничтожен.
В пункте 4 раздела II Инструкции излагаются должностные обязанности оперативного дежурного дежурной части ОВД, призванного после получения подобающего сообщения безотлагательно предпринять следующие меры:
-
• выяснить подробные обстоятельства безвестного исчезновения (отсутствия) гражданина (пп. 4.1);
-
• информировать дежурного следователя системы СК России, а в его отсутствие – руководителя регионального подразделения СК России или его заместителя об обстоятельствах безвестного исчезновения (отсутствия) гражданина, а равно о месте связанного с этим происшествия (пп. 4.2);
-
• определить состав дежурной следственнооперативной (оперативной) группы из числа сотрудников ОВД и направить её на место происшествия (пп. 4.3).
При ознакомлении с отмеченными рекомендациями, желательно осознавать, что назначение круглых закрытых скобок в русском языке разнопланово. В данном случае они, по всей видимости, выпячивают факт обладания оперативным дежурным дежурной части ОВД известными альтернативами в части, касающейся решений, подлежащих принятию. Так или иначе, не следует забывать о том, что выражение «оперативная группа» представляет собой замшелый анахронизм, поскольку уже давно вышло из лексикона сотрудников ОВД (полиции).
В случае если сообщение о безвестном исчезновении гражданина (за вычетом получения его из территориального ОВД) поступает напрямую в следственный орган СК России, об этом незамедлительно уведомляется оперативный дежурный дежурной части ОВД.
Согласно пункту 6 Инструкции, следователь СК, получив упомянутое сообщение, с учётом требований подпункта 4.2, пунктов 5, 10 и 11 Инструкции, выезжает на место происшествия в роли руководителя следственно-оперативной группы, а все последующие свои действия координирует (а правильнее было бы сказать – согласовывает – С.Б. ) с оперативным дежурным дежурной части ОВД.
Если обстоятельств, перечисленных в пункте 10 Инструкции, в сообщении не обнаружилось, он (следователь) согласовывает с руководителем следственного органа свой отказ от выезда на место происшествия, о чём информирует оперативного дежур- ного дежурной части ОВД, который, в свою очередь, докладывает о ситуации «по команде».
Проверка сообщения о безвестном исчезновении гражданина, юридическая природа которого остаётся непонятой, при отсутствии в нём обстоятельств, очерченных в пункте 10 Инструкции, поручается сотруднику оперативного подразделения ОВД (п. 8).
С учётом требований пункта 9 Инструкции, сообщение о безвестном исчезновении (отсутствии) гражданина, содержащее признаки совершённого в отношении него преступления, относящегося к подследственности следователей СК России, поступившее в ОВД, после его регистрации, согласно пункту 3 части 1 статьи 145 УПК РФ, передаётся по назначению (в следственный орган СК России – С.Б .); об этом уведомляется прокурор.
В комментируемых абзацах, как несложно убедиться, составители Инструкции подследственность соотнесли с преступлением, хотя правильнее было бы её увязать с уголовным делом, поскольку совокупность принадлежащих именно ему (уголовному делу) признаков форматирует собой рассматриваемую категорию.
О признаках совершённого в отношении гражданина, пропавшего (отсутствующего) без вести, преступления, согласно пункту 10 Инструкции могут (среди прочих) свидетельствовать обстоятельства, которые, с опорой на сформировавшиеся в профессиональной среде сотрудников ОВД (полиции) привычек целесообразно «причесать». Таковыми, как правило, выступают: отсутствие объективных причин, указывающих на намерение объекта розыска беспричинно и на длительный срок убыть в неизвестном направлении; наличие у него хронического (тяжёлого) заболевания, которое могло бы спровоцировать скоропостижную смерть, потерю памяти и др.; обнаружение по месту его пребывания носильных вещей и денежных средств, без которых он не в состоянии обходиться длительное время; наличие в его жизни запланированных мероприятий, участие в которых им предполагалось; наличие у него внушительных денежных сумм, которые могли подвигнуть преступников на неадекватное поведение; безвестное исчезновение с личным автотранспортом; отсутствие в течение не менее трёх суток каких-либо сведений о его судьбе, несмотря на наличие в его распоряжении средств мобильной связи; безвестное исчезновение (отсутствие) гражданина, совпавшее по времени с отчуждением принадлежащего ему имущества; наличие по последнему месту его пребывания следов, указывающих на возможное совершение в отношении него уголовно наказуемого деяния; отсутствие в ОВД (полиции) заявления об его исчезновении; наличие конфликтных отношений в семье (быту), на работе, по месту общественной деятельности; наличие неразрешённых от- ношений, вызванных долговыми обязательствами; наличие иных угроз, высказывавшихся в его адрес; наличие в распоряжении субъектов розыска объяснений фигурантов оперативно-розыскного процесса или показаний участников стадии предварительного расследования о возможном совершении в отношении гражданина, пропавшего (отсутствующего) без вести, преступления; внезапный, не оправданный текущими условиями, ремонт по месту его пребывания; длительное неполучение заработной платы, пенсии и др.; поспешное решение членами его семьи и (или) (близкими) родственниками вопросов, могущих пониматься лишь при твёрдой уверенности в том, что он никогда не вернётся; наличие сведений о преступной деятельности и прочих порочащих связях гражданина, пропавшего (отсутствующего) без вести; безвестное исчезновение несовершеннолетнего или малолетнего; внезапная пропажа представителя органов государственной власти, в том числе сотрудника правоохранительных органов и т. д.
В пункте 11 Инструкции оговаривается, что приведенный перечень не является исчерпывающим. О признаках совершения в отношении гражданина, пропавшего (отсутствующего) без вести, преступления могут свидетельствовать и другие обстоятельства с учетом оперативной обстановки в регионе (стране), местных (национальных) традиций и обычаев (устоев).
Для выдвижения обоснованных версий на сей предмет и безупречного вывода о проявлении признаков совершенного в отношении гражданина, пропавшего (отсутствующего) без вести, уголовно наказуемого деяния, рекомендуется учитывать совокупность обозначенных выше предпосылок в их логической взаимосвязи.
В этом смысле пункт 12 Инструкции обязывает субъекта применения права выяснять по всякому сообщению о безвестном исчезновении (отсутствии) гражданина конкретные детали, относящиеся к проверяемому событию, как-то: время, место, способ и др., могущие включать в себя полезные сведения о его личности, психическом (эмоциональном) состоянии, круге сложившихся связей и пр.
В анализируемом контексте целесообразно помнить о том, что безвестное исчезновение (отсутствие) граждан, нельзя трактовать как событие, поскольку оно образует собой так называемый юридически значимый факт в форме деяния [3, с. 31-36], имеющий в семантическом ракурсе принципиально иную содержательную нагрузку.
В случае возбуждения уголовного дела или при отказе в возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения (отсутствия) гражданина, следователь СК России незамедлительно уведомляет об этом территориальный ОВД (п. 16).
Если гражданин, пропавший (отсутствующий) без вести, не обнаружился, и данные, указывающие на совершение в отношении него преступления, не выявлены, оперативное подразделение ОВД по находящемуся в его производстве сообщению принимает сообразное решение и заводит розыскное дело.
Автор настоящей статьи в своих публикациях уже не единожды повторял, что дальнейшее совершенствование законодательной регламентации и ведомственного нормативного правового регулирования оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД (полиции) желательно организовывать с акцентом на строгой персонификации непосредственных исполнителей повелений законодателя, а также предписаний разработчиков ведомственных директив. В таковом аспекте не поддаётся уяснению то, как это оперативное подразделение ОВД, выступающее в формате коллективного субъекта административных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных правоотношений (одновременно), в состоянии самочинно принимать процедурные решения подобающей им юридической природы?
Если в ходе оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), проводящихся по розыскному делу, выясняются обстоятельства, предусмотренные пунктом 10 Инструкции, сотрудник оперативного подразделения ОВД (уже верно – С.Б. ), осуществляющий розыск:
-
• составляет рапорт об обнаружении признаков преступления и представляет его на регистрацию в установленном законом порядке (п. 17.1);
-
• передает сообщение о безвестном исчезновении (отсутствии) гражданина вместе с материалами проверки по подследственности в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 145 УПК РФ, о чём уведомляет надзирающего прокурора (п. 17.2).
При возбуждении следователем СК уголовного дела розыскное дело, как правило, прекращается, а ОРМ, объявление гражданина, пропавшего (отсутствующего) без вести, в розыск производятся в рамках оперативно-поискового дела.
Если гражданин, пропавший (отсутствующий) без вести, не был найден, и уголовное дело, возбуждавшееся по этому факту, подпадает под прекращение, следователь СК поручает органу дознания принятие необходимых мер к его розыску. Оперативнопоисковое дело в обсуждаемых ситуациях прекращается, а ОВД (?) заводит розыскное дело.
В приведённом фрагменте Инструкции её составители уповают на то, что следователь СК вправе поручить органу дознания «принятие необходимых мер», под коими, надо полагать, они разумеют ОРМ; это правило предусматривается пунктом 4 части 1 статьи 38 УПК РФ. Так или иначе, но указанные полномочия субъекта расследования несостоятельны в принципе. Во-первых, ОВД в пику узаконениям пункта 1 части 1 статьи 40 УПК РФ неправомерно относить к числу органов дознания. И, во-вторых, с момента принятия российского оперативно-розыскного законодательства (1992-1995 гг.) оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) трансформировалась в самостоятельное направление оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД (полиции), и отпочковалось от досудебного производства, относящегося к прерогативе так называемых органов дознания [4, с. 138-145; 6, с. 2-5, 135-141].
В пункте 21 раздела III Инструкции излагается порядок ведомственного контроля. В нём провозглашается, что персональная ответственность за розыск граждан, пропавших (отсутствующих) без вести, и соблюдение при этом законности возлагается на руководителей ОВД, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности; именно они организуют и координируют действия его властных субъектов, изучают дела оперативного учета (далее – ДОУ), заводимые по фактам безвестного исчезновения (отсутствия) людей, дают указания об устранении выявленных нарушений и недостатков, представляют ДОУ полномочным прокурорам для проверки в порядке, регламентированном статьей 21 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1].
Ведомственный контроль за уголовно-процессуальной деятельностью следователя СК в период проверки сообщения о безвестном исчезновении (отсутствии) людей возлагается на руководителей следственных органов СК России, заслушивающих его, сотрудников оперативных подразделений ОВД (полиции) вкупе с другими должностными лицами, в ней участвующими.
Хочется надеяться, что речь здесь идёт о процессуальной проверке, что чрезвычайно важно для разграничения механизмов внутриведомственного контроля и вневедомственного прокурорского надзора.
Кстати, раздел IV Инструкции о прокурорском надзоре открывается пунктом 25, исходя из требований которого начальники главных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры военных и других специализированных прокуратур, прокуроры городов, районов и других территориальных, военных и иных специализированных прокуратур (далее – представители органов прокуратуры) в пределах своей компетенции призваны:
-
• принимать необходимые меры к систематическому прокурорскому надзору за исполнением законов при рассмотрении сообщений о безвестном ис-
- чезновении граждан, а также положений настоящей Инструкции (п. 25.1);
-
• изучать ДОУ не позднее 10 суток со дня их заведения, а в последующем – с периодичностью не реже одного раза в квартал (п. 25.1);
-
• при наличии в материалах ДОУ или проверки сообщения о безвестном исчезновении (отсутствии) граждан данных, содержащих признаки совершенного в отношении них преступления, выносить сообразно требованиям пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ мотивированное постановление об их направлении в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства (п. 25.3);
-
• рассматривать материалы, указанные в пункте 20 Инструкции, и с учетом обстоятельств, предусмотренных её пунктами 10 и 11, принимать решение о законности и обоснованности передачи сообщения о преступлении по подследственности (п. 25.4).
Представители органов прокуратуры на постоянной основе, не реже одного раза в полугодие, проводят анализ состояния законности при осуществлении розыска граждан, пропавших (отсутствующих) без вести, по результатам которого предпринимают надлежащие меры (прокурорского) реагирования.
Резюмируя результаты исследования, проведенного в рамках настоящей статьи, необходимо заострить внимание на том, что правоохранительные органы Российской Федерации по всем фактам выявляемых случаев безвестного исчезновения (отсутствия) людей, ориентируются, в первую очередь, на проведение административных, оперативных, процессуальных и прокурорских проверок. Однако, эффективность их оперативно-тактического реагирования на подобные сообщения должна выражаться в безотлагательном возбуждении уголовных дел. Подобные процессуальные решения создают правовые основания для выполнения субъектами розыска комплекса ОРМ, следственных (процессуальных) действий и розыскных мер в сочетании с их высокотехнологичным криминалистическим обеспечением.
В то же время обстоятельства, связанные с безвестным исчезновением (отсутствием) людей, могли бы проясняться намного продуктивнее, если бы к соответствующей оперативно-служебной деятельности привлекались детективы оперативно-розыскных бюро, формирующихся на уровне областных (краевых) УМВД Российской Федерации. Такого рода деятельность полезно было бы обустраивать на поисковых (сыскных) началах, а оперативно-розыскные расследования инициировать сразу же после получения первичных сообщений о безвестном исчезновении человека.
Список литературы Отдельные недостатки нормативного правового регулирования оперативно-служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, ориентированной на установление обстоятельств, связанных с безвестным исчезновением (отсутствием) людей
- Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" // Собрание законодательства РФ. 1995. № 3. Ст. 3349.
- Приказ МВД России, Генеральной прокуратуры России и Следственного комитета России от 16.01.2015 № 38/14/5 "Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц" // СПС Консультант Плюс.
- Бажанов С.В. Совершенствование понятийного аппарата стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Академии права и управления. 2012. № 29. С. 31-36. EDN: PXMHPH
- Бажанов С.В. Концепция полицейского дознания: краткий экскурс в историю вопроса // Вестник Академии права и управления. 2013. № 32. С. 138-145. EDN: RSSSKD
- Бажанов С.В. Институт дознания: краткое обозрение советско-российского опыта нормативного декларирования // Вестник Академии права и управления. 2013. № 33. С. 135-141. EDN: QAXHNR
- Бажанов С.В. Влияние структуры Министерства внутренних дел Российской Федерации на формирование уголовно-процессуального понятийного аппарата // Российский следователь. 2013. № 24. С. 2-5. EDN: TFQUVD
- Бажанов С.В. Соотношение формы и содержания в понятийном аппарате российского уголовно-процессуального законодательства // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2020. № 3. С. 29-35. EDN: FMLDDY
- Бажанов С.В., Малахов А.А. Азбучные истины розыскной деятельности // Вестник Академии права и управления. 2020. № 59 (2). С. 14-17. EDN: VRSMTW