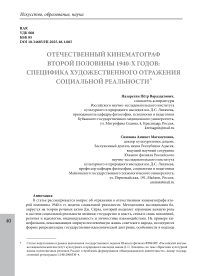Отечественный кинематограф второй половины 1940-х годов: специфика художественного отражения социальной реальности
Автор: Назаретян П.В., Сиюхова А.М.
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Искусство, образование, наука
Статья в выпуске: 1, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос об отражении в отечественном кинематографе второй половины 1940-х гг. модели социальной реальности. Методология исследования базируется на теории речевых актов Дж. Сёрла, который выделяет играющие важную роль в системе социальной реальности явления: государство и власть, семья и связь поколений, религия и идеология, индивидуальность и личностные взаимодействия. На примере кинофильмов, показывающих мирную послевоенную жизнь советского народа, исследуются формы репрезентации государственно-идеологической доктрины, особенности в подходе к родственно-семейным отношениям, к значимым качествам личности и личностных взаимодействий советского образца.
Отечественный кинематограф, малокартинье, социальная реальность, «Первая перчатка», «Весна», «Во имя жизни», «Кубанские казаки», соцреализм, идеология, советская личность, культурный код
Короткий адрес: https://sciup.org/170209174
IDR: 170209174 | УДК: 008 | DOI: 10.34685/HI.2025.48.1.005
Текст научной статьи Отечественный кинематограф второй половины 1940-х годов: специфика художественного отражения социальной реальности
Советское послевоенное кино представляется ярким пластом отечественной культуры, отражающим разные стороны социального бытия и массового сознания огромной страны. В историографии нашего искусства этот период часто называют малокартиньем, т.к. главной задачей советской власти и всего народа было восстановление разрушенного хозяйства, а вопросы производства экономически затратных произведений искусства, в том числе — кинофильмов, хотя и считались идеологически важными, но отодвигались на второй план. Очевидно, это объясняет столь малое количество выпускаемых в год фильмов. При этом, послевоенные советские кинофильмы дают представление о художественных и социальных процессах, происходящих в стране — победительнице в жестокой войне с фашизмом.
Работ, посвящённых анализу фильмов мало-картинья, немного, однако они имеют важное значение для понимания некоторых сторон кинематографического процесса периода их создания. Большинство из них носят искусствоведческий характер. Статья М. И. Косиновой «Советская кинофикация и кинопрокат во второй половине 1940-х годов… «Трофейное кино» — спасение киноотрасли в период «малокартинья» фокусируется на описании процессов восстановления пережившего военную разруху отечественного кинематографа1. А. В. Трофимов в статье «Образы войны, власти, народа в советском кино второй половины 1940-х годов» исследует воплощение концептов войны, советской власти и народа как ключевых составляющих эстетических принципов конкретных фильмов2. Среди работ культу- рологической направленности следует отметить статью З. П. Тининой и С. А. Куликовой «Отечественная историография о советском военном и послевоенном художественном кино», в которой приводится обзор критической литературы о фильмах этого периода и посредством историко-сравнительного метода оценивается их значение в развитии советской культуры и общества3. Е. В. Огаркова в работе «Фронтовое поколение: этика послевоенной повседневности» обращается к использовавшимся стратегиям возвращения населения в условия мирной жизни, новым индивидуальным и коллективным ценностям, принципиальным изменениям в советской культуре4. Духовные аспекты культуры СССР в середине ХХ века и состояния гуманитарных наук в государстве раскрывается в статье Т. А. Булыгиной «Из интеллектуальной жизни советского общества. Духовная атмосфера в СССР после Великой Отечественной войны и общественные науки»5.
Анализ публикаций, посвященных кино и всей социокультурной ситуации в СССР второй половины 1940-х годов, показал, что их количество является недостаточным и не соответствует ценности достижений советской кинематографии в этот период. В ходе изучения научных материалов нами было выявлено также, что социали-
(к 350-летию со дня рождения Петра I). Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Шадринск, 2021. С. 198-203.
стический реализм как единственное официальное направление искусства СССР крайне редко исследуется и описывается через отечественное кино. Кинематограф остался на периферии изучения советской культуры и искусства этого периода, концентрирующего внимание в основном на литературе, музыке, живописи и скульптуре. Возможно, причиной этому стало то, что отечественные фильмы второй половины 1940-х гг. настолько ярко отражали идею преображения страны после победы в войне, что априори не требовали какой-то дополнительной научной аргументации причисления их к магистральному художественному стилю советской эпохи.
В качестве теоретической основы для отражения социокультурной реальности СССР второй половины 1940-х гг. и структурированного восприятия созданного в этих условиях экранного искусства нами была взята модель, базирующаяся на теории речевых актов Дж. Сёрла6, который для понимания сущности модели социальной реальности того или иного общества выделяет имеющие важную роль явления: государство и власть, семья и связь поколений, религия и вера, индивидуальность и личностные взаимодействия.
Среди отечественных фильмов для анализа нами были выбраны произведения, в которых представлена повседневная жизнь социума вне ситуации военного времени, т.к. фильмы на военную тематику естественным образом акцентируют внимание на героизме советского народа, а широкий спектр повседневности социальной реальности остаётся на периферии художественного отражения. В этой связи мы проанализировали кинофильмы, относящиеся к жанрам городской или сельской драмы, а также комедии: «Первая перчатка» (Андрей Фролов, 1946), «Весна» (Григорий Александров, 1947), «Во имя жизни» (Александр Зархи и Иосиф Хейфиц, 1947), «Кубанские казаки» (Иван Пырьев, 1949). Сюжетные фабулы и жанровые особенности фильмов второй половины 1940-х гг. достаточно разнообразны, при этом они дают возможность проследить базовые характеристики элементов советской социальной реальности, воплощённой кинематографическими средствами.
Государство и власть. Взаимоотношения советского государства с его народом редко транслировались в искусстве напрямую, однако зачастую они присутствовали незримо, задавая тон и рамки происходившим в кадре событиям. Так, в «Первой перчатке» мы видим один из фрагментов жизни страны, наполненной активными, заинтересованными в разнообразном труде людьми. Главному герою, отставному военному Крутикову, открываются в мирное время сразу две дороги и каждая по-своему прекрасна: выбирая между боксёрской карьерой и работой в зверосовхозе, между Москвой и Дальним Востоком, между амбициозным тренером Приваловым и простосердечным директором хозяйства Кошелевым, невозможно ошибиться и проследовать к чему-то дурному. Во всех случаях политическая власть обеспечила условия, когда её граждане могут реализовываться в разных профессиональных и творческих направлениях, для этого подготовлены и обширная материально-техническая база (стадионы, ринги, бассейны, парки, железные дороги, квартиры), и идеологическая среда. Остальные компоненты не только социалистического, но и обычного человеческого счастья в таких условиях постепенно выстраиваются почти сами собой.
Ещё праздничнее и оптимистичнее показаны достижения страны в «Весне». Здесь качество и масштаб постановки, сценария, исполнения актёрских работ столь высок, что в сочетании с жанром и темой фильма создают впечатление совершенного государства — то ли утопического, то ли сказочного. Власть столь превосходно организовала жизнь народа, что её в ограничительном и упорядочивающем смыслах как бы и нет — советский человек априори добр, талантлив, харизматичен и находчив, легко перевоплощаясь из учёного в артиста и наоборот, он с постоянным усердием и любопытством предаётся творческому полёту мысли, кем бы ни был и где бы ни трудился. Осуществление мечты каждого из центральных персонажей рифмуется не только с охватом души светлыми чувствами, её подъёмом, с весной в ней, которую должен испытать зритель этой ленты, но и даже с постижением тайны и величия искусства вообще. В фильме «Весна» этого явно удалось достичь кинематографистам, представляющимся одними из ключевых проводников принципов советского правления.
Кинокартина «Во имя жизни», напротив, показывает, что государство не всемогуще. Даже в главных вопросах человеческого существования есть обстоятельства, находящиеся вне его влияния. Но констатируется это в сюжетных примерах картины с большим сожалением и стремлением когда-нибудь всё же подчинить контролю и регулированию каждый аспект жизни граждан, одолев в том числе и сопротивление природы. Справедливость, солидарность, научный прогресс, достижения в труде, семейное благополучие выступают естественными следствиями всеобщей организованности и определённости, а любые сомнения, хаотичность, спонтанность, разрозненность угрожают людям безвластием, вероятностью остаться один на один с безрассудным потоком опасных и изнуряющих событий.
«Кубанские казаки», будучи одним из самых пропагандистски направленных фильмов сталинской эпохи, презентует отношения государства с народом и значимость управленческих иерархий в максимально восхваляющих и оптимистичных тонах. Для весёлой и даже обеспеченной (по тем временам) жизни советские политика, культура и экономика создали идеальную среду, которую регулярно поддерживают и развивают вместе с народом. Всякий человек здесь доволен и благодарен стране, отвечая ей тем или иным наполненным энергией трудом. Любые проявления конкуренции внутри групп (колхозов) и между ними далеки от покушений на всеобщие хозяйственные интересы и сформировавшийся социальный порядок.
Таким образом, власть в упомянутых фильмах, её механизмы, функции, преимущества не артикулируются в конкретных репликах героев или сценарных фрагментах. Можно сказать, что это полагается авторами как ясное, само собой разумеющееся, а значит не несущее в себе никакой художественной проблемы. Да и власть вообще (в широком смысле слова) понимается как привычная фундаментальная добродетель, противопоставленная хаосу волюнтаризма.
Тема семьи и связи поколений получает весьма скромное раскрытие в отобранных нами фильмах. «Первая перчатка» мельком показывает всего две таких ячейки общества: тренера Привалова с женой и чемпиона СССР по боксу Рогова с матерью. В кадре вместе они почти не появляются, а введение в повествование эпизодических героев здесь оправдано только комическими эффектами, сценарной необходимости в этом не было. А та семья, что складывается прямо на наших глазах, так и не оформляется, уступая место в конце плёнки боксёрскому рингу и триумфу Крутикова и Привалова — любовная история отодвигается в сторону, а на первый план выходит торжество характера, пыла, усердия и спортивной славы, возвращая зрителя к названию картины.
«Весна» обращается с данной темой схоже. Семейное положение персонажей не известно, межпоколенческих разногласий нет, а мотивы особых отношений между мужчиной и женщиной разве что иногда проблёскивают сквозь партнёрские, рабочие, творческие.
Более широкий диапазон взаимодействий между советскими гражданами предлагается в фильме «Во имя жизни», гамма простых и свойственных каждому, но очень сильных чувств к близким передана достоверно и служит обоснованием ряда поступков персонажей. Впрочем, ракурс представления сценарных ситуаций отнюдь не бытовой и даже, наверное, не общечеловеческий — публике преподносят драматические аспекты ленты как, главным образом, производственные, следующие из соположения специфики труда учёных-медиков и ценностей, пропагандируемых государством.
Создатели «Кубанских казаков» за весь хронометраж выводят на экран пару десятков селян, но так и не показывают никого, кто приходились бы друг другу родственниками. Можно сказать, кровные связи здесь, как и во многих подчинённых строгой идеологии обществах, вытесняются побратимскими, товарищескими, причём осуществляется это максимально выхолощено (ведь в реальных колхозах, разумеется, проживали и семьями). В произведении Пырьева родительские функции выполняют председатели колхозов, звеньевая и коневод — старшие из сестёр и братьев (по труду), птичницы — троюродные тётки, а все вместе они — огромная социальная ячейка нового типа. Классический союз мужчины и женщины в картине всё же встречается и является даже итогом простирающегося почти всю её продолжительность соперничества молодых парней. Однако данный союз потому и возможен, что не рушит имеющиеся правила и границы, а принимает в потенциальное наследство и укрепляет их, не противоречит коллективным интересам, а сохраняет их баланс (вкупе с образованием в конце фильма ещё одной пары, тоже сулящей переезд невесты из своего колхоза в соседний). Формы традиционной патриархаль- ной семьи выведены за рамки художественных концепций послевоенных фильмов, возможно, в силу наследия в идеологии коммунизма принципов социалистов-утопистов, рассматривающих семью и близкую эмоциональную связь членов семьи как пережиток, бесполезную структуру в культурном, экономическом, общественно-политическом и философском смыслах. Традиционная семья в той или иной мере заменяется коллективом, обществом, народом, совсем иначе воспитывающими, объединяющими и мотивирующими. Социалисты-утописты и их преемники относились к восприятию семьи как элементу системы частной собственности, выражали критику брачной несвободы и идею лишения брака юридического статуса (Ж. Мелье7), призывали к пониманию семьи как системе «домоводческих ассоциаций» (Ш. Фурье8), продвигали архетип новой женщины (А. Коллонтай9). Человек для советской культуры (особенно сталинских времён) — это идеологический субъект, носитель определённых конструктивных установок, обладатель социально полезных качеств, претворитель в жизнь планов государства в лице его властных органов.
Религия и идеология. Будучи страной, где религия находилась под строгим запретом, СССР возвёл в аналогичный статус коммунистическую идеологию, большевизм, веру в естественные и неизменные законы, которые не только предопределяют и объясняют поведение людей, но и движут историей. Поэтому тема религии и веры имеет особое звучание в советской культуре. А в послевоенные годы, когда пропагандируемые ценности получают мощную подпитку в результате победы в Великой Отечественной войне, культура начинает производить по-новому одухотворённые объекты. Например, в кинокартине «Первая перчатка» торжествует вера в универсальность положительных качеств советского человека (только вернувшийся с войны Крутиков и в спорте перспективен, и в совхозе желанный работник, и товарищам предан, и с девушкой благороден), в крепость человеческого тела и характера (усер- дие, закалка, решительность рано или поздно подчиняют себе любые задачи), в предначертан-ность постоянного движения социалистического общества к благополучию всех и каждого (герои регулярно предвосхищают будущее и, уже как бы видя там своё счастье, заняты устранением препятствий на пути к нему).
«Весна» изображает «религиозность» несколько иного порядка, однако её теория и практика тоже узнаваема. Персонажи, сыгранные Любовью Орловой, преданы вроде бы разным сферам — одна погружена в научные разработки и опыты, другая — в искусство исполнения ролей на сцене. Обе по жизни раз за разом соприкасаются с волшебством, мечтают о личном и общественном прогрессе, убеждены в совершенстве окружающего их мира. Режиссёр Громов и журналист Рощин тоже воспринимают своё существование с изрядно наивной непосредственностью, они, подобно догматичным приверженцам конфессий, старательны, настойчивы, самоотверженны и честны, очаровываясь чудесными ситуациями, но не теряя при этом сознательности и рациональности.
Надежды героев ленты «Во имя жизни» устремлены в сторону сакрального значения медицинской науки, возможностей человеческого разума и самоотверженности в деле борьбы с угрозами жизни и здоровью граждан. Следование этому пути таит в себе серьёзные препятствия, раз за разом проверяя силу веры врачей в то, что их поиск способа лечения тяжёлой болезни увенчается успехом. Ставя кажущиеся бесконечными лабораторные опыты, Петров, Колесов и Рождественский будто бы сообщаются с чем-то мистическим, пытаются постичь неуловимую, величественную стихию, которая столь же заявляет хладнокровно о своей тотальности, сколь и даёт прагматические поводы, наоборот, усомниться в своём существовании.
«Кубанские казаки» с большим размахом демонстрируют зрителю фактически программное художественное произведение на тему жизни по заветам современного субститута религии — социализма позднесталинского периода. Экономические достижения южных колхозов, продовольственное и товарное изобилие, пылкая смелость мужчин и игривая кротость женщин, их оптимизм и дружелюбие, талантливая и плодовитая художественная самодеятельность, весёлая конкуренция, в которой априори не может быть проигравших, — кинематографическая модель отражения марксистско-ленинской идеи об образцовом обществе (рае на Земле) в отдельно взятом селении.
Тема религии в строгом смысле этого слова в советском кино принципиально отсутствует, однако рассмотренные нами произведения содержат посылы, мотивы, образы, идеи, свойственные религиозным системам. Разница лишь в том, что твёрдо верят здесь в научный атеизм, заменивший личность Творца общественно-исторической необходимостью, а повседневная деятельность, направленная на построение гармоничного и справедливого мира в объективной действительности, становится альтернативой религиозной подготовке к благостной загробной жизни.
Личность и личностные взаимодействия. Идеологический, порой откровенно пропагандистский характер кинематографа сталинских времён обуславливал на экране принципиальное единение людей, их сознательную и эмоциональную общность, однако это далеко не всегда уплощало героев фильмов, делая их характеры тождественными друг другу или шаблонными, превращая их в функциональные элементы сценариев. В «Первой перчатке» именно незаурядная, волевая личность отставного военного Крутикова создаёт напряжение, бурные метания и в его душе, и во взаимоотношениях с другими персонажами, а мудрость и обаятельноироничный нрав тренера Привалова получают столь много простора для выражения, что меняют жанр картины, превращая её из спортивной драмы в музыкальную комедию про бокс. «Весна» с присущей режиссуре Александрова яркой, голливудской манерой раскрытия образов героев, создаёт богатую галерею харизматиков, в каждом из которых неповторимо сочетаются конформность и самобытность, рациональность и мечтательность, драматические и комические черты. Фильм «Во имя жизни» концентрируется, скорее, на отношениях медиков с коллегами, пациентами, своими семьями, государством, нежели чем на размахе и колорите личностей героев. Талантливых хирургов Петрова, Колесова и Рождественского сложно назвать эффектными, запоминающимися персонажами, они не самостоятельны, а значительно зависят в словах и поступках друг от друга, от нужд науки и здравоохранения, профессионального и человеческого долга, воли случая. До успешного результата долгих месяцев изнуряющей ра- боты добирается только один из врачей, но это отнюдь не выглядит как озарение гения, как неминуемый триумф экстраординарной натуры. Пожалуй, победа над болезнью обеспечилась несколькими чертами характера Петрова (преданность делу, решительность, старательность), распространёнными среди советских граждан, но ценящимися и приносящими пользу лишь при стойком, длительном проявлении, чего как раз и не хватило Колесову с Рождественским. Наконец, «Кубанские казаки» собирают на одном экране спектр темпераментов и типажей, воплощённых истовой актёрской игрой, как бы вторя пышности и многообразию ярмарки, где персонажи знакомятся и проводят вместе почти весь хронометраж. Словно диковинные товары на этой ярмарке, своенравные герои всё равно растворяются в местном изобилии и обретают значение лишь в совокупности с остальными компонентами этого изобилия.
В целом выбранные фильмы следуют традициям мировой драматургии, где герои ярки и запоминающиеся, притягивающие зрительское внимание и обеспечивают развитие сюжетной концепции произведения. При этом, их объединяет идеологическая утилитарность — индивидуальность личности в сталинском кино, её парадоксы и преображения никогда не являются причиной, мерилом или целью повествования. Индивидуальность в том или ином сочетании качеств, прежде всего, выступает средством демонстрации различных санкционированных социокультурной политикой государства человеческих взаимоотношений, их ситуативной конфликтности, последовательного развития и благоприятной для коллектива и общества трансформации.
Таким образом, советское послевоенное кино, к которому корректно отнести и фильмы начала 1950-х гг. (снятые до «хрущевской оттепели»), является не только естественной и важной частью советской культуры и аппарата пропаганды того периода, но и самобытным феноменом, органично сочетавшим приверженность национальному контексту, политике партии со вне-патриотическим, универсальным стремлением творца к ясности изложения, смысловой объёмности образно-повествовательного ряда, гармоничной красоте и предварительно задуманному воздействию на публику. Для достижения перечисленных достоинств советский кинематограф, как и любой иной, должен был соответствовать восприятию современного ему человека и использовать самые эффективные способы и приёмы контактирования с ним. Лучшие из советских лент второй половины 1940-х гг. являются поистине культурным наследием мировой истории искусства и до сих пор расцениваются российскими и зарубежными специалистами как образцы исключительного кинематографического мастерства. Исследуемое кино сохраняет за собой не только экспертное признание, но и народное. Уже более 70-ти лет спустя отечественный зритель проявляет неподдельный интерес к фильмам сталинской поры, легко понимает их и обнаруживает значимые сходства между репрезентацией прошлого и настоящим. Будучи беспрецедентным феноменом, этот кинематограф органично наследует наш культурный код и продолжает длящиеся по сей день магистральные пути трансформации массового сознания так, что в определённом смысле опыт взаимодействия с отобранными для анализа картинами есть у каждого современного гражданина страны.