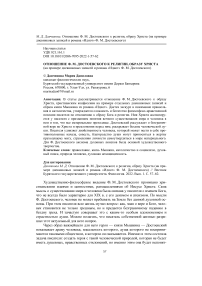Отношение Ф. М. Достоевского к религии, образу Христа (на примере дневниковых записей и романа "Идиот" Ф. М. Достоевского)
Автор: Данчинова Мария Даниловна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается отношение Ф. М. Достоевского к образу Христа, христианским конфессиям на примере отдельных дневниковых записей и образа князя Мышкина из романа «Идиот». Дается экскурс в понимание православия и католичества, утверждается сложность и богатство философско-нравственной позиции писателя по отношению к образу Бога и религии. Имя Христа ассоциируется у писателя с признанием понятия вечного существования мира и человека в нем и тем, что все материальное преходяще. Достоевский рассуждает о безграничной вере во Христа и преклонении перед ним, раскрывает бездны человеческой души. Писателя удивляет двойственность человека, который может нести в себе противоположные начала, совесть, благородство души могут приноситься в жертву преходящему мигу, стремлению личности самоутвердиться в мире материального. Для Ф. Достоевского аксиома духовных поисков была основой художественного творчества.
Православие, князь мышкин, католичество и социализм, духовный поиск, природа человека, духовная незащищенность
Короткий адрес: https://sciup.org/148324338
IDR: 148324338 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Отношение Ф. М. Достоевского к религии, образу Христа (на примере дневниковых записей и романа "Идиот" Ф. М. Достоевского)
Художественно-философское видение Ф. М. Достоевского пронизано христианскими идеями и ценностями, размышлениями об Иисусе Христе. Сама мысль о существовании мира и человека была связана у писателя с именем Бога, что не всегда было характерно для XIX в. с его деизмом и атеизмом. По мысли Ф. Достоевского, человек не может пребывать на Земле без данной духовной основы. При этом писателя всю жизнь мучил вопрос: как, зная о вере и Боге, человек становится не только грешным, но и предается безграничному падению в бездну греха. И зачастую совершает это с каким-то особым вдохновением и страстностью души. Можно полагать, что писатель собственной жизнью разрешал этот актуальный для него вопрос.
Через образ важнейшего для него героя — князя Мышкина — Достоевский показывает драму человека, идеальность которого, душа которого не воспринимаются таковыми обществом, в котором он оказывается. Именно в этом состояла задача писателя: создать героя с такой человеческой природой, которая не будет иметь душевных, нравственных отклонений, но именно этим она будет непонят- на окружающим, более того, не принята ими. Причем последнее не тяготит князя Мышкина, которого не задевает холодное или неприязненное отношение со стороны других героев. Мышкин живет в двух измерениях: в мире своих представлений и в мире других, устремления которых, желания, ошибки, поступки понимает и прозревает. Более того, он стремится найти оправдание их действиям или даже помочь исправить совершенную ошибку. Сама сюжетно-фабульная ситуация романа есть размышление Ф. Достоевского о несовершенстве человеческой природы. И размышления эти базируются на православии.
С этой точки зрения писателю удалось преодолеть временное влияние петрашевцев, которые были настроены критично по отношению к религии. Ф. Достоевский уже тогда нес в себе имя Божье, и это на протяжении последующих лет укоренялось в нем. Об этом свидетельствуют дневниковые записи писателя, его произведения. Так, в этом убеждает следующая запись, в которой Достоевский не видит смысла своей жизни «вне Христа», уверяя, что «…нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа… если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [1, с. 176]. Европейскому утверждению истины как высшего знания Достоевский противополагает факт глубокого проникновенности религией и божественной истиной.
Собственный путь писателя, судьбы молодых людей в России, оказывающихся в тайных кружках наподобие группы М. Петрашевского, зарождение терроризма сначала как идеи, а затем как программы - все это не могло не направлять Достоевского на размышления о судьбе России, народа, основой которых был вопрос: в чем, в ком черпать силы для духовной основы, может ли имя Христа спасти человека.
Достоевский в судьбах персонажей своих произведений буквально проживал как признание, так и отрицание Бога. Это свидетельствует не столько о том, что писатель сталкивал персонажей для остроты конфликта, сколько о том, что практически каждый персонаж Достоевского самостоятелен в разрешении веры в Христа. В этом плане нельзя не прислушаться к М. М. Бахтину: «Слово героя о себе самом и о мире так же полновесно, как обычное авторское слово… Ему принадлежит исключительная самостоятельность в структуре произведения, оно звучит как бы рядом с авторским словом и особым образом сочетается с ним и с полноценными же голосами других героев» [2, с. 3, 8].
Отсюда герои писателя внутренне полярны: одни с Христом, иные без него, веруя в идею о Великом Инквизиторе. Это князь Мышкин, живущий с именем Бога в душе, Кириллов из «Бесов», который представил свою идейную версию о Христе, Иван Карамазов, создатель «Великого Инквизитора» и другие. Кто-то находится на острие нравственной дилеммы, готовый в любую минуту отречься как от себя и родных, так и вообще отвергнуть самую душу и совесть и отдаться на волю бесовства. В любом случае персонажи самостоятельны в отношении к вере, к имени божьему или в отрицании его.
Ф. Достоевский понимал неоднородность христианства и высказал свое отрицательное отношение к католицизму. Князь Мышкин высказывает внешне парадоксальную, но внутренне глубокую и верную мысль о католической церкви:
«Нехристианская вера <…> католичество римское даже хуже самого атеизма <…> Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует <…> По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи <…> Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми <…> чувствами народа, все, все променяли за деньги, за низкую земную власть» [3, с. 565]. Мысль касается католицизма как института церкви и отражает постулат русской православной мысли об искажении католичеством самой сути христианства. Этот вопрос давно поднимался в русском обществе, в том числе и славянофилами.
С точки зрения писателя, стремление католичества разрешить проблему разрозненности народа через усиление власти папы римского является не чем иным, как введением настоящего «раздора» в этом вопросе. Более того, по мысли Достоевского, католичество, проповедуя авторитет папы римского, искажает саму христианскую веру, осуществляет своего рода насилие над духовными помыслами истинных прихожан церкви божией, вносит раздор. Писатель отмечает следующее в дневнике от 1876 г. (март): «Идея их царства - раздор, то есть на раздоре они хотят основать его. Для чего же им раздор именно тут понадобился? А как же: взять уже то, что раздор страшная сила и сам по себе; раздор, после долгой усобицы, доводит людей до нелепости, до затмения и извращения ума и чувств…» [4, с. 260]. Близкие мысли Достоевский вкладывал и в уста князя Мышкина.
Герой с волнением произносит монолог о пагубности воздействия католической церкви на умы людей, особенно молодых, идеями атеизма и социализма: «Ведь и социализм — порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием! Это тоже свобода чрез насилие, это тоже объединение чрез меч и кровь!» [3, с. 565].
В устах князя Мышкина звучит прямое обвинение католичеству, порождающему идеи социализма. Понимание атеизма как ответной реакции на лицемерную религиозную позицию европейской церкви также глубочайшая мысль Достоевского. По убеждению писателя, нет и не может быть, как то делает католичество, насилия во имя добра, любви, единства. Более того, оно опасно тем, что последовательно направляет молодых людей, прельстившихся определенной притягательностью данной идеологии, на неверную дорогу – отказ от истинной христовой веры. Он размышляет в дневнике: «…Не ушла ли огромная часть молодых, свежих и драгоценных сил в какую-то странную сторону, в обособление с глумлением и угрозой…» [4, c. 292].
Как сам писатель, так и герой романа «Идиот» имеют одно общее убеждение: атеизм набирает силу от того, что истинная вера в Христа поставлена под сомнение католической церковью. Это ведет к духовной незащищенности людей. Именно это писатель отмечает в дневнике: «А народ наш так незащищен, так предан мраку и разврату, и так мало, кажется, у него в этом смысле руководителей! Он может поверить новым явлениям со страстью (верит же он Иванам Филипповичам), и тогда — какая остановка в духовном развитии его, какая порча и как надолго! Какое идольское поклонение материализму и какой раздор, раздор: в сто, в тысячу раз больше прежнего, а того-то и надо чертям» [4, с. 262].
По мысли Достоевского, опасность для русского человека кроется в его незащищенности от сил зла тогда, когда они завуалированы под любовь, доброту. Открытость миру, людям мешает разглядеть истинную сущность таких сил — оттого он беззащитен перед этой отрицательной, разрушительной энергией и легко поверит любому новому духовному «руководителю», слова которого будут источать как будто благость и милосердие к ближнему. Подобной открытостью, наивностью, чистотой обладает князь Мышкин, глубоко духовный человек. Герой и мысли не допускает, что он находится в таком кругу, в котором за любезными, сладкими словами любви и внешней доброжелательностью скрывается иное. Поэтому Достоевский и приводит мысль об истинной красоте, которая заключаться должна не во внешности человека, а в его внутренней красоте — в душе.
По мысли писателя, именно такие люди «…сами светят и всем нам путь освещают!» [4, с. 270], это образ «положительно прекрасного человека» [3, с. 396]. Несмотря на «взрослость», герой в поведении, восприятии мира схож с ребенком. Наивного и доброго, его легко обмануть, заставить поверить в самое невозможное, вызвать в нем радостный смех от какой-то мелочи, сказанного как будто доброго слова. Герой сопереживает не только Ипполиту, Настасье Филипповне, другим персонажам, его душа болит от несправедливости по отношению к рядом находящемуся человеку, к любому ближнему или незнакомцу; более того, думает обо всех людях на земле.
Отсюда герои на фоне как будто сюжетного внешнего «бездействия» ведут бесконечные диалоги, делятся многословными монологами, в которых словесные споры оказываются не чем иным, как своего рода острыми мечами, готовыми или разрубить, или защитить идею истинной религии, ее духовной сущности, единства России, настоящей природы русского человека. Так зарождается идея Ф. Достоевского не только о судьбе собственно России, но и мысль о спасении Европы, если она осознает веру во Христа, исходящую от православия.
Оттого так драматично складывается судьба князя Мышкина, что истинная красота души бессильна, беззащитна перед злом социума и мира. Однако спасительная мысль писателя кроется все-таки в том, что подобные князю Мышкину люди на Руси рождаются. Не случайно Г. Померанц отмечает: «Мышкин — чудо, но он порожден не только одним Святым Духом, свыше. Он еще выношен снизу, тоской русского грешника по святости» [5, с. 258]. А если это так, то как народ, так и сама Россия будут спасены от греха католичества, от атеизма, разрушительного начала в социуме, мнимых духовных руководителей. Об этом же свидетельствуют труды Г. К. Щеникова, Р. Г. Назировой [6], В. В. Борисовой [7], А. П. Власкина [8], А. Г. Гачевой [9], С. И. Гессена [10], ряд работ других ученых [11].
В этом роман «Идиот», как и дневниковые записи Достоевского, оставляет надежду на возрождение души русского человека, осмысляющего свой путь в жизни. В образе Мышкина концентрируется мысль писателя о безграничности человеческой души, способной вобрать вселенскую боль сына божьего, искупить грехи человечества. И хотя герой не несет на Голгофу крест, у него в романе свой багаж нравственных испытаний. Все, с кем и с чем сталкивается герой, является окончательной проверкой идеи о судьбе России — с Христом и только с ним, а не без Христа.
Список литературы Отношение Ф. М. Достоевского к религии, образу Христа (на примере дневниковых записей и романа "Идиот" Ф. М. Достоевского)
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 томах. Москва: Наука, 1972–1988. Т. 28, кн. 1. С. 176. Текст: непосредственный.
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1972. Текст: непосредственный.
- Достоевский Ф. М. Идиот. Москва: Эксмо; Тверь: Тверской полиграфкомбинат, 2006. 639 с. Текст: непосредственный.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя / составитель, комментарии А. В. Белова; ответственный редактор О. А. Платонов. Москва: Изд-во Ин-та русской цивилизации, 2010. 880 с. Текст: непосредственный.
- Померанц Г. С. Открытость бездне: встречи с Достоевским. Москва: Советский писатель, 1990. 384 с. Текст: непосредственный.
- Творчество Ф. М. Достоевского: искусство синтеза / под редакцией Г. К. Щенникова, Р. Г. Назирова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 288 с. Текст: непосредственный.
- Борисова В. В. Национальное и религиозное в творчестве Ф. М. Достоевского (Проблема этноконфесионального синтеза): автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Екатеринбург: Б.и., 2000. 33 с. Текст: непосредственный.
- Власкин А. П. Творчество Ф. М. Достоевского и народная религиозная культура. Магнитогорск: Изд-во Магнитогор. гос. пед. ин-та, 1994. 196 с. Текст: непосредственный.
- Гачева А. Г. Русский космизм в идеях и лицах. Москва: Академический проект, 2019. 431 с. Текст: непосредственный.
- Гессен С. И. Борьба утопии и автономии добра в мировоззрении Ф. М. Достоевского и Вл. Соловьева // Гессен С. И. Избранные сочинения. Москва: РОССПЭН, 1999. 812 с. (Приложение к журналу «Вопросы философии»). Текст: непосредственный.
- Ф. М. Достоевский и православие / составитель А. Н. Стрижев. Москва: Отчий дом, 1997. 318 с. Текст: непосредственный.