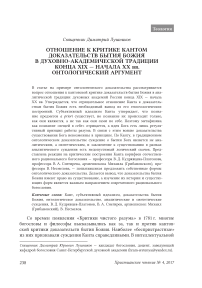Отношение к критике Кантом доказательств бытия Божия в духовно-академической традиции конца XIX - начала XX вв. Онтологический аргумент
Автор: Лушников Димитрий Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (75), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье на примере онтологического доказательства рассматривается вопрос отношения к кантовской критике доказательств бытия Божия в аналитической традиции духовных академий России конца XIX - начала XX вв. Утверждается, что отрицательное отношение Канта к доказательствам бытия Божия есть необходимый вывод из его гносеологических построений. Субъективный идеализм Канта утверждает, что познание предметов a priori существует, но познание их происходит только, как они являются, а не так как они сами по себе. Поэтому метафизика как познание «вещей в себе» отрицается, а идея Бога есть лишь регулятивный принцип работы разума. В связи с этим всякие доказательства существования Бога невозможны в принципе. По Канту, в традиционном онтологическом доказательстве суждение о бытии Бога является не аналитическим, а синтетическим, и заключение к существованию в рамках аналитического суждения есть недопустимый логический скачок. Пред- ставлена реакция на критические построения Канта корифеев отечественного рационального богословия - профессора В. Д. Кудрявцева-Платонова, профессора В. А. Снегирева, архиепископа Михаила (Грибановского), профессора В. Несмелова, - попытавшихся предложить собственные формы онтологического доказательства. Делается вывод, что доказательства бытия Божия имеют право на существование, а изучение их истории и существующих форм является важным направлением современного рационального богословия.
Кант, субъективный идеализм, доказательства бытия божия, онтологическое доказательство, аналитические и синтетические суждения, в. д. кудрявцев-платонов, в. а. снегирев, архиепископ михаил (грибановский), в. несмелов
Короткий адрес: https://sciup.org/140223434
IDR: 140223434
Текст научной статьи Отношение к критике Кантом доказательств бытия Божия в духовно-академической традиции конца XIX - начала XX вв. Онтологический аргумент
традиции — в равной степени западной и отечественной — доказательства бытия Божия стали, в лучшем случае, восприниматься, как некий продукт школьного остроумия, а в худшем — стали почитаться за своего рода нелепость, софизм, интеллектуальная несостоятельность которого очевидна почти сама собой.
Подобное негативное отношение к возможности существования каких бы то ни было доказательств существования бытия Божия можно встретить и в настоящее время, причем у людей, считающих себя причастными к традиции православного богословия. Но история последнего показывает обратное.
Виднейшие представители отечественной богословской науки конца XIX — начала XX вв. профессор В. Д. Кудрявцев-Платонов, профессор В. А. Снегирев, архиепископ Михаил (Грибановский), профессор В. Нес-мелов, профессор С. С. Глаголев, учитывая всеразрушающую критику Канта, видоизменили существовавшие доказательства бытия Божия, предложив собственные формы, показав, что они являются важным дополнением к вере в реальность Божества. Им также принадлежит, бесспорно, исключительное значение в формировании полноценного религиозного мировоззрения.
Прежде, чем приступить к изучению наследия русской аналитической традиции, сформировавшейся в духовных академиях России, следует рассмотреть суть аргументов Канта, опровергающих доказательства бытия Божия.
Отрицательное отношение Канта к доказательствам бытия Божия есть необходимый вывод из его гносеологической системы, которая может быть охарактеризована как субъективный, или критический, идеализм. В своей гносеологии Кант, исследуя нашу способность познания и подвергая ее критике, пытается определить его границы. Вопрос, о котором речь идет у Канта, состоит в следующем: существует ли познание предметов a priori , т. е. из чистого разума? До Канта рационализм отвечал на этот вопрос утвердительно, а именно: путем мышления мы приобретаем абсолютное познание вещей. Эмпиризм, напротив, отвечал отрицательно, утверждая, что познание предметов происходит путем простого восприятия, а, значит, никакого абсолютного познания не существует. Методология Канта такова: он берет то истинное, что находит в обоих противоположных системах, и соединяет в одной концепции. «Связь феноменализма или идеализма с рационализмом является, собственно, характеристической чертой кантовской теории познания;
до сих пор рационализм всегда был реалистическим, в то время как эмпиризм у Беркли1 и Юма2 сделался идеалистическим»3. Кант, с одной стороны, выступает против Юма, который «совсем отрицал какую-либо познаваемую существенность в мире, сводя всю жизнь к потоку мимолетных явлений, когда о фактах вообще не может быть речи»4; с другой стороны — против рационализма Лейбницеанско-Вольфовской системы, стремящейся « a priori обосновать и доказать всю совокупность современных знаний…, самые простые вещи доказать по правилам формальной логики»5. Таким образом, Кант утверждает: познание предметов a priori существует, но происходит только как они являются, а не так, как они суть сами в себе. Предельный скептицизм Юма, отрицающий реальное значение понятий и возможность существования какого-либо знания, в том числе и математического, заставил Канта искать всеобщие и необходимые основания его допустимости. Канту нужно было показать, как возможны науки: чистая математика, чистое естествознание, чистая метафизика. Для этого было необходимо ответить на вопрос: возможны ли в гносеологическом смысле синтетические суждения6 a priori ?
Другими словами, «как суждения, которые не происходят из опыта, и которые не есть логические выводы (не аналитические суждения), приобретают право и достоинство объективного познания синтетических суждений?»7.
Ответ Канта оригинален и достаточно интересен: объективное значение синтетических суждений допустимо, т. к. рассудок сам производит те объекты, о которых высказывается. Он познает предметы a priori, поскольку сам их производит (как это, например, происходит в математике, где объектами являются сконструированные по понятиям чистые созерцания). Но что самое главное, о вещах, как они существую сами по себе, без какого-либо отношения к познающему субъекту, рассудок a priori ничего знать не может. И, поскольку они не входят в наше представление, не становятся явлениями, мы ничего не может узнать о них и a posteriori , а, значит, по Канту «метафизика, если понимать под ней, как это обычно делалось, познание вещей в самих себе, вовсе невозмож-на»8. Согласно гносеологии Канта, в области познания сверхчувственного бытия человек абсолютно бессилен, а построение рационального богословия необоснованно и произвольно, т. к. в представления о Боге вносится много антропоморфизмов.
В данной статье нет необходимости подробно излагать кантовскую структуру процесса познания. Достаточно будет сказать, что на первых двух уровнях познания наша чувственная природа и наш рассудок9 выстраивают представление о временно-пространственном конечном мире явлений10. Третий этап — это работа разума, который «побуждает человека восходить от познанного к непознанному, от действия к причине, не останавливаться ни на чем конечном и условном; таким образом то, к познанию чего направляет разум — есть бесконечное и безусловное, абсолютно непостижимое»11. При этом человек впадает в заблуждение, представляя себе, что та цель, которую ему намечает разум, им достигнута. У него возникают три идеи, которые разум намечает как цель, а человек представляет как реальность: идея души, идея мира и идея Бога, как безусловного и все обуславливающего. При этом для нас важно обратить внимание на идею о Боге, которая у Канта носит чисто методологический характер, т. е. является необходимой для систематизации нашего знания. Говорить же о существовании Бога с точки зрения чистого, т. е. теоретического знания, по Канту не приходится. Кант, хотя и соглашается с тем, что олицетворение идеи Абсолютного есть необходимое действие нашего ума, считает ее необходимой иллюзией, вытекающей из регулятивного значения этой идеи. Поэтому всякие доказательства бытия Божия в принципе невозможны, — они утверждаются на смешении понятий или на произвольном смешении оснований.
Свою критику доказательств бытия Божия Кант начинает с доказательства онтологического, согласно которому всесовершенное существо — Бог — необходимо существует, т. к. в число признаков совершенства входит и реальность бытия. Кант считает, что доказательство делает недопустимый логический скачок от мышления к действительному бытию, от нашего понятия о всесовершенном существе к его реальному существованию. По Канту, из необходимости мысли еще не следует необходимость вещи, и существование вовсе не есть признак ни совершенства, ни несовершенства. Бытие вообще не есть признак, входящий в состав содержания понятия. Оно есть момент совершенно инородный, прикрепляемый извне к логическому содержанию понятия. По Канту, сто талеров существующих и сто талеров воображаемых — математически и логически одна и та же сумма денег. Существенное различие между действительным обладанием ста талерами и мечтой о них не имеет никакого отношения к мыслимому содержанию. Эта мысль не нова, в свое время ее высказывали Гаунило (Gaunilo) (в XI веке, в контексте средневековой парадигмы мышления12), Гассенди (XVII в.13), но именно Кант придал ей наукообразную форму. Он ставит вопрос следующим образом: является ли положение онтологического доказательства о том, что Бог существует, суждением аналитическим, т. е. вытекает ли бытие Бога необходимо из самого понятия о Боге? Если бы суждение, что Бог существует, было бы аналитическим, — продолжает Кант, — то и тогда признание сказуемого было бы необязательно. Когда мы говорим, что Бог существует, то мы говорим, что у нас есть понятие о бытии Бога, и это верно, и отрицать в этом случае признак существования, или, что то же, бытия, было бы противоречием. При этом мы не выходим здесь из среды самосознания. Но когда мы говорим, что Бог существует в действительности, то в этом случае бытие прилагается к Богу как нечто новое, и суждение аналитическое становится синтетическим. По мнению С. Л. Франка, Кант имеет в виду следующее: «Всякое суждение о существовании (экзистенциальное суждение) есть суждение синтетическое, в нем к содержанию понятия подлежащего присоединяется совершенно новый, не заключенный в нем момент: факт бытия, усматриваемый в опыте. Анализ же содержания понятия дают суждения только аналитические, т. е. суждения, перечисляющие признаки подлежащего и потому не выводящие нас за пределы понятия, т. е. чисто гипотетически или идеально принятого содержания понятия. И, следовательно, никогда не могущие вести к утверждению реальности предмета»14. Итак, по мнению Канта, заключение к бытию, к реальности предмета понятия, в рамках аналитического суждения (суждения о признаках) — недопустимый логический скачок.
Отношение к критике Кантом доказательств бытия Божия в аналитической традиции русских духовных школ было разным. Так, представитель киевской школы философского теизма Д. И. Богдашев-ский, — по выражению А. И. Абрамова, «наиболее репрезентативная ее фигура»15, — хотя и считал, что знакомство с кантовской философией настоятельно необходимо как для философа, так и для богослова, и «нельзя произносить слова «философия» и «философский» без глубокого понимания Канта, от которого должно отправляться при создании существенных и основательных философских систем, пусть даже точкой отправления стала бы строгая критика кантовских положений»16, высоко оценивая критику Кантом космологического и физико-телеологического доказательств бытия Божия, критику онтологического доказательства считал одним из самых слабых мест «Критики чистого разума».
Протоиерей Ф. А. Голубинский — основатель московской школы оригинальной русской теистической философии — считал, что критическое отношение к философии Канта может быть полезным. Он полагал, что «следует рассмотреть теорию Канта и что в ней есть верного, и воспользоваться тем, чего недостает, то дополнить, прочее остановить»17. К «прочему» Ф. А. Голубинский относил критику доказательств бытия Божия, считая Канта неконструктивным скептиком, который все разрушил, ничего не создав и не построив.
Другой выдающийся представитель московской школы философского теизма, ученик Ф. А. Голубинского, В. Д. Кудрявцев-Платонов, никак не соглашался с кантовской критикой доказательств бытия Божия, указывая на то, что немецкий мыслитель не оставил никакой возможности для достоверного познания о бытии и свойствах каких-либо объектов вне нашего познающего духа18. В конечном итоге В. Д. Кудрявцев-Платонов, учитывая критику Канта, представил собственное онтологическое доказательство (об этом см. ниже).
Еще один не менее значимый представитель московской школы аналитического теизма С. С. Глаголев, по словам А. И. Абрамова, «обобщил и сформулировал отношение всего духовно-академического философствования к кантовскому наследию»: «Кант сеял пшеницу и плевелы, а лучшей благодарностью учеников к учителю был бы сбор хороших и здоровых пшеничных зерен, и отсеивание ложных и ошибочных пле-вел»19. В сущности, С. С. Глаголев считал, что «многие суждения Канта верны и справедливы, но в своих нравственных суждениях он неправ во многом, а в своих суждениях о религии неправ в существенном»20. При этом С. С. Глаголев, «желая спасти космологическое доказательство от кантовой критики, дал блестящую ему формулировку, обосновав его на последних выводах современной науки»21.
Профессор Санкт-Петербургской духовной академии Н. П. Рождественский, автор одного из лучших курсов основного богословия, «более всех своих предшественников углубился в задачу уяснения научного статуса доказательств существования Бога, пытаясь опровергнуть возражения против них»22. Рассматривая кантовскую критику доказательств бытия Божия, он приходит к выводу, что «доказательства эти не могут считаться лишенными научной состоятельности после критики Канта…, который доказал только, что эти доказательства не имеют того значения, какое приписывали им схоластики в средние века, и некоторые из философов, живших незадолго до него самого, — доказал т. е., что они не имеют такой степени очевидности, какой отличаются, например, математические доказательства»23.
Преемник Н. П. Рождественского по кафедре основного богословия архиепископ Михаил (Грибановский) соглашался с критикой Кантом онтологического доказательства, но, при этом, предложил собственный его вариант. «Мы должны безусловно согласиться с Кантом, — пишет он, — что суждение бытия должно быть синтетическим суждением, — и, следовательно, с его критикой предшествующих ему форм онтологического доказательства. Но мы не можем согласиться с ним, что, разрушая предшествующие ему формы онтологического доказательства, он показал невозможность вообще онтологического доказательства»24.
Божия и бессмертного человеческого духа — следствие намеренной или ненамеренной подтасовки понятий совершенно разных порядков, и вся его критика метафизики на самом деле метафизичнее самой метафизики. Кантова «Критика чистого разума» — бесплодное философское болото»26. Но, тем не менее, В. Снегирев в конечном итоге не отстаивает старую, а предлагает новую форму онтологического доказательства, пытаясь отыскать его основания в самосознании.
Профессор В. Несмелов свое критическое отношение к философии Канта выразил в работе «Вера и знание с точки зрения гносеологии». Он критиковал субъективизм Канта, настаивая на возможности выхода к бытию, к «вечной реальности»27. Разрабатывая заложенный В. Снегиревым антропологический метод богопознания, В. Несмелов дает законченную форму онтологического доказательства, построенную на данных нашего самосознания.
В. Д. Кудрявцев-Платонов, пытаясь парализовать кантовскую критику доказательств бытия Божия, ставит под сомнение основные принципы его гносеологии. Он предлагает отказаться от субъективного идеализма Канта, и «признать, что наше познание имеет не субъективный, а объективный характер, что мы можем познавать не только наше познание, но и саму действительность»28. Таким образом, утверждение реальности нашего познания становится первой посылкой в онтологическом доказательстве В. Д. Кудрявцева-Платонова, которое выглядит следующим образом: «необходимым понятием нашего ума соответствует действительность, но понятие о Боге (в которое как существенный признак входит предикат реального бытия), есть понятие необходимое, следовательно, понятию о Боге соответствует реальный предмет»29. Необходимость идеи о Боге, которая является второй посылкой доказательства, В. Д. Кудрявцев-Платонов обосновывает ее априорностью (независимым от опыта происхождением) и всеобщностью30.
Однако В. Д. Кудрявцев-Платонов сам признает, что слабая сторона его доказательства заключается в нерешенности общей гносеологической проблемы — объективности нашего познания. Первая посылка доказательства принимается лишь как предположение. Что касается истинности второй посылки, то, по мнению критиков, приравнять идею о Боге к категориям, — и этим обосновать ее необходимость, — у В. Д. Кудрявцева-Платонова не получается. «Чтобы приравнять идею о Боге к категориям, нужно доказать ее однородность с ними, нужно доказать, что с уничтожением идеи Бога наше познание разрушается, становится немыслимым, так же, как при отрицании объективного характера ка-тегорий»31. Но у В. Д. Кудрявцева-Платонова это не доказано, следовательно, с точки зрения логики, его вывод, основанный на недоказанных посылках, является сомнительным.
Профессор В. Снегирев утверждает, что, опираясь на данные самосознания, можно если не составить формально-логическое обоснование, то, по крайней мере, наметить направление движения естественной человеческой мысли к признанию бытия Бога. Для В. Снегирева идея бесконечного всемогущего Существа «есть составная часть процесса самосознания, логически необходимая, а потому неустранимая»32. Человек, по мнению В. Снегирева, осознает себя как ограниченное, но мыслящее существо, как личность духовную, действующую свободно, что является основанием для формирования идеи Личности безграничной, всемогущей, реально и вне самого человека и реально сущей. Степень же ясности этой идеи напрямую зависит от степени ясности идеи собственной личности: «ясно, определенно и отчетливо сознается человеком особность собственной его личности и ее свойства, — ясно, определенно возникает представление особности главных свойств Личности бесконечной»33.
Конечно, рассуждения В. Снегирева трудно назвать доказательством в собственном смысле слова. Однако заслуга его в том, что он заложил фундамент будущих исследований, которые нашли свое развитие у архиепископа Михаила (Грибановского) и полное завершение у профессора В. Несмелова.
Согласно В. Несмелову, человек, анализируя свою природу, находит в себе роковые противоречия между своим самосознанием и действительностью. С одной стороны, по содержанию своей физической жизни он сознает себя одним из звеньев мировой цепи вещей, подчиненных механическим законам взаимодействия, сознает свою рабскую подчиненность власти этих законов. С другой стороны, внутри себя, в своем самосознании, он находит себя существом недетерминированным, совершенно свободным от законов механической необходимости.
Это осознание свободы присуще каждому человеку на всех ступенях его развития, и есть отражение самого строя душевной жизни.
Но при этом возникает вопрос: что означает быть свободным от условий механической связи вещей, быть способным начинать новый причинно-следственный ряд, не происходящий из прежних условий и обстоятельств? Это означает осознавать себя безусловным. Отсюда, считает В. Несмелов, следует, что по самосознанию человек определяет себя безусловным. Но в практическом отношении он встречает решительное противодействие со стороны своей физической природы, погруженной в необходимую связь явлений. Здесь человек убеждается в том, что он носит в себе два мира: мир безусловный, и мир условный, физический, которые по природе своей противоположны. Но если одна часть природы человека — условная — указывает на реально существующий мир как на источник своего бытия, то в чем можно полагать основания бытия другой половины — безусловной, по своему содержанию, личности? Физическая природа не может быть ее источником, т. к. все в ней детерминировано, и свободы она не знает. Но если содержание личности не может быть заимствовано из мира физического, логически необходимо допустить, что источником его содержания является объективно существующее безусловное бытие. Таким образом, сознание человеком самого себя в безусловных свойствах своей личности есть утверждение реального бытия безусловной сущности вне человека37.
Приведенные рассуждения профессора В. Несмелова, — которые сам он не называл доказательством существования Бога, — можно охарактеризовать как наиболее убедительные в деле интеллектуального обоснования истины бытия Божия; «метод проф. Несмелова обращает особенное внимание серьезностью своей постановки всякого человека, способного мыслить и тосковать о Боге»38.
В заключение хотелось бы отметить, что для современной западной философской теологии одним из важнейших направлений исследований стало создание и критика современных версий традиционных теистических доказательств существования Бога39, и, по словам С. Дэвиса, «за прошедшее XX столетие было написано множество книг и сотни статей, посвященных теистическим доказательствам»40. Столь интенсивная работа современных западных философов религии еще раз подчеркивает актуальность изучения наследия отечественного аналитического богословия (с его утверждением возможности существования доказательств бытия Божия), в перспективе развития современного основного и рационального богословия, в том числе, в образовательном контексте41.
Список литературы Отношение к критике Кантом доказательств бытия Божия в духовно-академической традиции конца XIX - начала XX вв. Онтологический аргумент
- Абрамов А. И. Кант в русской духовно-академической философии//Канти философия в России. М., 1994. С. 81-113.
- Богдашевский Д. И. Философия Канта. Анализ «Критики чистого разума»и «Критики практического разума». Киев, 1898.
- Вдовина Г. В., Шмонин Д. В. Жизнь и живое в трактатах XVII века «О душе» // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2010. Т. 11. № 3. С. 56.
- Глаголев С. С. Из чтений о религии. Сергиев Посад, 1905.
- Глаголев С. С. Кант//Православная богословская энциклопедия. СПб., 1907.Т. 8. С. 477.
- Голубинский Ф. А. Лекции по философии. М., 1884.
- Дэвис С. Т. Бог, разум и теистические доказательства. М., 2016.
- Карпов К. В. Христианская философия Алвина Плантинги/Аналитический текст: антология Алвина Плантинги. Сост.: Дж. Ф. Сеннет; пер. с англ. К. В. Карпова; науч. ред. В. К. Шохин/Ин-т философии РАН. -М.: Языки славянской культуры, 2014.
- Кудрявцев В. Д. Начальные основания философии. Сергиев Посад,1915.С. 149.
- Кудрявцев-Платонов В. Д. Философия религии. М., 2008.
- Лопатин Л. М. Лекции по истории новой философии. М., 2010.
- Лушников Д., свящ. Основное богословие. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2015.
- Михаил (Грибановский), архиеп. Лекции по введению в круг богословских наук. СПб., 2005.
- Несмелов В. Вера и знание с точки зрения гносеологии. Казань, 1911.
- Несмелов В. Наука о человеке. Том 1.: Опыт психологической истории и критики основных вопросов жизни. СПб., 2000.
- Оренбургский И. Судьба кантовой критики доказательств бытия Божияв русской богословско-философской литературе//Вера и разум. 1909.№ 4.С. 495-509; № 5. С. 604-624; № 6. С. 745-768.
- Паульсен Ф. Введение в философию. М., 1899.
- Рождественский Н. П. Христианская апологетика. Курс основного богословия. СПб., 1893. Том 1.
- Снегирев А. Биография и характеристика ученой деятельности В. А. Снегирева/Снегирев В. А. Психология. Харьков, 1893. С. I-XXV.
- Снегирев В. А. Психология. Харьков, 1893.
- Тихомиров П. В. Имманентная критика рационального богословия. Харьков, 1899.
- Франк С. Л. Онтологическое доказательство бытия Бога//По ту сторону правого и левого. Париж: YMKA-Press, 1972.
- Шмонин Д. В. Схоластическая образовательная парадигма в контексте исторических форм трансляции знания: к постановке проблемы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2013. № 2. С. 32.
- Шмонин Д. В. Богословие образования: контекстный поиск//Христианское чтение. СПб., 2014. № 5. С. 112-134.
- Шохин В. К. Философская теология и основное богословие//Вестник ПСТГУ, 1: Богословие. Философия. М., 2014. Выпуск 1 (51). С. 57-79 DOI: https://doi.org/10.15382/sturI201451.57-79