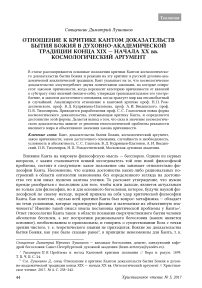Отношение к критике Кантом доказательств бытия Божия в духовно-академической традиции конца XIX - начала XX вв. Космологический аргумент
Автор: Лушников Димитрий Юрьевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 5 (76), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные положения критики Кантом космологического доказательства бытия Божия и реакция на эту критику в русской духовно-академической аналитической традиции. Кант указывает на то, что космологическое доказательство злоупотребляет двумя логическими законами, на которые опирается: законом причинности, когда переносит категорию причинности от явлений к субстрату этих явлений (вещи-в-себе), утверждая трансцедентальное его употребление, и законом достаточного основания, когда трактует мир как несамобытный и случайный. Анализируется отношение к кантовой критике проф. Н. П. Рож- дественского, проф. В. Д. Кудрявцева-Платонова, проф. А. И. Введенского, проф. П. В. Тихомирова. Приводится разработанная проф. С. С. Глаголевым новая форма космологического доказательства, учитывающая критику Канта, и определяется достоинство этой формы. Делается вывод о том, что сила и значение космологического доказательства зависят от решения гносеологической проблемы реальности внешнего мира и объективного значения закона причинности
Кант, доказательства бытия божия, космологический аргумент, закон причинности, закон достаточного основания, случайность и необходимость, условность и абсолютность, с. с. глаголев, в. д. кудрявцев-платонов, а. и. введенский, п. в. тихомиров, н. п. рождественский, московская духовная академия
Короткий адрес: https://sciup.org/140223472
IDR: 140223472
Текст научной статьи Отношение к критике Кантом доказательств бытия Божия в духовно-академической традиции конца XIX - начала XX вв. Космологический аргумент
они утверждаются на смешении понятий, на произвольном смешении оснований и на злоупотреблении логическими законами. Кроме отрицания возможности доказательств бытия Божия, и «две другие идеи Канта — если признать их верными, — могут быть пагубными для христианской веры: это философский агностицизм и отрицание права на веру в чудеса»3. Именно Кант дал толчок к развитию современного агностицизма и деизма.
Как уже отмечалось4, свою критику доказательств бытия Божия Кант начинает с доказательства онтологического, а затем переходит к космологическому и телеологическому, соответственно. Прежде чем перейти к оценке кантовой критики космологического доказательства и реакции на нее в русской духовно-академической традиции, следует кратко сказать об истории этого доказательства для того, чтобы яснее увидеть, с чем именно имел дело Кант. Первая форма космологического доказательства восходит к Аристотелю, который, рассматривая факт движения всего в мире, и, как результат этого, смену мировых явлений, зависимых одного от другого, заключал к существованию первого движения, к признанию «самодвижущего начала», самобытного и вечного начала движения, или, как называл его сам Аристотель, «Перводвижителя» (Primum movens). Подобным же образом рассуждал и Фома Аквинат. Дальнейшее развитие космологическое доказательство получило у Лейбница и Вольфа, у которых понятие изменяемости было заменено понятием случайности, условности, поскольку понятие движения более напоминало о физическом мире, и не простиралось на всю совокупность мирового бытия. Термин «случайность» указывал прежде всего на то, что ни один предмет в мире не имеет самостоятельного существования, а в своем бытии зависит от других причин и условий. Понятие же о первоначальной причине изменения уступило место понятию бытия безусловного, необходимого. Итак, космологическое доказательство ко времени Канта обрело форму следующего умозаключения: если есть бытие случайное, то должно быть признано, как начало всякого рода случайного бытия, бытие абсолютно необходимое, безусловное, существующее само по себе, и лежащее в основе всех этих случайных вещей (natura neccessuria, ens per se, causa sui).
Для Канта космологическое доказательство несостоятельно, так как опирается на доказательство онтологическое, а именно на концепцию необходимого Существа. Но для Канта утверждения относительно существования чего-либо не являются необходимыми. Для него «необходимость есть категория мышления, а не существования. Концепция необходимого Существа не является самоочевидной, то, что необходимо логически, не будет необходимым актуально»5. В своей критике космологического доказательства Кант указал на существенные, по его мнению, недостатки — он находил в нем злоупотребление двумя логическими законами, на которые это доказательство опирается: закон причинности и закон достаточного основания6. Для Канта «категория причинности, приложимая только к явлениям, в доказательстве переносится на субстрат этих явлений (вещи в себе — мир), а затем делается другой скачок, когда утверждается, что причина мира есть существо совершеннейшее — Бог»7. Другими словами, интуиция причинности — это только априорная форма познания на уровне чувственного восприятия реальности, что не означает того, что она распространяется на бытие вещи в себе, на бытие мира. Кант считает, что доказательство опирается на недоказанную посылку, верит в объективное значение закона причинности, и, более того, допускает то, что категория причинности может иметь трансцеденталь-ное употребление, т. е. переноситься из мира опытного в область сверхчувственную.
Злоупотребление законом достаточного основания в доказательстве состоит, по мнению Канта, в трактовке мира как несамобытного, случайного, и потому нуждающегося в причине для своего бытия. Мир как целое в своем единстве вполне может быть мыслим как нечто в самом себе необходимое, в самом себе имеющее достаточное основание своего бытия.
Кроме этого, по Канту, космологическое доказательство в принятую необходимую причину бытия нелогично привносит два предиката: совершенство и представление о бытии личного Бога.
Приступая к рассмотрению отношения к кантовой критике космологического доказательства, следует указать на то обстоятельство, что «никакого единого восприятия Канта, его философии ни в русской философской культуре, ни даже в русской духовно-академической среде не существовало»8.
Профессор Санкт-Петербургской духовной академии Николай Павлович Рождественский (1840–1882), один из корифеев отечественной дореволюционной апологетической мысли, считал, что возражениями Канта «не столько ослабляется истина космологического доказательства, сколько указывается путь к более обстоятельному его разъяснению»9. Рождественский утверждает, что переход из опытного мира в вы-шеопытный для решения вопроса о первопричине мира не является произвольной тенденцией нашего мышления, а один из основных и необходимых его законов: «по необходимому, внутренне присущему нашему уму закону причинности мы вынуждаемся обращаться к вышеопытному миру в тех случаях, когда мир опытный не дает нам никакого удовлетворительного ответа»10. По сути, Н. П. Рождественский постулирует обратное том, что постулирует Кант. Если Кант говорит о факте абсолютного разрыва между двумя мирами, то Рождественский, напротив, утверждает взаимосвязь между ними, обосновывая это желанием сохранить целостность своего бытия и способностью отвечать на волнующие вопросы. Бесконечная регрессия (regressus in infinitum) для него недопустима, так как недостаточность объяснения не является объяснением. На самом деле, для проф. Рождественского опровержения Канта о злоупотреблении законом причинности нет. И дело здесь даже не в самой проблеме причинности, которая образует труднейшую и вряд ли разрешимую проблему логики и гносеологии11, а в нерешаемости в принципе гносеологической проблемы, касающейся реальности внешнего мира. Вопрос стоит о том, насколько допустим перенос категории причинности на вещи в себе. Для Канта возможно лишь приписать вещи-в-себе способность быть причиной, но не утверждать, что ее собственное существование причинно-обусловлено чем-либо. Очевидно, что здесь допускается, что вещь-в-себе просто существует и не нуждается ни в какой причине для своего существования. Другими словами, дилемма о том, касается ли закон причинности только мышления или распространяется на бытие, остается нерешенной. Это обстоятельство, по мнению профессора Московской духовной академии Павла Васильевича Тихомирова (1868–1925), делает ценность космологического доказательства весьма условным. «Состоятельность космологического доказательства обратно пропорциональна состоятельности воззрений на причинность и вещь-в-себе»12.
Критикуя утверждение Канта о возможности существования мира как целого самобытно, Н. П. Рождественский приводит следующие доводы: для существования самобытной материи необходимо наличие свойств самобытности — необходимости существования и неизменяемости. Но, во-первых, в идее материи необходимость существования не заложена, ее легко можно мыслить как несуществующую. Во-вторых, для самобытного бытия необходимо, чтобы способ его существования был неизменя-ем13, но все свойства материи изменяемы, следовательно, и то, что принято называть мировым целым (универсумом) так же изменяемо14.
Но были и такие мыслители, которые поддерживали Канта в вопросе о самобытности мира как целого. Основная идея заключается в следующем: мир следует рассматривать не по его внешним, изменчивым проявлениям, а по его существу как субстанцию. Основой этой мировой субстанции является круговорот явлений и перемен. В постоянном мировом движении обнаруживается изменчивое в неизменном, случайное в необходимом, т. е. неизменной является сама эта изменчивость, и таким образом, существо мира остается неизменным, пребывая само себе равным в изменении форм, и необходимым, потому что имеет основания своих изменений в себе самом15.
Подводя итог апологетике космологического доказательства Н. П. Рождественским, можно сделать вывод о том, что ему не удается преодолеть критику Канта, как и Канту напрочь разбить космологическое доказательство, поскольку оно зависит от решения нерешаемых вопросов: о реальности внешнего мира и о значении категории причинности.
Профессор Московской духовной академии Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828–1891), оценивая силу и значение космологического доказательства, говорил, что оно «само по себе отдельно взятое, доводит только до пантеистического абсолютного, как субстанциональной основы бытия мира, или до стоического представления о Боге как душе мира, находящейся в столь же существенном отношении к Нему, как душа к телу»16. Он полагал, что понятие условного и безусловного не настолько противоположны и несовместимы, чтобы требовать субстанционального отличия Бога от мира. В пределах отдельно взятого космологического доказательства пантеизм остается непреодоленным. Это происходит потому, что «при заключениях от известного к неизвестному мы не имеем никакого права в последнем примышлять какие-либо черты, кроме требующихся выводом. Если космологическое доказательство приводит к признанию самобытной основы мира, то им это только и доказывается — и ничего более»17. Поэтому для Кудрявцева-Платонова космологическое доказательство становится по-настоящему доказательством бытия Божия, когда рассматривается вместе с телеологическим доказательством.
Профессор Московской духовной академии Алексей Иванович Введенский (1861–1913), ученик Кудрявцева-Платонова, очень точно определил слабое место в кантовой критике космологического доказательства. Так, он указал на несостоятельность обоснования Кантом закона причинности, объясняя это тем, что оно «страдает принципиальным паралогизмом, обусловленным двусмысленностью введенных в аргументацию понятий, вследствие чего изложение закона причинности представляется как один сложный софизм»18. Введенский утверждает, что то, что есть положительного и состоятельного в кантовской аргументации закона причинности (а это там несомненно присутствует), не может быть названо специально кантовским19.
В свою очередь, П. В. Тихомиров предлагает логически стройное умозаключение относительно ценности космологического доказательства, учитывая критику последнего Кантом. Он говорит следующее. Во-первых, космологическое доказательство безусловно не доказывает , что а) Бог есть творец мира, б) Он есть существо премудрое, личное, и, как таковое, премирное. Во-вторых, условно доказывает , что Бог есть существо неизменное, необходимое. Условия, при которых возможно это положительное значение космологического доказательства, следующие: 1) реальность мира и возможность его познания, 2) реальное значение закона причинности не только в области феноменов, но и вещей-в-себе. Но, к сожалению, Тихомиров не предлагает собственного варианта космологического доказательства, лишь намечая путь для его формирования, который видит в реализации правильного соотношения пантеизма и теизма, состоящего в примирении имманентности и трансцендентности, что является, по его мнению, самой трудной проблемой теистического учения20.
Новая формулировка космологического доказательства в ответ на кантову критику его была предложена профессором Московской духовной академии Сергеем Сергеевичем Глаголевым (1865–1937)21. Свое доказательство он начинает с анализа отвлеченного понятия случайности и подводит под это понятие конкретное содержание. Вселенная, по Глаголеву, образуется из каких-то начал, которые способны к действию, и способны воспринимать действие. Эти начала множественны, конечны и несамобытны. Они множественны, потому что во Вселенной постоянно происходят изменения, а изменений не было бы, если бы начало было бы одно. Они конечны, и эту конечность Глаголев доказывает следующим образом. Самая маленькая материальная частица, обладающая очень незначительной силой притяжения, тем не менее действует на всю Вселенную, и, значит, сфера ее действия бесконечна, но при этом напряженность ее действия ограничена. Бесконечность сферы действия конечной силы не упраздняет того факта, что сама по себе действующая сила конечна, и напряженность ее может быть выражена конечным числом. Бесконечной же силой мы можем только такую, напряженность которой равна бесконечности. И если бы в мире действовала такая, с бесконечным напряжением, сила, то она парализовала бы все другие силы и все подчинила бы себе. Но такой силы в мире нет, так как напряженность любой силы в каждом отдельном объеме исчисляется конкретными величинами. Таким образом, мир конечен в каждом пункте своего бытия, а, значит, конечен вообще. Возражение, что мир, будучи конечным в отдельных пунктах, бесконечен как целое, как сумма конечных величин, несостоятельно, так как действие этой суммы во всяком пункте должно быть бесконечно. «Ни логика, ни математика не соглашаются с допущением бесконечной силы, разлагающейся на конечные образующиеся элементы, а, значит, те начала, из взаимодействия которых образуется мир, конечны — каждое в отдельности и все в своей сумме»22. И если что-то конечно, то оно должно иметь начало, а отсюда следует вывод, что «мир не существует от вечности, а что не существует от вечности, несамобытно, не может дать себе бытия, следовательно, бытие мира имеет свою причину в ином, Высшем бытии, не связанным с этим миром необходимой связью и не подчиненным ему»23. Здесь Глаголев намечает для себя путь преодоления пантеизма космологического доказательства. Происхождение мира, продолжает он, нельзя представлять аналогичным происхождению различных вещей. Говоря о происхождении, следует разуметь, что бытие — сущность, прежде не существовавшая, которая стала быть. Нельзя понимать, что Высшее Начало образовало мир из Себя, что мир возник путем эманации из какого-то Первого Принципа. Если мир возник через отделение от сущности этого Начала, то мы должны допустить, что Оно разделилось, изменилось, а, значит, Оно сложное, как и наше бытие, и, в свою очередь, произошло от некоего другого Высшего Начала. Но так как regressus infinitum невозможен, остается предположить, что наше бытие произведено бытием бесконечным. Но у бесконечного нет конечных частей. А значит, бесконечное произвело наше бытие, не отделяя от себя части, т. е. не путем эманации, а путем творения. «Изменения в смысле приращения или убавления в бесконечном быть не может, не может в бесконечном происходить перемещения частей, ибо все его части бесконечны, точнее, в нем нет частей. Бесконечное — это полнота бытия, и каждое из его бесконечных свойств всегда существует во всей своей бесконечной полноте»24, заключает проф. Глаголев. Таким образом, анализируя космологическую проблему, он приходит к библейскому учению о творении мира, так же как и проф. Несмелов путем психолого-онтологического анализа нашего самосознания приходит к библейскому учению о человеке как образе Божием.
Оппоненты проф. С. С. Глаголева указывали на то, что предложенная им форма доказательства не является безупречной, имеет условную ценность. Прежде всего «оно дает нам понятие только об онтологических свойствах причины, но не говорит об идеальных духовных свойствах»25. Предполагаемое и требуемое в доказательстве распространение категории причинности на вещи-в-себе, что предполагает некоторую познавательность их сущности, остается у Глаголева недоказанным. Но это слабое место космологического доказательства, пожалуй, навсегда останется непреодолимым, потому что состоит в вере в объективное значение закона причинности и возможности богопознания. Прежде самого доказательства предполагается вера в существование трансцендентного мира.
Таким образом, рассмотрение результатов восприятия кантовой критики космологического доказательства бытия Божия в русской духовно-академической традиции показывает, что эта критика не смогла поколебать само стремление богословов российских духовных школ к самой возможности рациональной работы в деле утверждения христианского мировоззрения. Эта интеллектуальная работа имела не только научное, но и педагогическое значение.26 Более того, можно констатировать, что критика Канта, напротив, способствовала оживлению этой работы, которая нашла свое выражение в выявлении действительных достоинств и недостатков рационального академического богословия конца XIX — начала XX вв. Можно утверждать, что аналитическое наследие духовных школ России данного периода может стать добротным фундаментом для дальнейших исследований в этой области.
Список литературы Отношение к критике Кантом доказательств бытия Божия в духовно-академической традиции конца XIX - начала XX вв. Космологический аргумент
- Абрамов А. И. Кант в русской духовно-академической философии//Кант и филосо-фия в России. М., 1994. С. 81-113.
- Введенский А. И. Закон причинности и реальности внешнего мира. Харьков. 1901.3. Гайслер Н. Энциклопедия христианской апологетики. СПб. 2000.
- Глаголев С. С. Из чтений о религии. Сергиев Посад, 1905.
- Глаголев С. С. Сверхъестественное откровение и естественное богопознание вне истинной Церкви. Харьков. 1900.
- Глаголев С. С. Новое миропонимание. Богословский вестник. 1911. Январь. Т. I. С. 1-42.
- Городенский Н. Закон достаточного основания и закон причинности//Вера и разум 1899. Т II. Ч. II. С. 473-588.
- Круглов А. Н. Философия Канта в России в конце XVIII -первой половине XIX вв. М.,2009.
- Кудрявцев В. Д. Начальные основания философии. Сергиев Посад, 1915.
- Лушников Д., свящ. Основное богословие. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2015.
- Оренбургский И. Судьба кантовой критики доказательств бытия Божия в русскойбогословско-философской литературе//Вера и разум. 1909. № 4. С. 495-509; № 5. С. 604-624;№ 6. С. 745-768.
- Рождественский Н. П. Христианская апологетика. Курс основного богословия. СПб.,1893. Том 1.13. Тихомиров П. В. Проблема и метод Кантовой критики познания//Вера и разум. 1899.Т. II. Ч. II. С. 1-24, 36-64.
- Тихомиров П. В. Имманентная критика рационального богословия. Харьков. 1899.
- Шмонин Д. В. Богословие образования: контекстный поиск//Христианское чтение.2014. № 5. С. 112-134