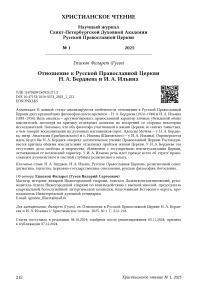Отношение к Русской православной церкви Н. А. Бердяева и И. А. Ильина
Автор: Гусев В.С.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: История философии
Статья в выпуске: 1 (112), 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье анализируются особенности отношения к Русской Православной Церкви двух крупнейших философов своего времени - Н. А. Бердяева (1874-1948) и И. А. Ильина (1883-1954). Цель анализа - аргументировать православный характер личных убеждений обоих мыслителей, несмотря на критику отдельных аспектов их воззрений со стороны некоторых исследователей. Показано, что оба философа участвовали в жизни Церкви, ее святых таинствах, о чем говорят воспоминания их духовных наставников (прот. Алексия Мечёва - у Н. А. Бердяева; митр. Анастасия (Грибановского) и о. Иоанна (Шаховского) - у И. А. Ильина). Опровергается идея, будто бы Н. А. Бердяев отвергал догматическое учение Православной Церкви. Рассматривается критика обоими мыслителями отдельных проблем жизни Церкви. У Н. А. Бердяева это отсутствие духа свободы и творчества; сближение с государством; институализация Церкви, затмевающая ее вселенский характер. У И. А. Ильина речь идет прежде всего об утрате православным духовенством и паствой глубины религиозного опыта.
Н. а. бердяев, и. а. ильин, русская православная церковь, религиозный опыт, догматика, таинства, церковно-государственные отношения, русская философия, богословие
Короткий адрес: https://sciup.org/140309273
IDR: 140309273 | УДК: 1(470)(091)(092):271.2 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_1_212
Текст научной статьи Отношение к Русской православной церкви Н. А. Бердяева и И. А. Ильина
Н.А. Бердяев (1874-1948) и И.А. Ильин (1883-1954) являются одними из наиболее популярных и актуальных мыслителей сегодня. В их наследии поднимается множество различных вопросов, которые не теряют своей актуальности в современную эпоху. Несмотря на то что разные аспекты учения мыслителей достаточно исследованы в научных кругах, отдельный интерес представляет проблема отношения Н. А. Бердяева и И. А. Ильина к Русской Православной Церкви. Стоит заметить, что эта проблема так и не получила однозначного решения в исследовательских кругах. Н. А. Бердяева причисляют то к православным христианам, то к гностикам, то к католикам или вовсе агностикам. Существует и довольно широкий диапазон оценок наследия И. А. Ильина: для одних он православный мыслитель, для других либеральный масон, агент ГПУ или вовсе фашист. Таким образом, возникает необходимость объективного анализа проблемы отношения обоих мыслителей к Русской Православной Церкви.
К вере Н. А. Бердяев пришел уже достаточно поздно, в зрелый период жизни, и остался верующим до конца своих дней. В переписке с Л. Шестовым у Н. А. Бердяева можно встретить следующую фразу: «Моя трагедия не есть трагедия неверия. Это трагедия веры» [Баранова-Шестова, 1983, 290]. В этом важном источнике, проливающем свет на религиозные воззрения мыслителя, раскрывается драма духовной жизни Н. А. Бердяева. Мыслитель искренне признает, что его жизнь протекает в условиях постоянного противоречия между догматическим характером проповедуемого Православной Церковью учения и личными убеждениями. Несмотря на эту амбивалентность, Н. А. Бердяев оставался православным и всегда рассматривал себя как «христианского писателя» [Половинкин, 2017, 142–143]. Именно в христианстве он видел основу всей своей философии, особенно же антропологии, персонализма.
Философская интерпретация христианства у Н. А. Бердяева формировалась в контексте развивающегося в то время «нового религиозного сознания» [Нижников, 2011, 44–46]. Тогда большая часть отечественной интеллигенции, оказавшись вне Церкви, пыталась обрести собственный религиозный путь. Это в той или иной степени коснулось и самого Н. А. Бердяева, духовная жизнь и интеллектуальный путь которого были сконцентрированы вокруг «богоискательства». Идентифицируя себя как православного христианина (его духовным наставником был прот. Алексий Мечёв), Н. А. Бердяев ратовал за пересмотр ключевых богословских положений христианского вероучения. Он был убежден, что «догматическое богословие должно уступить место религиозной философии» (Бердяев, 2015, 89). При этом он не отрицал церковные догматы. Н. А. Бердяев продвигал христианство для интеллигенции, стремясь к преодолению рабских принципов и методов богопочитания. То, что Н. А. Бердяев продвигал «аристократическое христианство», было не следствием какой-либо его гордыни или попытки отделиться от канонической Церкви, но было связано с идеями по развитию творческой православной культуры (см. об этом: [Усманова, 2019, 192]). За свои взгляды философ нередко подвергался критике со стороны церковных иерархов. Так, например, владыка Иоанн (Шаховской) подчеркивал, что главной проблемой мыслителя является тенденция отмежеваться «ложной свободой мнимого творчества от всячески страждущего в мире Тела Христова — Церкви» [Иоанн Шаховской, 1994, 368].
Н. А. Бердяев не пытался отделить себя от Церкви и ее вероучения, отвергая всевозможные претензии в проповеди им ереси. Вот что он пишет по этому поводу: «Я никогда не претендовал на церковный характер моей религиозной мысли. Я искал истину и переживал как истину то, что мне открывалось» (Бердяев, 1991, 185). Тем не менее экклезиологические представления Н. А. Бердяева нередко подвергались критике, прежде всего за умаление роли исторического христианства. Насколько корректно говорить, что философ противопоставлял историческую Церковь мистическому христианству? Для этого стоит обратиться к 10-й главе «Церковь и мир» его «Философии свободного духа». Н. А. Бердяев нисколько не умаляет исторический аспект бытия Церкви, замечая, что «историческая Церковь не покрывает собой всей полноты бытия Церкви, Церкви мистической и потенциальной» (Бердяев, 1994, 174).
Жизнь и развитие Церкви в земной реальности еще не является актуализацией ее вселенскости, которая превосходит, по Н. А. Бердяеву, всевозможные исторические разделения и схизмы.
Н. А. Бердяев критикует Русскую Православную Церковь за ее запреты, направленные против свободного обсуждения церковных проблем. К примеру, когда настал пик имяславских споров, мыслитель выступил в печати с критикой репрессий, которые Св. Синод осуществлял по отношению к последователям имяславия, преимущественно к афонским монахам. Важно отметить, что сам Н. А. Бердяев не разделял взгляды имяславцев и не выступал против синодальных богословских постановлений (Бердяев, 1913, 622-635). Он был противником всяких насильственных действий, выступая за открытый диалог, направленный на разрешение конкретных богословских проблем. Тем не менее газета, в которой была опубликована статья мыслителя, была изъята, а против него было развернуто судебное дело, прекращенное в связи с революционными событиями 1917 г.
Аналогичная ситуация случится позже. В 1935 г. Синод Русской Православной Церкви откроет дело против софиологического учения о. С. Булгакова. Месяц спустя будет опубликовано постановление Архиерейского Собора Зарубежной Церкви, не просто осуждавшее богословие о. Сергия, но в случае его нераскаяния объявлявшее определенные санкции (см. об этом: [Козырев, Климов 2016, 217]). Как и в случае с имяславцами, Н. А. Бердяев выступал против угроз, направленных на пресечение свободного течения религиозно-философской интуиции. Богословские проблемы, по его убеждению, надлежит разрешать с помощью не репрессий, но открытого диалога.
По убеждению Н. А. Бердяева, в основе жизни и деятельности Православной Церкви должен лежать «дух свободы», чему посвящена его статья «Свободная Церковь». Христианская свобода совести должна быть не одним из формальных принципов церковного бытия, но онтологической основой существования Церкви (см.: (Бердяев, 1917, 29)). В этой же работе Н.А. Бердяев критикует Церковь за чрезмерное сближение с государственной властью: «Церковная свобода лучше обеспечивает духовное торжество Церкви в мире, чем прикованность Церкви к государству и пользование орудиями государства в делах Церкви» (Бердяев, 1917, 30). Особенно неприемлемо для Н. А. Бердяева, когда государство вмешивается в творческий процесс свободных богословских дискуссий. Свободная Церковь должна содействовать творческому развитию человечества, ставить перед ним новые задачи и отвечать на проблемы современного ей культурно-исторического контекста. Православной Церкви необходимо преодолеть пафос ортодоксии, основанный на властвовании и постоянном давлении со стороны священноначалия. Она должна пойти по пути свободы и творчества, позволяющему раскрыть в ней полноту соборности, а также сформировать подлинное церковное сознание.
Интересно обратить внимание на отношение к Церкви И. А. Ильина — еще одного известного отечественного философа, учение которого обретает популярность в современную эпоху. Как и Н. А. Бердяев, он воспринимал себя православным мыслителем. Пневматическая актология, в рамках которой он ссылается как на Священное Писание, так и на святоотеческое наследие, маркирует ядро его религиознофилософского наследия.
Однако каково было реальное отношение И. А. Ильина к Православной Церкви? Мыслитель был убежден, что лишь в христианстве человек может стать сопри-частен подлинному религиозному опыту. Отсюда проистекает ключевая задача Церкви — привести к вере все те силы, под воздействием которых общество отвернулось от православия. К таковым силам И. А. Ильин относит научное знание, государственную власть, искусство и хозяйство (см.: (Ильин, 2023, 339)).
Мыслитель отмечает роль Православной Церкви в отечественной истории и, в частности, в становлении российской государственности и национального самосознания. И. А. Ильин подчеркивает: из православной веры у русского народа выросла уверенность, что сакральное начало составляет квинтэссенцию жизни и что «без священного жизнь становится унижением и пошлостью» (Ильин, 1995, 187-188). Тяготение к высшему началу, Царствию Небесному является частью сущности души русского народа, которая, по словам мыслителя, «вечно прислушивается к поддонным колоколам Китежа…» (Ильин, 1995, 189). Именно православная вера научила русское общество освящать молитвой каждое действие, каждый момент своей жизнедеятельности.
По И. А. Ильину, Православная Церковь играет ключевую роль в духовнонравственной жизни и развитии общества. Восточно-христианская аскетическая традиция вложила в сердце русскому человеку и народу искреннее ощущение совести — естественного внутреннего нравственного закона, понимание сущности греха и его опасности для духовной жизни, чувство сердечного покаяния, а также объективное разграничение всякого добра и зла (см.: (Ильин, 1995, 189)). Подчеркиваются им и факторы влияния Православной Церкви на государство: ответственность правителя перед народом (равно как и наоборот), самообладание представителей власти, а также управление крупным государством в условиях братства, справедливости и лояльности. И. А. Ильин был абсолютно убежден, что именно Русская Православная Церковь смогла выработать органичную модель взаимодействия с государственной властью (см.: [Кудрявцев, 2013, 144]). Мыслитель постоянно обращает внимание на идеал церковно-государственной симфонии, предполагающий творческое синергийное взаимодействие в этом мире в Божественном домостроительстве: «Церковь учит, ведет, наставляет, советует и помогает: укрепляет, благословляет и очищает, но не посягает, не властвует, не повелевает и не порабощает... Она — власть, но не от мира сего; она духовник и ангел-хранитель. А государство — бережет, обороняет, покоит Церковь и предоставляет ей все необходимое; проверяет себя голосом Церкви, ищет совета, духовного умудрения и совестной чистоты» (Ильин, 1995, 190). Одновременно светская власть не должна как-либо вмешиваться во внутреннюю жизнь Православной Церкви или навязывать ей свои правила.
Примечательно, что на раннем этапе творчества И. А. Ильину присуще было довольно либеральное отношение к Церкви. В дневниковых записях 1905 г. он, например, выступает против наложенного Св. Синодом запрета на чтение наследия Ренана, или, например, рассматривает таинство Брака как «ненужную обрядовость» (Ильин, 1999, 78).
Первая мировая война и случившаяся в России революция заставили И. А. Ильина сделать поворот в сторону консерватизма. Он критикует так называемую «советскую Церковь», которая рассматривается им как «учреждение тоталитарного строя Советского Союза, ушедшее от евангельских заветов и чистоты учения и служащая целям безбожных властей». В статье «О „богоустановленности“ советской власти» он выражает опасение, что жизнь и деятельность Православной Церкви контролируется «сатанински вдохновляемым» советским режимом (Ильин, 1936, 5).
В постреволюционную эпоху наблюдается основательное расхождение между И. А. Ильиным и прочими представителями отечественной философской мысли. Особенно это касается тех, кто заострял внимание на необходимости проведения в Церкви серьезных реформ, соответствующих духу времени. Речь идет о том же Н. А. Бердяеве, А. Д. Оболенском или, например, Ф. А. Степуне. Яркие споры разгорелись в 1925 г.
после выхода в свет книги «О сопротивлении злу силою», которая породила множество различных оценок. Н. А. Бердяев критиковал изложенные в ней идеи, замечая, что взгляды И. А. Ильина на возможность подавления зла с помощью силы (в том числе и в церковной среде) противоречат природе Церкви. Вместе с тем данный труд встретил положительные отзывы, особенно со стороны некоторых священнослужителей РПЦЗ. Воззрения И. А. Ильина разделялись, например, митр. Антонием (Храповицким), еп. Тихоном (Лященко) (см. об этом: [Никифоров, 2010, 349–350]). Активно поддерживал идеи русского философа один из его ближайших друзей — митр. Анастасий (Грибановский).
В трудах, относящихся к позднему периоду интеллектуальной биографии И. А. Ильина, уже нет той критики, которая была ему присуща на первых порах. Мыслитель уже не критикует институциональный характер бытия Церкви, не умаляет значение таинства Венчания. Он уже не выступает с призывами к проведению внутрицерковных модернистских реформ и преобразований, понимая роль устоявшегося уклада и традиции, которые складывались в православии на протяжении нескольких столетий.
Более того, в эмиграционный период своей жизни И. А. Ильин активно и сознательно участвует в церковной жизни: посещает богослужения, приобщается к святым таинствам. Этот аспект биографии мыслителя достаточно сильно сокрыт, что дает повод некоторым исследователям отрицать то, что И. А. Ильин был православным христианином. Однако сохранившиеся свидетельства современников (например, владыки Иоанна (Шаховского)) демонстрируют, что И. А. Ильин был вовлечен в сакра-ментологическую жизнь Церкви. Одновременно вместе со священноначалием и духовенством РПЦЗ он активно обличал советскую политику и крайне резко критиковал концепцию «богоустановленности» советской власти.
То, что И. А. Ильин критиковал в Церкви на протяжении всей своей интеллектуальной биографии, — это утрата духовенством и прихожанами глубины религиозного опыта, составляющего основу экклезиологического бытия и сердцевину духовного развития православного христианина. И. А. Ильин был убежден, что подлинная церковная жизнь и религиозная философия проистекает от единого корня — живого чувства Бога, основанного на религиозном опыте.
Заключение
-
Н. А. Бердяев и И. А. Ильин вошли в историю отечественной философской мысли как православные мыслители. Оба они выделяли роль вероучения Церкви, а также ее значение для государства и общества. Н. А. Бердяев и И. А. Ильин вели церковный образ жизни, участвовали в святых таинствах, о чем свидетельствуют воспоминания их духовных наставников (прот. Алексия Мечёва — у Н.А. Бердяева; митр. Анастасия (Грибановского) и о. Иоанна (Шаховского) — у И.А. Ильина). Ни один из них не выступал с критикой догматических положений православия. Н. А. Бердяев отмечал лишь, что в основе жизни и деятельности Православной Церкви должен лежать «дух свободы», а вселенскость Церкви не должна быть ограничена историческим измерением церковного бытия. Однако если Н. А. Бердяев критикует Русскую Церковь за ее тесное сближение с государством, то И. А. Ильин, напротив, свидетельствует о выработке органичной модели церковно-государственных взаимоотношений в отечественной истории. Н. А. Бердяева не устраивали также следующие проблемы Русской Православной Церкви: подавление с помощью репрессий и содействия государственной власти свободного течения богословской мысли, отсутствие «духа свободы» (как на уровне священноначалия, так и на уровне паствы). И. А. Ильин отличался на раннем этапе творчества довольно либеральными взглядами, выступая за необходимость проведения модернистских реформ внутри Церкви, а также, например, отрицал сакраментальный характер таинства Венчания (рассматривая его как формульную и ненужную обрядовость), но на позднем этапе биографии он делает поворот
в сторону консервативных позиций. Признавая роль Русской Церкви в истории развития российской государственности и духовной жизни народа, на протяжении всей жизни И. А. Ильин был обеспокоен главной проблемой — утратой православным священноначалием и паствой глубины религиозного опыта, являющегося основой бытия Церкви и живого чувства Бога.