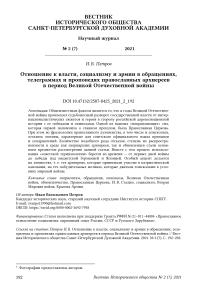Отношение к власти, социализму и армии в обращениях, телеграммах и проповедях православных архиереев в период Великой Отечественной войны
Автор: И.В. Петров
Журнал: Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии @herald-historical-society
Рубрика: Русская Церковь в годы Великой Отечественной войны
Статья в выпуске: 2 (7), 2021 года.
Бесплатный доступ
Общеизвестным фактом является то, что в годы Великой Отечественной войны произошел судьбоносный разворот государственной власти от интернационалистических сюжетов и героев в сторону российской дореволюционной истории с ее победами и символами. Одной из важных «направляющих» сил, которая первой напомнила о славном прошлом, была Православная Церковь. При этом во фразеологии православного духовенства, в том числе и епископата, остались мотивы, характерные для советского официального языка призывов и поздравлений. Количество подобного рода отсылок, степень их распространенности в среде как патриарших архиереев, так и обновленцев стали основным предметом рассмотрения данной статьи. Вместе с тем процесс использования «советской терминологии» берется во времени — от первых дней войны до победы над нацистской Германией и Японией. Особый акцент делается на личностях, т. е. тех архиереях, которые принимали участие в патриотической кампании, на тех побудительных мотивах, которые двигали епископами в условиях мировой войны.
Патриотизм, обращения, епископы, Великая Отечественная война, обновленчество, Православная Церковь, И. В. Сталин, социализм, Вторая Мировая война, Красная Армия
Короткий адрес: https://sciup.org/140262096
IDR: 140262096 | DOI: 10.47132/2587-8425_2021_2_192
Текст научной статьи Отношение к власти, социализму и армии в обращениях, телеграммах и проповедях православных архиереев в период Великой Отечественной войны
Candidate of historical sciences, senior researcher at the Institute of History, Saint-Petersburg State University.
^e article was prepared with the ^nancial support of the grant RFFI № 21–011–44084 «Orthodox comprehension of socialism: ecclesiastical experience of Russia, the USSR and Russian émigré community».
В современной российской историографии укоренилось мнение о том, что с момента нападения нацистской Германии на Советский Союз Православная Церковь в лице Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородско-го) занимает патриотическую позицию и отбрасывает все прежние обиды, для того чтобы помочь обществу сплотиться и оказать отпор коварному врагу. Одновременно с этим гораздо меньше внимания уделяется аспекту способов такой поддержки, вокабуляра, с помощью которого церковные иерархи высказывали свою четкую позицию по отношению к начавшейся войне. Чаще всего историки останавливаются на возвращении в государственную идеологию патриотических черт, характерных для дореволюционной России, взамен многих революционных символов, которые господствовали после прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. Однако данная концепция верна лишь отчасти. Как в глоссарии официальной идеологии, так и в заявлениях и обращениях представителей Православной Церкви продолжали фигурировать «марксистские приемы», особое место уделялось датам коммунистического календаря, который, как может показаться нам сейчас, не должен был использоваться представителями гонимых христианских конфессий. При этом не следует абсолютизировать эти обращения и уж тем более делать с их помощью выводы о идейном сталинизме церковных иерархов (лучше всего эту проблему в одной из своих работ изучил петербургский историк Сергей Львович Фирсов1).
Какие документы в наибольшей степени помогут нам разобраться в степени использования православным епископатом «марксистских тезисов»? В одной из работ автора этих строк уже приводился достаточно подробный анализ «языка» обращений православного епископата на момент начала Великой Отечественной войны применительно к Ленинграду2. Проводили доскональный анализ, в том числе с привлечением всего спектра опубликованных и неопубликованных документов, и другие авторы3. Самыми известными в данном случае документами стало обращение самого митрополита Сергия (Страгородского), вышедшее в первый день войны и обращение митрополита Ленинградского Алексия (Симанского) от 26 июля 1941 г., вошедшее в анналы истории как обращение «Церковь зовет к защите Родины». Справедливости ради необходимо отметить, что в обоих документах доминантой являются исторические сюжеты, а также сравнения современных авторам событий с завоевателями прошлого, как конкретными — например, Наполеон Бонапарт или Карл XII, — так и абстрактными, например, с «Миром Римским».
Обращение лидеров обновленчества носило схожий характер, с той лишь разницей, что упоминаний о «социализме» в нем было в разы больше. Первоиерарх обновленческой церкви «митрополит» Виталий (Введенский) и его заместитель и однофамилец, профессор богословия Александр Введенский говорили о «священном долге» защиты Родины каждым гражданином, заявляли, что долг этот одновременно является и долгом христианским. Они вспоминали такие достославные моменты и личности отечественной истории как благословение преподобным Сергием Радонежским монахов Пересвета и Осляби перед Куликовской битвой, трагическую судьбу патриарха Ермогена — по преданию, замученного интервентами в период Смутного времени, — святого благоверного князя Александра Невского, Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, страстотерпцев князей Бориса и Глеба… При этом СССР назывался в обращении страной, борющейся за «мирное строительство», государством, которое выступало против войны и пролития крови. Именно мирная политика была, согласно обновленческим лидерам, залогом того, что СССР не участвовал во Второй мировой войне, полыхавшей с 1939 г.4
Особый жанр, помимо обращений, с помощью которого можно проанализировать «советский» вокабуляр православных епископов в период Великой Отечественной войны — телеграммы, направленные в адрес И. В. Сталина. Лидеры Православной Церкви продолжали поздравлять Сталина с советскими праздниками, восхваляя и преувеличивая заслуги вождя как военного и государственного деятеля. 7 ноября 1942 г. митрополит Сергий (Страгородский) в телеграмме Сталину писал: «В день 25-летия Советской Республики, от имени нашего духовенства и всех верующих православной русской церкви, верных чад нашей родины, сердечно и молитвенно приветствую в Вашем лице богоизбранного вождя наших воинских и культурных сил, ведущего нас к победе над варварским нашествием, мирному процветанию нашей страны и светлому будущему ее народов. Да благословит Бог успехом и славою Ваш великий подвиг за родину»5.
Еще одним православным религиозным лидером СССР, поздравившим в своей телеграмме И. В. Сталина, М. И. Калинина и Л. П. Берию с 25-летием прихода к власти большевиков, стал Католикос Грузинской Православной Церкви Каллистрат (Цинцад-зе). Он, в частности, отмечал 7 ноября 1942 г.: «В день двадцатипятилетия советской власти приношу Вам вместе с верующими и культослужителями всего католикосата сердечное поздравление с знаменательным днем и прошу имеющего в руке своей силу и могущего продлить жизнь Вашу, на многие годы сохранить крепость духовных и телесных сил Ваших, даровать вскорости лицезреть сокрушение хребта врага и очищение от него священных пределов отечества нашего»6.
Телеграмма Александра Введенского, носившего с октября 1941 г. титул «Первоиерарха Православных церквей в СССР» и вовсе носила подобострастный характер: «…Мы знаем, что мозгом, сердцем и волей Красной Армии являетесь Вы, Иосиф Виссарионович. Само имя Ваше — есть знамя победы над неправдой. Пусть же незакатным солнцем сверкает Ваша жизнь на счастье и свободу чтящей любящей Вас отчизны. Святая церковь поет молитвенно Красной Армии многие лета, великому вождю ее многие лета»7. Приурочена телеграмма была, как видно из приведенной цитаты, к очередной годовщине РККА. Уже в нескольких словах можно видеть, что в большей степени лидер обновленцев восхваляет не только и не столько простых солдат и офицеров, сколько фокусирует внимание на подвигах главного адресата и читателя телеграммы — Иосифа Сталина.
Справедливости ради следует подчеркнуть, что и обновленческие лидеры выпускали менее политические ангажированные обращения. Обратимся к 1942 г., когда ключевую роль в иерархии обновленцев играл уже Александр Введенский. Как пишет С. Л. Фирсов, в конце лета 1941 г. владыка Виталий (Введенский) не владел ситуацией и по «совету из вне ушел на покой»8. Первоиерарх обновленцев Александр (Введенский) проживал на тот момент с детьми от второго брака и третьей женой в Ульяновске. Так, 23 июня 1942 г., в годовщину начала войны, митрополиты Александр и Виталий (указан уже такой порядок) делали основной акцент на том, что война является «Отечественной», что она сплачивает все народы, населяющие СССР, в первую очередь славянские, на праведность сопротивления коварному врагу, а также на необходимости продолжения сбора средств в помощь фронту9. Более того, в ряде случаев обновленцы блестяще справлялись с включением церковных праздников в календарь слегка подзабытых за годы большевизма памятных дат дореволюционной России.
Так, поздравляя верующих с Пасхой 1942 г., которая выпала на 5 апреля, обновленческий первоиерарх вспомнил о Ледовом побоище 1242 г. (ровно 700 лет) и о святом благоверном князе Александре Невском. Ни слова не было сказано в документе о власти, Сталине, упомянуты были лишь Родина и Армия, а также патриотический долг каждого верующего жителя страны10. В центре послания — грядущая победа Креста над свастикой, христианского мира над Гитлером, который, по мысли «митрополита» Александра (Введенского), утверждает, что «христианство не удалось, оно не годится для будущего мирового прогресса»11. В дальнейшем две линии: национально-патриотическая, с одной стороны, и «партийно-советская», с другой, будут сочетаться в посланиях обновленческих архиереев. Иногда в их языке можно было найти такие ловкие изобретения как характеристика 7 ноября «митрополитом» Александром (Введенским) в качестве «национального праздника 12

Протоиерей Сергий Румянцев советского народа» .
(1903–1977). Архив АСПбЕ Не отставали от лидеров обновленчества и местные архиереи. Наиболее знаковой фигурой, на наш взгляд, является Сергий (Румянцев), «епископ» Ладожский, временно управляющий Ленинградской епархией. Епископ Сергий, как нам кажется, сегодня забытый в качестве обновленческого архиерея, в начале войны был председателем приходского совета Николо-Богоявленского собора и, казалось, не помышлял об уклонении в обновленчество и уж тем более об епископском сане. Однако в 1943 г. Сергий Румянцев — уже обновленческий пресвитер, а чуть позже и епископ13. После своей архиерейской хиротонии, прошедшей в столице СССР, епископ Сергий вернулся в город на Неве и выпустил по случаю второй годовщины начала войны проникновенное послание обновленческим верующим Ленинграда. В этом документе новоявленный архиерей сумел совместить упоминания таких деятелей российской истории как Петр Великий, Кузьма Минин, Александр Суворов, Павел Нахимов с уверениями верующих в скорой победе над врагом. Примечательно, что в тексте послания епископ Сергий напрямую заявил, что после победы наступит «великая правда жизни», под которой он понимал «воссиявшую 25 лет назад» в России большевистскую революцию14. Впоследствии, правда, осознав изменения церковно-государственных отношений и почувствовав потепление советских властей к сторонникам митрополита Сергия (Страгородского), епископ Сергий (Румянцев) в июле 1944 г. принесет покаяние и продолжит священническое служение в качестве рядового ленинградского приходского священника в юрисдикции Русской Православной Церкви15.
Еще одним видным обновленцем, прославившимся в «искусстве» обращения к государственной власти, стал митрополит Свердловский и Ирбитский Филарет (Яценко). Примечательно, что до Великой Отечественной войны обновленческий архиерей носил титул архиепископа (с 1935 г.), находился на покое много лет, и только с 1942 г. стал архиепископом Свердловским и Ирбитским, а в январе 1943 г. был возведен в сан
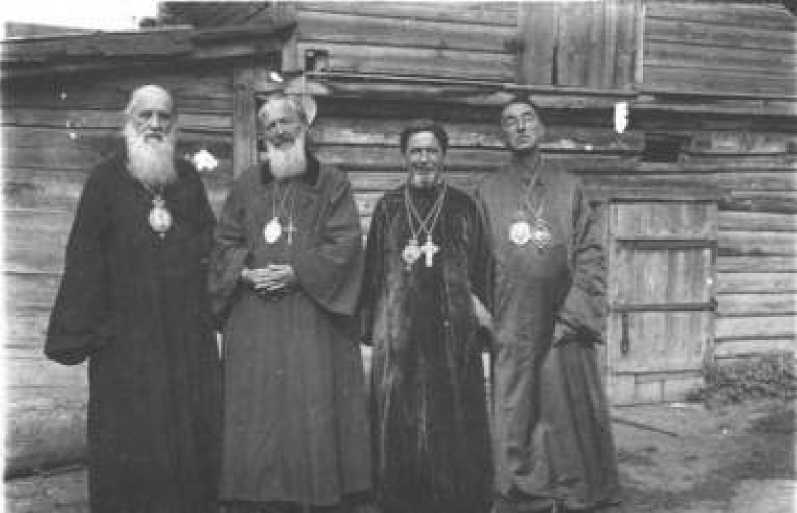
Обновленческие епископы во время эвакуации в Ульяновске митрополита16. Последовательный и стойкий сторонник обновленчества, в дальнейшем не желавший идти на уступки патриархам Сергию (Страгородскому) и Алексию (Симанскому), в своих обращениях в адрес Сталина он умело соединял подобострастное отношению к советскому лидеру с выражениями советского новояза: «…Уверенно питаем надежду в полном разгроме ненавистного фашизма и освобождении дорогой нашей Родины от капиталистического страха и внесения успокоения в сердца страж-дующего человечества мира. На тебя устремлены взоры великий и мудрый вождь как народов нашего отечества так и зарубежных стран. Оправдай же чаяние народов для чего да сохранится на долгие годы твоя драгоценная жизнь дабы ты избранник вождь сам мог при склоне лет насладиться плодами создающегося под твоим верным водительством будущего счастливого жития всего человечества»17. Как видим, у этого митрополита нацистский режим представлен не только как злобный враг, но и как капиталистическая страна, с которой следует воевать в том числе исходя из постулатов марксизма-ленинизма. «Страждующее» же человечество видится митрополиту Филарету в будущем освобожденным от этого страха, видимо, под солнцем сталинского социализма. Любопытно, что в некоторых своих обращениях и телеграммах митрополит Филарет (Яценко) называл себя главой «Уральской Обновленной Церкви18.
В период Великой Отечественной войны с некоторыми епископами произошла удивительная трансформация. Из сторонников советской власти они, по причине своего вынужденного пребывания на оккупированной территории, превращались в ее активных критиков, а затем снова были готовы рапортовать властям о своей покорности и приверженности патриотизму. В большинстве своем подобная линия поведения была характерна для обновленческого епископата, который в предшествующие два десятилетия готов был постоянно лавировать и исполнять практически любую задачу, поставленную государстве нными властями. В годы войны перед частью
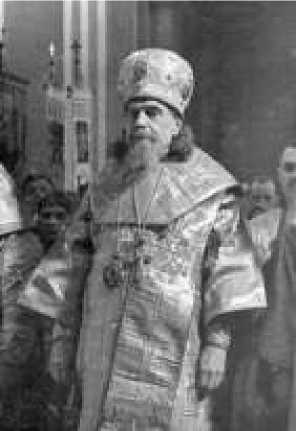
Архиепископ Фотий (Топиро) (1884–1952)
епископата встала дилемма «выбора пути». Так, одни должны были определиться со стратегией поведения в условиях нацистской оккупации, ведь немцы и их союзники вполне справедливо считали обновленцев своеобразной церковной «пятой колонной» внутри российского Православия. Другие, понимая, что симпатия государственной власти постепенно начинает дрейфовать в сторону поддержки митрополита Сергия (Страгородского), начали активно «приносить покаяние» в расколе и возвращаться, иногда даже в сущем сане, в лоно канонической Церкви. Однако среди галереи характеров обновленческого епископата находились те его представители, которые за непродолжительный период войны успели попасть на временно оккупированную территорию, после чего активно включиться в советскую патриотическую кампанию постоккупационного времени в качестве главы обновленческой церковной кафедры, а затем вернуться в Русскую Православную Церковь.
Наиболее заметной фигурой среди них был епископ Владимир (Иванов). О метаморфозах его поведения, а также о характеристике им социа лизма и советской власти мы поразмышляем в данной статье отдельно. Кроме того, считаем целесообразным сравнить как послания, так и обращения его основного конкурента — также находившегося несколько месяцев под немецкой оккупацией, а потом занявшего церковную кафедру, епископа Фотия (Топиро).
В обновленчестве священник Владимир Иванов пребывал еще с 1922 г. Впоследствии он окончит Московскую богословскую академию, станет в начале 1930-х гг. заместителем обновленческого епархиального управления и получит, будучи в законном браке, титул епископа Кубанского и Краснодарского19. На момент нападения нацистской Германии на Советский Союз епископ Владимир (Иванов) проживал в Краснодаре и вскоре оказался на занятой Вермахтом территории. Если внимательно ознакомиться с материалами выходившей под немецкой оккупацией русскоязычной газеты «Кубань», можно встретить информацию, как чин освящения ранее закрытых советскими властями храмов проводил столь влиятельный обновленческий архие-рей20. На страницах этого издания активно печатались жестко антисоветские материалы, в которых критиковалась не только антирелигиозная политика советских властей, но и сама идеология большевизма, в противовес чему восхвалялся «новый порядок»21. На многих мероприятиях, особенно проходивших в столице Кубани Краснодаре, присутствовал лично епископ Владимир (Иванов), т. е. он поддерживал весь пафос антисоветских воззваний и обращений.
Что же касается «патриаршей ориентации», то в период нацистской оккупации Кубани в Краснодаре проживал будущий архиерей Русской Православной Церкви епископ Фотий (Топиро). Этот представитель православного епископата также пребывал в обновленческом и григорианском разделениях, после чего в конце 1930-х гг. и вовсе перешел на работу по гражданской специальности22. Обращаясь к материалам той же «Кубани» начала 1943 г., можно увидеть, что в Краснодаре группа православных «староцерковного направления» желала иметь собственного епископа. В числе главных кандидатов называется «архиепископ» Фотий, на тот момент оказавшийся в Красно-даре23. Бургомистр города в период нацистской оккупации Степан Ляшевский, впоследствии ставший священником и служивший в эмиграции в юрисдикции РПЦЗ, всячески способствовал тому, чтобы на Кубани сохранялся баланс между двумя церковными направлениями. В последний период оккупации владыка Фотий возглавил «патриаршую» кафедру, сохранив ее в качестве епископа Кубанского и Краснодарского и после восстановления в регионе советской власти.
За весь период оккупации на территории Кубани было открыто 100 тихоновских и 92 обновленческих прихода. Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви по Краснодарскому краю И. И. Кириллов рапортовал в Москву, что немцы активно поддерживали обе церковные юрисдикции, хотя изначально были за «староцерковников»24.
Оказавшись перед новой для себя реальностью, оба архиерея стали активно участвовать в патриотических мероприятиях, горячо поддерживать советскую власть, в том числе не забывая о «советской фразеологии» в своих обращениях, приветственных телеграммах и проповедях. К тому же перед обоими епископами вскоре встанет задача возглавить объединенную церковную кафедру после краха обновленчества в СССР.
Приведем конкретные примеры. Особенно запоминающейся стала телеграмма архиепископа Краснодарского и Кубанско-Черноморского Владимира (Иванова) Сталину в день 26-летия годовщины захвата власти большевиками. Обновленческий церковный иерарх в своей телеграмме писал следующее: «Дорогой Иосиф Виссарионович, разрешите ко всем сказанным поздравлениям в день 26 годовщины выразить Вам и наше пожелание, исходящее из глубины сердец кубанского духовенства и мирян Обновленческой церкви, короткими словами псалмопевца Давида “Побори борющихся с нами”»25. Поразительно и обращение к Сталину, использованное архиепископом Владимиром в телеграмме: «Могучему витязю Русской Земли И. В. Сталину»26. Обновленческий архиерей на лету перехватил новую идеологическую модель поддержки советской власти и новые ее характеристики, господствующие в военное время. Более того, ранее невероятно услужливый перед немцами архиерей стал воспевать большевистскую власть, которую совсем недавно жестко критиковали в подконтрольной русскоязычной прессе, выходившей на временно оккупированной территории.
Следует отметить, что и занимавший патриаршую кафедру епископ Фотий (Топиро) в неменьшей степени в завершающий период войны проявил себя как советский патриот. Благодаря его организаторским способностям на территории Кубани православные приходы собрали до 300.000 рублей на нужды обороны; на танковую колонну около 400.000 рублей; до 300.000 рублей на больных и раненых красноармейцев; около 500.000 рублей на одежду и продукты для нужд Красной Армии. В печати владыка Фотий осенью 1943 г. называл систему фашизма «антинародной» и «направленной против интересов “передового человечества”». Особо епископ Фотий, тоже служивший в условиях вражеской оккупации, подчеркивал, что он не считает немцев защитниками Православной Церкви, называя их лютеранами, стремящимися заменить христианскую веру культом Вотана. Через местную газету «Большевик» епископ обращался в Всеславянский комитет с сообщением о разрушениях православных церквей нацистами. Епископ Фотий (Топиро) активно выступал на рубеже 1943–1944 гг. с патриотическими проповедями, служил благодарственные молебны по случаю освобождения таких крупных советских городов как Новгород и Киев27.
30 октября 1943 г. епископ Фотий (Топиро) также направил поздравительную телеграмму в адрес Сталина в связи с «октябрьскими торжествами». Владыка в телеграмме
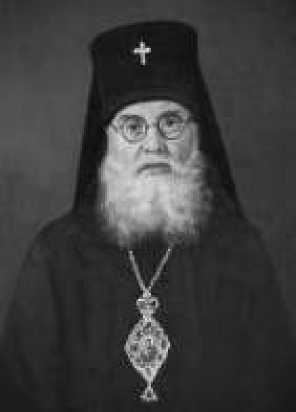
Епископ Флавиан (Иванов) (1889–1955)
подробно и обстоятельно рапортовал об успехах кубанского духовенства в деле сбора средств на патриотические нужды, отмечал, как после разрушений, оставленных захватчиками, местные духовные лица восстанавливают не только храмы, но и колхозное хозяйство, вдохновляясь успехами РККА. Естественно, много сказано было и о молитвах о победе «российского оружия». Среди прочего глава патриаршей Краснодарской кафедры заявлял: «В день 26-ти летия Великой Октябрьской Революции православное патриаршее духовенство и верующие Кубани просят Вас — Верховного вождя нашей победоносной Красной Армии — принять сердечные пожелания здоровья и счастья и молятся о том, чтобы Вы многие и долгие годы правили рулем Советского Государства, на благо всех населяющих его народов и нашей православной церкви»28. Главным лейтмотивом и этого поздравления было празднование «26-летней годовщины Советской Родины».
В решающий 1944 г. владыка Владимир (Иванов) с еще большим патриотическим пафосом принялся направлять телеграммы Сталину: «…Мы верующие Краснодарского края клянемся Вам что на алтарь священной войны отдадим все не жалея средств на самих себя сначала войны Краснодарская епархия собрала и сдала по всем видам помощи своей Армии свыше пяти миллионов рублей и продолжает свои заботы и сборы для доблестных бойцов и в настоящее время верующие Кубани молят Бога чтобы он помог Вам в этом году окончательно покорить супостата под ноги наши»29. В телеграмме вновь и вновь повторялось, что Красная Армия рвется вперед как неостановимый поток воды, перед которым не устоит ни одна преграда.
Итак, оба епископа, и обновленческий, и патриарший, в годы воины находились под немцами и теперь, вновь встретившись с советской реальностью, стали воспевать свершения большевистской власти. Одной из первых дат, которая оказалась в памятном календаре, стало 7 ноября. Представители епископата, еще недавно поддерживавшие оккупантов, теперь праздновали и отмечали «плюсы», которые получила Православная Церковь за 26 лет советской власти. Выражения при этом использовались максимально лояльные и, в отдельных случаях, даже подобострастные.
В итоге более искусный как в интригах, так и в приемах обращения к власти епископ Владимир (Иванов) приносит в конце 1944 г. — начале 1945 г. покаяние, и в январе 1945 г. в Москве проходит его архиерейская хиротония (в ней участвует еще один в прошлом видный обновленец, а ныне епископ Белевский Виталий (Введенский)), после чего епископа Фотия меняют на епископа Флавиана (новое монашеское имя обновленца) (Иванова). Гражданские власти сами были заинтересованы в таком «кадре», тем более что наряду с митрополитом Ставропольским Гермогеном (Кожиным), он мог ускорить процесс воссоединения всех обновленцев с Московской Патриархией. Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Георгий Карпов в своей докладной записке от 15 августа 1944 г. в адрес Сталина отмечал, что, «считая, что вопрос о ликвидации обновленческой церкви вполне назрел, Совет находит возможным ускорить процесс окончательного ее распада. С этой целью обновленческий Ставропольский митрополит Василий Кожин и Краснодарский архиепископ Владимир Иванов могут обратиться к оставшемуся обновленческому духовенству с обращением о разрыве связи с митрополитом Александром Введенским на почве его аморального поведения и с рекомендацией последовать их примеру и перейти в патриаршую церковь»30. Краснодарскую и Кубанскую кафедру епископ Флавиан (Иванов) будет занимать до 1949 г., в 1947 г. будет награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
К моменту окончания Великой Отечественной войны патриотические обращения православного духовенства, в которых было множество аллюзий на тему «красных дней календаря» и советской власти, стали уже привычным делом. Так, архиепископ Курский и Белгородский Питирим (Свиридов) 1 апреля 1945 г. выпускает специальное обращение к духовенству об организации сбора средств на подарки Красной Армии к 1 мая. В нем архиерей не только говорит о долге помощи «дорогим защитникам на поле брани», но и просит духовенство выделить «щедрую сумму» к гражданскому празднику31. Новоизбранный патриарх Алексий (Симан-ский) с особым восхищением 22 февраля 1945 г. отмечает подвиги Красной Армии в 27-ю годовщину ее создания, о чем отдельно сообщает Сталину. Непременным атрибутом являются пожелания Иосифу Виссарионовичу «многих сил на долгие годы для строительства мирной жизни»32.
Продолжал активно слать поздравления Сталину и лидер обновленцев Александр (Введенский), все более и более понимая, что судьба его юрисдикции печальна. Так, обновленческий первоиерарх сначала поздравил Иосифа Сталина с Первомаем33, а в сам день 9 мая направил телеграмму-молнию, в которой от руки было написано следующее: «Величайшая в истории человечества победа совершилась. Красная Армия и наши друзья союзники сокрушили чудовище фашизма. Слава вам, Великий вождь! Молю Вседержителя да ниспошлет Он всем нам свое благословение»34. Наконец, в адрес Сталина от ранее могущественного и влиятельного архиерея поступило поздравление в день победы над Японией35. Любопытно, что в телеграммах и обращениях обновленцев гораздо чаще звучит обращение к теме союзников, нежели у представителей Московской Патриархии. Общий же тон телеграмм лидера обновленцев передает его страхи, справедливо обусловленные трагическим финалом истории обновленчества, надвигавшимся в 1944–1946 гг.
Поздравления в адрес Сталина поступали и от нового предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха Алексия I (Симанского). В одной из своих телеграмм, находясь в Дамаске, он называет Сталина «Гением России»36. Поздравительная телеграмма бывшего «блокадного митрополита» также сочетает в себе признание заслуг лично Сталина вкупе с радостью от победы СССР в войне: «Сегодня, в исторический, радостный праздник победы мысли всех верных сынов нашей родины несутся к Вам, нашему любимому богоданному вождю, чьими неусыпными трудами и заботами страна наша достигла величайшей победы и мира. Православная церковь наша зовет всех своих верных чад торжественной всецерковной молитвой ознаменовать этот светлый праздник русского народа, она возглашает Вам, своему дорогому вождю многая и многая лета счастливой жизни на благо и радость нашего народа»37.
Итак, в период Великой Отечественной войны ключевыми сюжетами посланий и обращений представителей как Патриаршей Церкви, так и обновленчества стали картины национальной истории дореволюционного периода, а также образы героев прошлого, с именами которых возникала стойкая ассоциация побед. В череде последних можно было встретить как канонизированных святых — особо частыми были упоминания о святом благоверном князе Александре Невском и преподобном Сергии Радонежском, — так и военных и морских деятелей: Кутузова, Суворова, Нахимова и др. При этом советская фразеология не исчезла совсем из подобного рода документов. Чаще всего в момент очередной крупной победы Красной Армии, по случаю советских праздников, например, 1 мая, годовщин прихода к власти большевиков или создания РККА церковные иерархи в значительной степени включали в свой глоссарий «большевистские термины», подчеркивая единство клира с советской властью. Отдельным жанром являются телеграммы, направленные в адрес советских лидеров и особенно самого Сталина. В них уже в военное время видны подобострастные характеристики, гораздо чаще встречаются изъявления полной лояльности и поддержки. Немаловажен в этой связи и чисто субъективный фактор — если автором послания является бывший обновленец или же архиерей, вызывавший доверие у властей в связи со своей многолетней «исполнительностью», то он гораздо больше говорит о советских достижениях. Для многих сбор средств в поддержку Красной Армии, вкупе с выражением лояльности и чувств патриотизма, могли стать решающим фактором при назначении на церковную кафедру. В первую очередь данный феномен был характерен для епископов-обновленцев, которые к концу войны столкнулись с ситуацией окончательного разворота советской власти в сторону Патриаршей Церкви. Умелые действия некоторых архиереев-обновленцев — классическим примером которых стал епископ Владимир (Иванов), в 1942–1943 гг. успевший принять участие в открытии храмов под нацистской оккупацией, — привели к своеобразной «победе» над «патриархийными» епископами, не сумевшими четко выразить свою позицию и организовать масштабные пропагандистские действия в поддержку действующих властей и воюющей Красной Армии.
Несмотря на то, что выражение поддержки советской власти представителями Православной Церкви и обновленчества было характерно и для более ранних периодов — чего стоит деятельность обновленцев в начале 1920-х гг. или знаменитая Декларация митрополита Сергия (Страгородского) 1927 г., — именно в годы Великой Отечественной войны во многом благодаря общему патриотическому порыву они приняли более широкий характер. Именно тогда была заложена традиция поздравления советских лидеров с гражданскими праздниками, зачастую носящими далеко не религиозный характер, в том числе с использованием социалистической терминологии. Подобная традиция укоренилась в Русской Православной Церкви и просуществовала вплоть до крушения советской власти в 1991 г. Анализ подобного рода обращений и посланий необходим в том числе для понимания реального отношения церковной иерархии к социализму, его «советскому изводу», а также отделения зерен от плевел, для понимания, где и почему епископы были искренни, а где — вынужденно лояльны. Необходимо это и для предотвращения инсинуаций по поводу т. н. сращивания Церкви и государства в СССР / России.
Список литературы Отношение к власти, социализму и армии в обращениях, телеграммах и проповедях православных архиереев в период Великой Отечественной войны
- Архив Санкт-Петербургской епархии (АСПБЕ). Ф. 1. Оп. 3 (2). Д. 199.
- Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р-1519. Оп. 1. Д. 3; Оп. 3. Д. 2.
- Калашник В. В. Проповедническая и публицистическая деятельность духовенства Русской Православной Церкви в период Великой Отечественной войны // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 2 (77). С. 67–74.
- Кубань. 1942. 16 декабря.
- Кубань. 1942. 27 ноября.
- Кубань. 1943. 21 января.
- Лавринов В., свящ. Временный Высший Церковный совет и его роль в истории Русской Православной Церкви. М.: Общество любителей церковной истории, 2018. 608 c.
- Лавринов В., свящ. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М.: Общество любителей церковной истории, 2016. 736 c.
- Петров И. В. Епископат обновленческой церкви на территории СССР в 1941–1945 годах: трансформации политических взглядов // Научный диалог. 2019. № 4. С. 312–328. DOI: 10.24224/2227-1295-2019-4-312-328.
- Петров И. В. У последней черты. Конфессии Ленинграда в 1941–1953 гг.: борьба за выживание и признание властью. М.: Посев, 2020. 312 с.
- Российский государственный архив Новейшей истории (РГАНИ). Ф. 3. Оп. 60. Д. 32.
- Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Под ред. Васильевой О. Ю., Кудрявцева И. И., Лыковой Л. А. М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2009. 768 с.
- Фирсов С. Л. Власть и огонь. Церковь и советское государство: 1918 — начало 1940-х гг.: очерки истории. М.: ПСТГУ, 2014. 474 с.
- Фирсов С. Л. На весах веры. От коммунистической религии к новым «святым» посткоммунистической России. СПб.: Вита Нова, 2011. 512 с.
- Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. Р-9324. Оп. 1. Д. 5; Ф. 7384. Оп. 3. Д. 67.