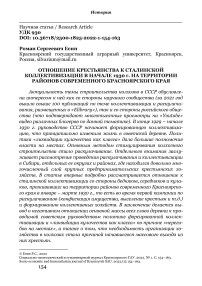Отношение крестьянства к сталинской коллективизации в начале 1930 г. на территории районов современного Красноярского края
Автор: Есин Роман Сергеевич
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (23), 2022 года.
Бесплатный доступ
Актуальность темы строительства колхозов в СССР обусловлена интересом к ней как со стороны научного сообщества (за 2021 год вышло свыше 100 публикаций по теме коллективизации и раскулачивания, размещенных в «Elibrary»), так и со стороны российского общества (что подтверждают многотысячные просмотры на «Youtube» видео различных блогеров по данной тематике). В конце 1929 - начале 1930 г. руководство СССР начинает форсированную коллективизацию, что принципиально изменило жизнь в советской деревне. Политика «ликвидации кулачества как класса» дала большие полномочия власти на местах. Основным методом стимулирования колхозного строительства стало раскулачивание. Отдельного внимания заслуживает рассмотрение проведения раскулачивания и коллективизации в Сибири, отдельных ее округах и районах, где находился довольно многочисленный слой крупных предпринимательских крестьянских хозяйств. В статье впервые подробно рассматривается отношение к сталинской коллективизации со стороны бедняков, середняков и кулаков, проживавших на территории районов современного Красноярского края в январе - марте 1930 г., то есть во время первой кампании по раскулачиванию (конфискация имущества, выселение крестьян и т.д.) и формированию коллективных хозяйств. В заключение делается вывод о негативном отношении основной массы всех слоев деревни к проводимой советским руководством политике форсированной коллективизации и «ликвидации кулачества как класса» по причине «перегибов на местах», а также о том, что необходимость организации хозяйства в колхозах стала причиной начавшегося массового выхода из них крестьян.
Коллективизация, раскулачивание, крестьянство, красноярский край
Короткий адрес: https://sciup.org/140290591
IDR: 140290591 | УДК: 930 | DOI: 10.36718/2500-1825-2022-1-154-163
Текст научной статьи Отношение крестьянства к сталинской коллективизации в начале 1930 г. на территории районов современного Красноярского края
Введение . Тема форсированной коллективизации изучается в исторической науке не один десяток лет. Вопрос об отношении крестьянства к политике колхозного строительства и «ликвидации кулачества как класса» в начале 1930 г. отчасти рассматривался в исследованиях общесоюзного масштаба [1, 2, 3]. Также этот вопрос частично рассматривался в работах сибирских и красноярских историков [4, 5, 6, 7, 8]. Однако специальное исследование отношения крестьянства к коллективизации в начале 1930 г. на территории районов современного Красноярского края не проводилось.
Цель исследований . Выявление отношения населения деревни к коллективизации на территории современного Красноярского края в январе – марте 1930 г.
Результаты и их обсуждение . Развертывание во второй половине 1920-х годов индустриализации страны потребовало перераспределения рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность с одновременным увеличением производства продуктов питания и технических культур.
Первая попытка индустриализации догоняющего типа в Российской империи была принята на рубеже ХIХ – ХХ вв. по инициативе министра финансов С.Ю. Витте. Но вопрос обеспечения промышленности рабочей силой, растущего городского населения продовольствием решался в ходе Столыпинской аграрной реформы через разрушение общины, разорение общинников, переведенных государством в категорию землевладельцев, создание российского фермерства.
После завершения восстановительного периода руководство СССР начало проведение индустриализации, в ходе которой ставились задачи не только вхождения в число промышленно развитых стран, но и создания новой модели социалистического развития. Сложность проблемы «изъятия» трудоспособного населения из сельского хозяйства заключалась в том, что крестьяне европейской части страны, в том числе потерявшие землю в период проведения Столыпинской реформы, методом «черного передела» наделили себя землей и вернулись к общинной 156
форме организации жизни. Таким образом, Россия откатилась от достигнутых результатов модернизации страны в сторону возобновления традиционного аграрного общества.
Поэтому после продовольственного кризиса 1927–1928 гг. государство сделало ставку на решение проблем индустриализации за счет развития производственной кооперации и создания колхозов.
7 ноября 1929 г. в газете «Правда» была опубликована статья И.В. Сталина «Год великого перелома» с обоснованием курса на коллективизацию сельского хозяйства и ликвидацию кулачества как класса [9]. В конце декабря 1929 г. этот курс был провозглашен официально на конференции аграрников-марксистов [9. с. 169]. После этого были приняты директивные установки и планы по раскулачиванию [10, с. 163– 165; 18, с. 39]. Руководство страны и Сибирского края, его округов в конце 1929 г. стали призывать к проведению раскулачивания [4, с. 50] через газеты, выступления руководителей различного уровня на собраниях коммунистов, комсомольцев, жителей деревни [12].
В дальнейшем были приняты постановления руководства СССР, в которых ставились задачи по проведению форсированной коллективизации, определяющие политику раскулачивания [10, с. 85].
В январе 1930 г. часть крестьян, имевших опыт коллективного хозяйствования, с пониманием отнеслась к провозглашенному ЦК ВКП (б) курсу на форсированную коллективизацию. Безусловно, на отношении крестьян к коллективным объединениям сказывались традиции взаимопомощи, сложившиеся в Сибири.
В частности, в 1920 г. в Енисейской губернии было создано 30 коммун, 20 артелей и 19 других типов коллективных хозяйств. В 1921 г. в губернии уже насчитывалось 98 коллективных объединений. В 1922 г. их число, в силу определенных обстоятельств, сократилось до 47, но в 1923 г. оно вновь увеличилось до 81. То есть в указанные годы коллективные хозяйства были немногочисленны, организационно неустойчивы, но прослеживалась тенденция к их количественному росту [7, с. 116].
В губернии было высоким количество крестьян, охваченных разными формами простейшей производственной кооперации и другими видами непроизводственной кооперации. По данным на 1 октября 1927 г., в систему сельскохозяйственной кооперации было вовлечено 40,4 %, а кредитными товариществами было охвачено 35,4 % всех хозяйств Красноярского округа [11, с. 249–250].
Формой крестьянского взаимодействия и помощи была также супряга (объединение инвентарем, скотом, рабочей силой и т.д.). Исследователь И.С. Кузнецов, проанализировав 10 % крестьянских хозяйств на территории Сибири, пришел к выводу, что из них 15,3 % объединяли свой скот и инвентарь [8].
Практиковалось привлечение городской и сельской молодежи к оказанию помощи кооперированным крестьянам. В частности, летом
1929 г. был проведен общесибирский воскресник по распашке ранних паров. В рамках этого мероприятия в Ачинском округе участвовало и 1600 комсомольцев, а в Канском – до 1336. В результате проведенных работ в 5 округах, созданных на территории бывшей Енисейской губернии, было вспахано 256 тыс. га [7, с. 117].
Все эти факты и обстоятельства говорят о том, что енисейское крестьянство в конце 1929 г. в основной массе хорошо или нейтрально относилось к коллективным формам хозяйствования. Но форсированная коллективизация имела свои особенности, что привело к дифференциации взглядов крестьянства на ее проведение.
Документы свидетельствуют, что в январе 1930 г. беднота поддержала процесс коллективизации. При вступлении в колхоз она практически ничего не теряла и рассчитывала улучшить свою жизнь за счет общего колхозного хозяйства [12, с. 237].
Середняки, проживавшие в Ачинском, Канском и Красноярском округах, относились к объединению хозяйств либо нейтрально, либо положительно, а наиболее зажиточная их часть была обеспокоена судьбой своего единоличного хозяйства [12, с. 226].
Кулаки, или богатая часть деревни, относились к коллективизации негативно, так как они при вступлении в колхоз теряли свое индивидуальное хозяйство, возможность строить собственную траекторию семейного благополучия [12, с. 228]. То есть бедняки и середняки, как наиболее многочисленная часть крестьянства, с опаской, но в основном положительно относились к коллективизации. Но и среди основной массы были исключения.
Так, 26 декабря 1929 г. в с. Татьяновка Канского округа за срыв собрания по коллективизации были арестованы 4 бедняка и 3 середняка [12, с. 219]. После начала раскулачивания в январе 1930 г. даже среди бедноты стало проявляться негативное отношение к коллективизации. В директиве от 8 января 1930 г. руководство Сибирского края сообщало, что имели место «кулацкая агитация» и выступления «подкулачников» в Уярском районе [13, л. 30–32]. 14 января 1930 г. в селе Бородино Рыбинского района Канского округа за выступление на собрании против коллективизации были арестованы 2 крестьянки-беднячки и 1 середнячка [12, с. 219]. Нужно признать, что в начале января 1930 г. на территории районов современного Красноярского края это были редкие случаи противодействия коллективизации.
Ситуация начала меняется в феврале 1930 г., когда выросло число «перегибов на местах». По сводкам о положении дел на местах выявляется рост негативного отношения крестьян к коллективизации. Так, в сводке на 7 февраля 1930 г. о ходе посевной кампании в Красноярском округе сообщалось о преобладании положительного отношения крестьян большинства районов к коллективизации. Но уже 20 февраля в свод- ке говорилось о «перегибах на местах» и нежелании крестьян вступать в колхозы [14, л. 2–9].
Перегибы при раскулачивании на территории районов современного Красноярского края в феврале 1930 г. отмечены и в спецсводке № 2 по Сибирскому краю «О проведении экспроприации кулачества и ходе коллективизации». В ней указывалось на случаи полной конфискации имущества раскулаченных крестьян [12, с. 215] и передаче конфискованного имущества бедноте [12, с. 216]. Такой политикой были довольны только участвующие в конфискации имущества бедняки, батраки и часть середнячества, принимавшие активное участие в раскулачивании [12, с. 237].
Но масштабы крестьянского недовольства не повлияли на развитие колхозного строительства. В частности, на 1 марта 1930 г. по Сибирскому краю в колхозы вступило 48,8 % хозяйств [15, л. 45].
Очевидно, что значительная часть крестьян вступали в колхоз из страха быть раскулаченными. Спецсводка № 2 по Сибирскому краю «О проведении экспроприации кулачества» указывала на рост недовольства середняков, столкнувшихся с утратой своего хозяйства при неясных перспективах развития колхозного хозяйства [12, с. 226–229]. Иногда дело доходило до рукоприкладства с их стороны [12, с. 230], поджогов [12, с. 231], появления листовок с угрозами убийства партийных активистов [12, с. 232]. В феврале 1930 г. все чаще стала звучать критика коллективизации со стороны бедноты, которая утратила возможность подработок у состоятельных сельчан, но еще не получила никакой реальной поддержки от колхозов [12, с. 224].
Некоторые раскулаченные крестьяне стали создавать вооруженные группы для противодействия коллективизации. Группа «Пильщикова – Озерных» из двадцати человек в Ачинском округе создала свой «укрепрайон» с блиндажами в пересеченной гористой местности. Направленный против них отряд из Ачинска потерял в боях 12 убитых и 10 раненых, потери восставших в документах не приведены [12, с. 233].
В марте 1930 г. раскулачивание набирает большие обороты. С расширением репрессивных мер росло негативное отношение крестьян к коллективизации и политике раскулачивания [16, л. 55]. Документы начала 1930 г. отразили такие формы противодействия коллективизации, как агитация, запугивание активистов, уничтожение, порча и обмен своего имущества перед вступлением в колхоз, утайка скота и семенного зерна, нападение на милиционеров, заявления некоторых крестьян о том, что повесятся из-за вступления в колхоз, уход крестьян в неизвестном для властей направлении, уклонение от зачисления в число колхозников [17, с. 45].
Как условие проведения коллективизации и нейтрализации сопротивления крестьян, в марте 1930 г. резко увеличилось количество «перегибов на местах» [12, с. 240]. Перегибы были обусловлены ответственно- стью местных партийных и советских органов за выполнение предписаний по темпам и формам проведения коллективизации в условиях растущего сопротивления кулачества и его деструктивного воздействия на середняцкую массу деревни.
Руководство СССР, конечно, предполагало, что часть крестьянства будет оказывать активное сопротивление политике «ликвидации кулачества как класса» [19]. Однако такого злоупотребления властью на местах и отпора ему со стороны крестьянства оно не ожидало.
В течение февраля 1930 г., когда стал понятен масштаб сопротивления и недовольства крестьян, власти всех уровней пытались исправить ситуацию, рассылая различные директивы и напоминания о том, что категорически запрещается раскулачивать бедноту, батраков, середняков, бывших партизан, другие категории населения [20, с. 353–369], отменяли решения о неправильном раскулачивании [12, c. 240], наказывали руководство на местах [12, с. 242]. Но предпринятых мер было недостаточно. Негативное отношение к коллективизации уже было сформировано у подавляющего числа жителей советской деревни [17, с. 45; 10, с. 178].
После публикации 2 марта 1930 г. статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов», где вина за нарушения и перегибы в проведении ускоренной коллективизации была возложена на руководителей на местах [9, с. 192], раскулачивание было приостановлено. Недовольным крестьянам разрешалось выходить из колхозов. Так, с 1 по 20 марта 1930 г. из колхозов в Красноярском округе выбыли 1956 хозяйств, в Канском – 752, Ачинском – 323 хозяйства. Данные факты подтверждают тезис о формировании негативного отношения крестьян к коллективизации в начале 1930 г. [15, л. 48]. К концу мая 1930 г. в восточных округах Сибирского края (в том числе на территории современного Красноярского края) уровень коллективизации достиг 17 %, хотя еще в начале марта составлял 48 % [21, с. 84].
Заключение . Таким образом, можно заключить, что в начале 1930 г. в результате политики раскулачивания изначально положительное и нейтральное отношение к коллективизации у большинства населения деревни изменилось на отрицательное отношение. Отторжение у всех слоев деревни в основной массе было вызвано «перегибами» при проведении раскулачивания. Кроме этого, бедняки, имевшие иждивенческие ожидания, поняли, что предстоит большая и долгая работа по созданию эффективного колхозного производства. Поэтому в период приостановки колхозного движения многие из них выходили из колхозов в поиске любой работы ради содержания своих семей. Середняки, поначалу относившиеся к коллективизации либо положительно, либо пассивно, по тем же причинам, что и беднота, стали относиться к изменениям жизни на селе негативно. Устойчивое отрицательное отношение к коллективизации было только у самой богатой части деревни. Таким образом, у государства оставалась возможность перезапустить болезненный 160
процесс коллективизации, без которого были невозможны ни догоняющая, ни социалистическая индустриализация. Как показало время, переход России на новый уровень модернизации в период проведения Столыпинской реформы, сталинской индустриализации и коллективизации, а также современный переход к рыночным отношениям, инициируется органами власти и управления, но всегда сопровождается сменой образа жизни и является болезненным для всех слоев населения.
Список литературы Отношение крестьянства к сталинской коллективизации в начале 1930 г. на территории районов современного Красноярского края
- Ивницкий НА. Судьба раскулаченных в СССР. Москва, 2004. 296 с.
- Земсков В.Н. Судьба «кулацкой ссылки» (1930-1954 гг.) // Отечественная история. 1994. № 1. 118-147.
- Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР. 1930-1960. Москва, 2003. 306 с.
- Папков СА. Сталинский террор в Сибири 1928-1941. Новосибирск, 1997.
- Красильников СА. Серп и молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е гг. Москва, 2003.
- Корсакова О.В. Крестьяне-спецпереселенцы в Сибири в 1930-е гг. (на материалах Красноярского края): дис. ... канд. ист. наук. Красноярск, 2001.
- Вострова С.Н. Изменения в социальной психологии крестьян Восточной Сибири в период сплошной коллективизации: дис. ... канд. ист. наук. Красноярск, 2005.
- Кузнецов И.С. Социальная психология сибирского крестьянства в 1920-е гг.: учеб. пособие. Новосибирск, 1992.
- Сталин И.В. Сочинения. Москва, 1949. Т. 12.
- Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание / отв. ред. НА. Ивницкий. Москва, 2000. Т. 2.
- Агропромышленный комплекс Красноярского края (1920-1970-е годы). Документы и материалы / сост. М.Д. Саверьянов. Красноярск, 1991.
- Коллективизация сибирской деревни. Январь-май 1930 г. / отв. ред. ВА. Ильиных, О.К. Кавцевич. Новосибирск, 2009.
- Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф.Р. 55. Оп. 2. Д. 15.
- ГАКК. Ф.р-10. Оп. 1. Д. 714.
- ГАКК. Ф.Р. 96. Оп. 1. Д. 817.
- ГАКК. Ф.П.-46. Оп. 1. Д. 10.
- Есин Р.С. Раскулачивание и коллективизация на территории современного Красноярского края: от «коренного перелома» до исправления «перегибов на местах» / / Известия Алтайского государственного университета. 2020. № 3. С. 43-46.
- Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1930 - весна 1931 г.: сб. / отв. ред. В.И. Данилов, СА. Красильников. Новосибирск, 1992.
- Тархова Н.С. Красная армия и сталинская коллективизация. Москва, 2010. 375 с.
- Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927-1932 гг. /под ред. В.П. Данилова НА. Ив-ницкого. Москва, 1989.
- Ильиных ВА. Сельское хозяйство Восточной Сибири в период коллективизации: динамика, организационно-производственная структура // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск, 2014.