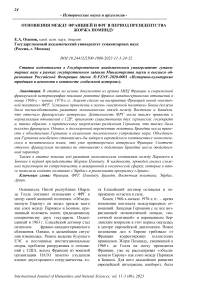Отношения между Францией и ФРГ в период президентства Жоржа Помпиду
Автор: Осипов Е.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 11-3 (86), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе документов из архива МИД Франции и современной французской историографии показано развитие франко-западногерманских отношений в конце 1960-х - начале 1970-х гг. Акцент сделан на восприятии Францией новой «восточной политики» ФРГ. Успешное проведение в жизнь «восточной политики» Бонна должно было поспособствовать развитию экономических связей между Востоком и Западом, что отвечало французским интересам. Деятельность ФРГ могла также привести к нормализации отношений с ГДР, признанию существования двух германских государств и, таким образом, к юридическому закреплению разделения Германии, что также было выгодно французам. Однако, в долгосрочной перспективе политика Брандта могла привести к объединению Германии и изменению послевоенного устройства мира. Объединенная Германия неизбежно становилась бы лидером европейского континента в экономическом и политическом плане, что уже противоречило интересам Франции. Соответственно, французская политика по отношению к действиям Брандта имела двойственный характер. Также в статье показан ход развития экономических контактов между Парижем и Бонном в период президентства Жоржа Помпиду. В частности, проведен анализ сложных переговоров по сотрудничеству в авиационной и космической сферах, которые в итоге позволили создать компанию «Эйрбас» и реализовать программу «Ариан».
Франция, фрг, помпиду, брандт, восточная политика, эйрбас, ариан
Короткий адрес: https://sciup.org/170201392
IDR: 170201392 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-11-3-24-32
Текст научной статьи Отношения между Францией и ФРГ в период президентства Жоржа Помпиду
Основатель Пятой республики Шарль де Голль поставил отношения с ФРГ в центр своей внешней политики. «Объединенную Европу» он видел прежде всего как союз между Парижем и Бонном, призванный положить конец традиционному соперничеству двух государств. Подписанный в 1963 г. Елисейский договор стал символом франко-западногерманского сближения. Однако, в дальнейшем ситуация изменилась. Разное видение будущего ЕЭС и постоянные институциональные споры, проблема разоружения и отношений с США, выход Франции из военной организации НАТО заметно ухудшили климат двустороннего сотрудничества, хо- тя Елисейский договор оставался и по-прежнему остается в силе.
Конец 1960-х-начало 1970-х гг. – время изменения контекста международных отношений. Западная Германия с ее все возрастающей экономической мощью, «восточной политикой» и нерешенным берлинским вопросом в этот период оказалась в центре европейской дипломатии. Новое положение дел в Европе требовало от Франции корректировки голлистских принципов. Жорж Помпиду, сменивший в 1969 г. де Голля на посту президента Франции, уже не рассматривал «объединенную Европу» как союз между Парижем и Бонном. Для него дальнейшее развитие европейской интеграции, наоборот, было средством сдерживания экономической гегемонии ФРГ, поставившей под сомнение французское лидерство внутри ЕЭС.
Экономический аспект во франкозападногерманских отношениях трудно переоценить. Промышленные показатели ФРГ превышали французские на 50%. Помпиду прекрасно осознавал все возможные негативные последствия экономического превосходства Германии над Францией. Именно с этим связана поставленная новым французским президентом цель по удвоению индустриальной мощи Франции за 10 лет. Что касается самостоятельных внешнеполитических действий ФРГ в рамках так называемой новой «восточной политики», то они только усиливали страх французов перед возрождением немецкого могущества.
Во внешнеполитической доктрине Помпиду сотрудничество с ФРГ занимало определяющую позицию. Французская дипломатия и при де Голле и при Помпиду в отношениях с Бонном преследовала несколько целей: обеспечение нерушимости послевоенных границ, противодействие любым попыткам объединения Германии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе и интенсификация двусторонних контактов с целью более эффективного развития французской промышленности, науки и торговли. Подобные цели, как и вся политика голлизма, были призваны защитить национальные французские интересы. Лидерство Франции внутри ЕЭС могло было быть обеспечено только в условиях существования двух Германий. Вместе с тем, интенсификация двустороннего сотрудничества должна была способствовать не только успешному развитию французской экономики, но и более пристальному контролю Франции за своим восточным соседом.
В историографии по-разному оценивается характер личных отношений между Помпиду и канцлером ФРГ Вилли Брандтом, пришедшим к власти в 1969 г. Большинство исследователей и современников отмечают, что складывались они непросто. Так, переводчик МИД Франции однажды заметил, что именно во время бесед с Брандтом «Помпиду дольше всего мол- чал» [9, p. 15]. Жобер в своих мемуарах написал, что французскому президенту не нравилась «та бесконечная похвала, которой Брандта окружила иностранная и французская пресса» [7, p. 164]. Не понравилось Помпиду и публичное преклонение перед памятником жертвам гетто в Варшаве, за которое Брандт впоследствии получил нобелевскую премию мира. Действительно, Помпиду и Брандт точно не были близкими по духу людьми. Их взгляды по ключевым вопросам международных отношений часто не совпадали. Однако, не стоит переоценивать важность подобных разногласий. В действительности, на протяжении всего пятилетнего президентства Помпиду между политиками в точном соответствии с Елисейским договором существовал постоянный диалог. В Национальном архиве Франции и Архиве МИД Франции хранится обширная переписка между Помпиду и Брандтом. В письмах друг к другу они открыто обсуждали самые проблемные вопросы международной и европейской политики, а также ставили друг друга в известность относительно предпринимаемых или уже предпринятых шагов. Уровень взаимного доверия между политиками был настолько высок, что, по словам Жобера, Помпиду заранее сообщил Брандту о грядущей отставке премьер-министра Франции Жака Шабан-Дельмаса в 1972 г. [7, p. 204]. В целом, отношения между Францией и ФРГ при Помпиду и Брандте, так же как и их личные взаимоотношения, были лишены той легкости и близости, которая была характерна для межгосударственных контактов времен де Голля и Аденауэра. Однако это не сказалось на интенсивности двустороннего сотрудничества.
Активизация деятельности ФРГ на восточном направлении стала заметна еще до прихода Брандта к власти. В апреле 1967 г. канцлер Кизингер, выступая в бундестаге, сказал: «Наступил момент, когда мы должны попытаться по-новому определить место нашей страны в мире, по отношению к союзникам, к «третьему миру», а также по отношению к Востоку» [1, с. 137]. В том же году ФРГ установила дипломатические отношения с Румынией и произвела обмен торговыми представительствами с Чехословакией, а годом позже – восстановила сотрудничество с Югославией. Пришедшая в 1969 г. к власти со-циал-либеральная коалиция во главе с канцлером Брандтом и министром иностранных дел Шеелем превратила восточную политику в важнейшую составляющую своей дипломатии. Отныне новая «восточная политика» стала главной темой франко-западногерманских контактов.
Направленная на нормализацию отношений с СССР, Польшей и Чехословакией, а также на заключение комплекса соглашений с ГДР, дипломатия Брандта-Шееля грозила существенно изменить контекст европейской политики. Отныне правительство Бонна только ставило в известность своих союзников, в том числе и Францию, о предпринимаемых им действиях, а не спрашивала на них разрешения. Самостоятельные действия ФРГ угрожали реализации голлистской политики, а также заново поднимали такие жизненно важные для Франции вопросы, как европейская безопасность, будущее европейской интеграции, статус Берлина и перспективы возможного объединения Германии.
«Восточная политика» Брандта была достаточно холодно встречена западными союзниками ФРГ. Например, советник президента США Генри Киссинджер в первые месяцы нового курса Бонна своим собеседникам повторял следующее: «Не слишком ли много берут на себя там, на Рейне; не переоценивают ли они собственные силы? Действительно ли там продумали все возможные переплетения и обратные воздействия этой новой политики? В любом случае западные немцы действуют слишком быстро, они слишком нетерпеливы» [2, с. 108].
Отношение Франции к действиям Брандта и Шееля было неоднозначным. Очевидно, что восточная политика ФРГ стала следствием разрядки международной напряженности, одним из вдохновителей которой являлся генерал де Голль. Продолжение разрядки было важной составляющей внешнеполитической концепции Помпиду, и в этом смысле ему следовало оказать всестороннюю поддержку своим немецким партнерам. Успешное проведение в жизнь «восточной политики» Бонна должно было поспособствовать развитию экономических связей между Востоком и Западом, что тоже отвечало французским интересам. Деятельность ФРГ могла также привести к нормализации отношений с ГДР, к признанию существования двух германских государств и, таким образом, к юридическому закреплению разделения Германии.
Между тем, реализация Бонном новой «восточной политики» ставила перед Францией ряд серьезных проблем. Главная из них заключалась в том, что нормализация отношений между ФРГ и ГДР была выгодна Франции только в краткосрочной перспективе. В будущем же она с большой долей вероятности вела к объединению Германии и изменению послевоенного устройства мира. У французского руководства изначально не было сомнений в том, что конечная цель политики Брандта-Шееля – решение германского вопроса. Помпиду всегда придерживался мнения, что объединение двух Германий возможно только в двух случаях: либо при условии крупных уступок со стороны ФРГ в пользу СССР, главной из которых должно было стать согласие Бонна на нейтральный статус единой Германии, либо при условии постепенного развала восточного блока и автоматического включения ГДР в состав ФРГ. Оба варианта были для Франции неприемлемы. Нейтральная Германия неизбежно подпадала под влияние Москвы, что резко подрывало устои европейской обороны. Второй же вариант был опасен тем, что ФРГ вместе с экономическим потенциалом Восточной Германии становилась недосягаемой для Франции в экономическом плане, что ставило под вопрос возможность реализации голлистской политики.
Еще одной причиной недовольства французского руководства были амбиции ФРГ на лидерство в деле разрядки международной напряженности. Нормализация отношений ФРГ с СССР и социалистическими странами превращала Бонн в серьезного конкурента Франции в европейской политике. Добавим при этом, что ФРГ имела перед Францией преимущество в торговле со странами Восточной Европы. Таким образом, отношение Парижа к политике Брандта-Шееля не могло быть лишено некоторой двойственности.
Внешнеполитическая активность ФРГ с самого начала президентства Помпиду оказалась в центре внимания французского руководства. Еще в июле 1969 г. советник Помпиду Жан-Бернар Ремон подготовил для президента Франции записку о ФРГ, в которой среди прочего было сказано: «Мы присутствуем при утверждении тенденции, при которой ФРГ будет проводить в Европе и на Востоке собственно германскую политику» [9, p. 253]. В сентябре 1969 г. состоялась встреча Помпиду с канцлером ФРГ Кизингером, в ходе которой французский президент призвал ФРГ к «осторожности» [9, p. 254], намекая на опасность чрезмерного сближения с СССР и социалистическими странами. Отметим, что сам Помпиду в отношениях с Востоком выступал за проведение исключительно осмотрительной политики. Например, комментируя свой визит в СССР в 1970 г., он отметил: «…не надо слишком сближаться с СССР. Не надо падать им в руки. Чтобы развивать торговлю нужны кредиты, а мы можем использовать кредиты для других целей. Если товарооборот достигнет 20%, мы частично попадем в зависимость от СССР» [3, p. 524].
В январе 1970 г. Помпиду впервые обсудил «восточную политику» Бонна с Брандтом, недавно ставшим канцлером ФРГ. В ходе переговоров Брандт заверил французского президента, что предпринимаемые Западной Германией действия не повлекут за собой пересмотра ранее принятых Бонном обязательств по отношению к своим союзникам. Лидер ФРГ прежде всего имел в виду сохранение контроля Франции, Великобритании и США над Западным Берлином, что было одним из основополагающих аспектов французской дипломатии. В конце беседы Брандт достаточно неожиданно признал наличие связи между отказом от применения силы и признанием существования ГДР: «…если мы действительно собираемся от- казаться от применения силы, нельзя исключать (существование – Е.О.) ГДР, даже если это противоречит национальным интересам ФРГ. Необходимо признать нерушимость границ и территориальную целостность, в том числе и ГДР…» [9, p. 259]. Подобные заявления Брандта могли только встревожить Помпиду. Как уже отмечалось выше, нормализация отношений между двумя германскими государствами в будущем могла привести к возрождению единой Германии.
Сам же Помпиду в ходе переговоров с канцлером ФРГ снова призвал к осторожности. Он отметил: «Я считаю, что необходимо исходить из идеи, что русские уверены в следующем: слишком большое сближение с Западом, слишком тесная кооперация между коммунистической и западной страной быстро приведет к краху коммунистического режима. По моему мнению, именно это в большей степени, чем военный аспект, сыграло свою роль в Чехословакии (в 1968 г. – Е.О.). Чехословакия закончила бы разрывом с социалистическим блоком. Очевидно, что каким бы ни было доверие к Ульбрихту, его людям и коммунистической партии ГДР, русские будут крайне недовольны, если между двумя Германиями установится слишком тесное сотрудничество…Нужно это понимать и исходить из принципа, что коммунистический блок…может развалиться только медленно, постепенно и только в том случае, если в самом СССР будут смягчены некоторые коммунистические принципы, чего сейчас не наблюдается» [9, p. 257].
В марте 1970 г. у Помпиду состоялась встреча с лидером оппозиции ФРГ Рене Барзелем, главной темой которой предсказуемо стала внешнеполитическая деятельность Бонна. В ходе беседы французский президент подчеркнул, что «Франция тоже считает диалог с Востоком необходимым» и «что надо продолжать разрядку» [9, p. 264]. Для Помпиду новая «восточная политика» ФРГ была выгодна именно в той мере, в какой она способствовала разрядке напряженности. Отметим, что в течение всего своего президентства Помпиду поддерживал контакт с западногерман- ской оппозицией. В ходе переговоров с Барзелем и сменившем его Гельмутом Колем французский президент отстаивал те же позиции, что и во время встреч с Ки-зингером и Брандтом, что лишний раз показывает приверженность французской дипломатии защите национальных интересов государства, а не достижению сиюминутных, конъюнктурных целей.
В июле 1970 г., за месяц до подписания исторического договора между СССР и ФРГ, Помпиду в ходе переговоров с Брандтом, открыто поддержал канцлера ФРГ, высказав «моральную и политическую» [9, p. 267] поддержку новой «восточной политики». В дальнейшем президент Франции неоднократно публично поддержит дипломатическую деятельность Бонна. Так, в письме Брандту от 21 августа 1970 г. он поздравил его с подписанием договора с СССР и отметил, что «это важный шаг на пути к разрядке в Европе и в мире» [9, p. 278]. В декабре 1971 г. в очередном письме Брандту Помпиду прокомментировал слух о недовольстве Парижа по поводу самостоятельных внешнеполитических действий Бонна: «…мы абсолютно согласны с вашей политикой сближения с СССР и все что пишется в немецкой и французской прессе – абсурд. В немецкой прессе говорят иногда о страхе французов перед этим сближением, а французская утверждает, что ФРГ хочет занять позиции Франции. Все это похоже на шутку. Мы хотим…чтобы Европа имела возможность развиваться и жить в мире. Мы согласны с вами, и я готов повторить всем, что я поддерживаю вашу политику» [4]. Однако, несмотря на официальную поддержку, все же Франция настороженно воспринимала такую внешнеполитическую активность своего восточного соседа. Например, в сентябре 1971 г. Помпиду, касаясь очередной поездки Брандта в СССР и недостаточной информированности Франции по этому вопросу, недовольно заметил, что «франко-германский договор о сотрудничестве 1963 г. предполагает больший объем предварительной информации» [8, p. 158].
Таким образом, новая «восточная политика» представляла для Франции как крат- косрочные дивиденды в виде продолжения разрядки международной напряженности и более интенсивного торгового оборота со странами социалистического блока, так и потенциальные проблемы в будущем в виде возможного воссоединения Германии в случае установления слишком тесных отношений между ФРГ и ГДР. Действительно, активность Бонна на восточном направлении оживила среди французов забытые страхи перед мощью немецкого государства. Отношение Франции к внешнеполитической активности Бонна было двояким. Помпиду поддерживал Брандта, пока его деятельность способствовала разрядке. Однако, французский президент всегда призывал к осторожности и осмотрительности, опасаясь, что нормализация отношений между Востоком и Западом зайдет слишком далеко. Социалистический блок представлялся на тот момент достаточно монолитным, а значит, возможное решение германского вопроса и воссоединение Германии могло пойти по пути нейтрализации будущего единого государства, что было неприемлемо для Франции.
Очень важной составляющей франкозападногерманского сотрудничества была экономическая тематика. Именно возрастающая экономическая мощь ФРГ предопределяла действия Франции не только в двусторонних отношениях с Западной Германией, но и в европейской политике в целом.
Для Помпиду так называемое «экономическое чудо» ФРГ было серьезной проблемой. Он прекрасно понимал, что доминирование Бонна в европейской экономике в конечном счете приведет и к политическому лидерству. Амбициозные цели по резкому увеличению промышленного потенциала Франции, поставленные Помпиду перед французской экономикой, были вызваны страхом перед западногерманской экономической мощью.
Программа Помпиду предполагала резкое увеличение объемов торговли между двумя государствами, а также развитие промышленного, научного и технологического сотрудничества. Французская экономика, вступившая на путь реиндустриа- лизации, нуждалась в росте инвестиций, а также в рынках для реализации своей продукции. В этом смысле именно развитие отношений с ФРГ должно было решить поставленную задачу. Помимо чисто экономических причин, интенсификация двусторонних контактов с ФРГ имела и ряд политических целей. Во-первых, тесное экономическое взаимодействие должно было облегчить контроль Франции за внешнеполитической деятельностью ФРГ, особенно в рамках новой «восточной политики». Во-вторых, французское руководство считало необходимым как можно больше интегрировать западногерманскую промышленность в экономику «единой Европы». Такая политика должна была способствовать европейской интеграции, а также осложнить сближение между ФРГ и СССР.
Для успешного развития экономического сотрудничества с ФРГ Франция нуждалась в решении ряда проблем, накопившихся к моменту прихода Помпиду к власти. Несмотря на рост общего объема торговли, Франция традиционно имела отрицательный баланс в отношениях с Бонном. Так, в 1969 г. дефицит торгового баланса Франции достиг 4 миллиона 165 тыс. франков, что составило 34% от общего дефицита Франции. В 1970 г. эта цифра увеличилась до 45,2%. Подобное неравенство тормозило развитие двустороннего экономического сотрудничества. Качественный состав экспорта и импорта был также не в пользу Франции. Доля готовой продукции во французском экспорте в ФРГ в 1969 г. составляла всего 41,9%, тогда как в импорте – 61,8% [6].
Несмотря на серьезный дефицит, Франция оставалась первым клиентом и поставщиком ФРГ. Однако, и здесь наметилась неприятная для Парижа тенденция. Если еще в 1969 г. на долю Франции приходилось 13% западногерманского внешнего рынка, то в 1970 г. – уже 12,7%. В это же время Нидерланды увеличили свои показатели с 11,6 до 12,2% [6].
Еще одной серьезной проблемой двустороннего экономического сотрудничества было то, что большинство немецких инвестиций во французскую экономику шли в приграничные регионы, прежде всего в Эльзас и Лотарингию, что нарушало внутренний баланс французской экономики. Комментируя сложившуюся ситуацию, Помпиду в разговоре с канцлером Кизин-гером 8 сентября 1969 г. отметил, что немецкие инвестиции должны распределяться более ровно по территории Франции [9, p. 75].
Не способствовала развитию сотрудничества и структурная разница в экономиках Франции и ФРГ. Во Франции традиционно был достаточно сильный государственный сектор, что облегчало вмешательство государства в экономику, тогда как экономика ФРГ гораздо в большей степени зависела от частного сектора. В дальнейшем при реализации крупных совместных проектов именно структурная разница в экономиках осложнит франкозападногерманские отношения.
Несмотря на выше перечисленные трудности, президентская программа Помпиду в качестве одной из главных целей предполагала развитие промышленного сотрудничества именно с ФРГ. Особое внимание должно было быть уделено авиационной и космической индустрии, а также вооружению.
На протяжении всего президентства Помпиду между Францией и ФРГ шли тяжелые переговоры по созданию крупнейшей европейской авиационной корпорации – Эйрбас (Airbus). Ее история началась еще в 1967 г. как общеевропейская попытка по созданию, прежде всего, конкурентоспособной гражданской авиации. Тогда в этом проекте принимали участие Франция, ФРГ и Великобритания. В 1969 г. Великобритания вышла из проекта, а ФРГ, наоборот, увеличила свое участие, доведя свою долю в финансировании до 50%. В том же году на авиасалоне в Ле Бурже Франция и ФРГ подписали соглашение о разработке первого самолета – А300Б1 на 226 мест.
Вся дальнейшая история создания Эй-рбас будет результатом именно франкозападногерманского сотрудничества. Для Помпиду этот проект имел принципиальную важность. Он позволял в будущем нарушить гегемонию США и фирмы Бо- инг в сфере гражданской авиации и создать подлинно европейскую авиационную промышленность. На протяжении всего своего президентства Помпиду практически в каждой встречи с представителями ФРГ поднимал тему Эйрбас.
В реализации крупнейшего авиационного проекта в полной мере проявилась структурная разница в экономике соседей по Рейну. Французское руководство, понимая, что выйти на мировой авиационный рынок для новой компании будет крайне сложно, предлагало различные варианты государственной поддержки Эй-рбас. Так, например перманентный рост зарплат в Европе приводил к постепенному удорожанию потенциальной стоимости самолетов еще до начала их производства. Франция предлагала установить твердые цены на продукцию компании, а возникшую разницу в стоимости покрывать из государственного бюджета. Для французской экономики с ее сильным государственным сектором в такой инициативе не было ничего нового, однако, для либерально-ориентированной экономики ФРГ это было практически невозможно. Также ФРГ отказывалась от использования предложенной Францией системы передачи новых самолетов в лизинг, что должно было облегчить формирование портфеля заказов для Эйрбас, и от предоставления налоговых льгот, используемых во французской экономике в аналогичных случаях. Основная же трудность заключалась в том, что между Парижем и Бонном не существовало договоренности по способу финансирования проекта и предоставления государственных гарантий на продажу будущих самолетов.
Тем не менее, проект продолжал реализовываться. В сентябре 1970 г. компания «Эйр Франс» осуществила первый предварительный заказ на 6 самолетов серии А300Б2 (удлиненная версия лайнера А300Б1). К середине 1971 г. между Францией и ФРГ уже существовал согласованный долгосрочный план развития Эйрбас. Он предполагал, что первый полет состоится в конце 1972 г., а необходимые навигационные сертификаты будут получены в 1974 г. [9, p. 106-107].
В октябре 1972 г., на месяц раньше запланированного срока, состоялся первый пробный полет лайнера А300Б1. А в 1973 г. французской и западногерманской сторонам удалось, наконец, договориться в вопросе о финансировании проекта. В июне 1973 г. Брандт в разговоре с Помпиду даже отметил, что «Люфтганза» сделала больше заказов, чем «Эйр Франс» [5].
В 1974 г., в полном соответствии с установленным графиком, Эйрбас получил навигационные сертификаты, а в мае 1974 г., спустя два месяца после смерти Помпиду, состоялся долгожданный первый официальный полет лайнера А300Б1 из Парижа в Лондон. Сегодня Эйрбас является одной из двух крупнейших в мире авиационных корпораций.
Гораздо тяжелее развивалось двустороннее сотрудничество в космической сфере. Для Помпиду космос, как и авиация, был важной составляющей построения «европейской Европы» и имел не столько экономическое, сколько политическое значение. В разговоре с Брандтом в январе 1973 г. французский президент отметил: «…я убежден, что несмотря на все трудности, необходимо иметь подлинно европейскую космическую политику…мы не можем отдать космос на откуп американцам или русским» [5].
Правительство ФРГ, напротив, рассматривало космическую проблему с экономической точки зрения. Оно выступало за участие в американской программе ПостАполло, считая, что только европейских усилий не хватит для достижения результата. Помимо политических между странами были и разногласия тактического плана. ФРГ в большей степени выступала за проведение фундаментальных исследований в космосе, тогда как Париж прежде всего интересовали разработки в области телекоммуникации [6]. В одной из своих многочисленных бесед с канцлером ФРГ Помпиду сказал следующее: «…мне кажется, что отказ от возможности иметь телекоммуникационные спутники стал бы серьезным поражением для Европы. Я прекрасно понимаю, что это дорого и что с технической, экономической и индустриальной точки зрения было бы проще ку- пить у США…Но нам кажется, что политика в данном случае важнее экономи-ки…европейское присутствие в этой области необходимо, иначе мы будем зависимы от других. Очевидно, лучше зависеть от американцев, чем от русских, но в таком случае не может быть «европейской Европы» [4].
Исследования космоса в ЕЭС начались еще в 1960-е гг. Проект по созданию первой ракеты-носителя Европа-1 получился действительно европейским. В нем приняли участие Франция, ФРГ, Великобритания, Италия, Бельгия и Нидерланды. Всего произошло десять запусков подобных ракет. Последние пять попыток, произведенные в период с августа 1967 по июнь 1970 гг. оказались неудачными. Попытка запустить в ноябре 1971 г. следующую версию ракеты-носителя Европа-2 также закончилась неудачей. Помпиду в разговоре с Брандтом в декабре 1971 г. отметил: «Ужасный провал Европы-2 доказывает, что система, при которой ракета сооружается с британской первой ступенью, немецкой второй, французской третьей и итальянской или голландской четвертой ступенью, не работает. Необходимо это учесть и объединить техническое и промышленное управление» [4]. Ситуацию, при которой разработка важнейших космических проектов происходит при участии большого количества стран без общего управления, Помпиду считал недопустимой. Тем более, что еще задолго до запуска Европы-2 в 1971 г. Великобритания и Италия объявили о желании выйти из проекта. В дальнейшем европейское исследование космоса станет, по сути, сферой двустороннего сотрудничества между Францией и ФРГ.
Начиная с декабря 1971 г. главным в европейской космической сфере будет вопрос о продолжении разработки европейских носителей и о возможном участии в различных американских программах. Франция продолжала настаивать на финансировании подлинно европейских разработок, по-прежнему руководствуясь политическими соображениями. Речь шла о создании Европы-3, которая по задумке французов должна была стать уже продук- том именно франко-западногерманского сотрудничества. Что касается ФРГ, то там скептически относились к продолжению европейских разработок. Правительство Бонна, считая, что на разработку успешных европейских проектов, потребуется много времени, склонялось к участию в американской программе Пост-Аполло.
Определяющим во франкозападногерманских переговорах стал 1973 год. В апреле Франция и ФРГ объявили о приостановлении программы Европа-3, но это не означало прекращения европейских космических исследований. Двум сторонам удалось прийти к компромиссу: ФРГ согласилась на 20% финансировать дальнейшую разработку французских ракет-носителей, в то время как, Франция помимо разработки своих проектов, согласилась на участие вместе с другими европейскими странами в американской программе Пост-Аполло. В целом, такой исход переговоров оказался очень удачным. Европейцы получили быстрый доступ к американским технологиям, но при этом Франция при помощи ФРГ смогла реализовать и европейский проект по созданию ракеты-носителя, получивший название Ариан. Первый запуск Ариан-1 произошел в декабре 1979 г.
Таким образом, двусторонние отношения в космической сфере развивались сложнее, чем в авиационной. В период президентства Помпиду так и не удалось осуществить серьезные космические проекты. Однако, в это время был заложен фундамент для реализации в будущем программы Ариан, ставшей на долгие годы символом европейских исследований космоса.
В целом, экономические отношения между Францией и ФРГ развивались непросто. Однако, взаимная заинтересованность и регулярность контактов между представителями Франции и ФРГ в самых разных экономических областях среди прочего позволили сохранить европейскую космическую промышленность и дать толчок к созданию европейской гражданской авиации. Интенсификация двустороннего сотрудничества также привела и к ускорению развития собственно французской экономики. За годы президентства Помпиду во Франции наблюдался устойчивый экономический рост примерно в 5%. Однако, напомним, что главная цель так называемой французской реиндустриализации, предпринятой Помпи- ду, все же заключалась в ликвидации отставания в развитии французской промышленности от западногерманской. Эту задачу Помпиду, как и все последующие президенты Пятой республики, решить не смог.
Список литературы Отношения между Францией и ФРГ в период президентства Жоржа Помпиду
- Павлов Н.В. История современной Германии. 1945-2005. - М., 2006.
- Симычев М.К. Соседи по Рейну вчера и сегодня. - М., 1988.
- Abadie F., Corcelette J.-P. Georges Pompidou. - P., 1994.
- Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne. № 2996.
- Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne. № 2997.
- Archives du ministère des affaires étrangères. Allemagne. № 3000.
- Jobert M. Mémoires d'avenir. - P., 1974.
- Pompidou G. Entretiens et Discours. II. - P., 1975.
- Schirmann S., Mohamed-Guillard S. Georges Pompidou et l'Allemagne. - Bruxelles, 2012.