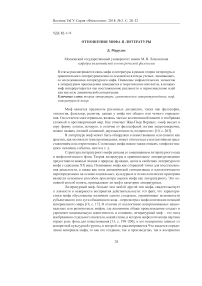Отношения мифа и литературы
Автор: Марулис Дионисиос
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается связь мифа и литературы в рамках теории литературы и сравнительного литературоведения со ссылкой на взгляды ученых, занимающихся исследованиями литературного мифа. Появление мифологических элементов в литературном произведении помещается в теоретические контексты, в которых миф интерпретируется как восстановление реальности и переосмысление идей или как поле динамической сигнализации.
Теория литературы, сравнительное литературоведение, миф, литературный жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/146281286
IDR: 146281286 | УДК: 82-1/-9
Текст научной статьи Отношения мифа и литературы
Миф является предметом различных дисциплин, таких как философия, этнология, фольклор, религия, однако у мифа нет общего или четкого определения. Он остается многогранным, являясь частью коллективной памяти и изображая сложный и противоречивый мир. Как отмечает Жан-Пьер Вернант, «миф вводит в игру форму логики, которую, в отличие от философской логики непротиворечия, можно назвать логикой сомнений, двусмысленности, полярности» [10, с. 263].
В литературе миф может быть обнаружен в повествовании или сюжете как архетип, как мотив или тема произведения, может относиться к коллективным представлениям или стереотипам. С помощью мифа можно также описать «мифологизацию» человека, события, места и т. д.
Структура литературного мифа связана со смешиванием литературного кода и мифологического фона. Теория литературы и сравнительное литературоведение предоставили важные знания о природе, функции, целях и свойствах литературного мифа с середины ХХ века. Понимание мифа как отправной точки для восстановления реальности, а также как поля динамической сигнализации и идеологического переопределения на основе социальных, культурных и психологических критериев является основным способом просмотра оценки мифа как литературного . Это основной способ понять, принадлежит ли миф к категории литературных.
Литературный миф, больше чем любой другой тип мифа, свидетельствует о ложности и неверности восприятия действительности: тот факт, что характеристики мифа обусловлены наличием одного создателя, ограничивает возможности субъективного и по сути обманчивого кода – пересмотра с мифологических позиций материального мира [14, с. 17]. В отличие от коллективно воспринимаемых национальных или религиозных мифов, где анонимное общее происхождение создает и укрепляет национальную идентичность и сознание, литературный миф – это плод воображения отдельного писателя, некий сплав, в котором мифологическая паутина играет роль фона для повествования [13, с. 199–200], и его восприятие зависит от конкретной культурной группы, в которой он рассматривается Что касается определения материала мифа, то как его создание, так и производство, так и восприятие связаны с феноменом интертекстуальности. Изготовление мифологического полотна было и во многих случаях по-прежнему остается результатом коллективной работы, в то время как создание литературного мифа является плодом индивидуального творчества. С другой стороны, в то время как древние мифы имели устную форму, с распространением письменности стало преобладать письменное воспроизведение мифов. Эта тенденция привела к умалению и, в конечном счете, к десакрализации священного содержания, с которым ритуал мифа был неразрывно связан. Священное содержание мифологического повествования сохранило в своих литературных проекциях только свой трансцендентальный характер. Когда миф становится литературным материалом, он разрушается, а его соответствующие компоненты превращаются в личный миф автора. Однако созданный автором литературный миф не является единственным в своем роде. У него есть множество вариантов, а также литературных реконструкций. Писатель, приписывающий мифу свое личное видение, рассматривает все предыдущие варианты использования мифа. Это дает литературному мифу ложную перспективу и устанавливает чрезмерный «сигнал» мифологического кода. Идет ли речь о мифологических персонажах, о ситуации, о мифологических символах – упоминание одного из них вызывает диалог со всеми мифологическими или литературными моделями.
Важный вопрос заключается в следующем: можно ли считать литературой воспроизведение старых мифов и создание новых или же литературой является сам миф? На этот вопрос было получено много разных ответов. В частности, Бронислав Малиновский считает, что литература является рождением мифа [8, с. 118], Регис Бойер утверждает, что нет такого мифа, который бы не являлся литературным [5, с. 162], Ричард Чейз считает миф истоком литературы, в частности, литературным воспроизведением человеческой драмы [11, с. 109]. И если Сиафлекис говорит в этом контексте о постоянной конкуренции между мифом и литературным воспроизведением внешнего мира [14], то, по мнению Роланда Барта, поэзия противопоставляется мифу, потому что миф «направлен на чрезмерные “сигналы”, на расширение первичной системы, в то время как поэзия скорее склонна к незначительным “сигналам” и состоянию языка» [3, с. 212].
Эти противоположные позиции объясняются не только различными взглядами исследователей на мифологию и литературу, но и тем фактом, что в принципе не существует единого мнения относительно того, что такое миф. Один из способов снять вопросы, связанные с мифом и его отношением к литературе, – отделить «миф» как продукт устной традиции от мифа, который является частью письменной традиции.
Миф является в этом контексте устной историей, общим наследием человечества, которое сохранилось в коллективной памяти и которое, по словам Мирча Элиаде, излагает «сакральную историю», рассказывает о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал» [14, с. 16]. Это повествование о богах и сверхъестественных существах, повествование, связанное с началом и созданием мира, и повествование, связанное с ритуалами. В отличие от мифа, литературный миф – это рассказ, который может уходить своими корнями в устную традицию, однако уже представляет собой письменный текст, подвергнутый другим преобразованиям. То есть мифологический материал, с которым мы сталкиваемся в произведениях Софокла, Гесиода, Овидия, должен рассматриваться как литературный миф, а не только как миф.
В современную эпоху подражание стандартам, требуемым Горацием в “Ars Poetica”, сочинении, которое вместе с «Поэтикой» Аристотеля легло в основу поэ- зии эпохи Возрождения, позволило использовать греко-римские мифы не только в трагедии, но и в других литературных жанрах. Этому также способствовала принятая с XV века и далее интерпретация Аристотеля, в «Поэтике» которого термин «миф» играет важную роль. Если, согласно Аристотелю, миф восходит к внутренней проблеме каждой трагедии, обеспечивая ее связность и сюжет, то есть суть трагедии, которая должна иметь внутреннюю согласованность и быть логически выстроенной, тогда «мифический» (fabulosum) означает для критиков итальянского Возрождения, находящихся под влиянием Горация, «воображаемый», «фантастический» [12, с. 201].
Одновременно с этим поэзия должна изображать идеал, то есть выявлять закономерности и в то же время идеализировать их. Таким образом, подражание теперь означает подражание идеалу, образцу, поскольку цель литературы – это изображение только возвышенного, лучшего, истинно нравственного мира. Тот факт, что мифы редко ссылались на возвышенную или истинно нравственную реальность, не помешал писателям того времени использовать их. Более того, они могли полагаться на аллегорическую интерпретацию мифа, истоки которого уходили в древность. «Морализация» мифа наряду с его эластичной аллегорической интерпретацией позволили Эразму, например, утверждать, что «мы можем найти больше религиозности в некоторых мифах о нравственности (в качестве примера он приводит Цирцею, Тантала, Сизифа и подвиги Геракла), чем в тщательном чтении Библии» [13, с. 48].
В эпоху Просвещения, когда к мифу относились с пренебрежением, как к продукту раннего развития человечества и примеру примитивной мысли, Кристиан Хейн первым дал ему новое качество, поставив под сомнение его вымышленную основу. В то же время Иоганн Гердер под влиянием Джамбатиста Вико, видевшего язык поэзии в мифе, который был не чем иным, как результатом отношений человека и природы, побуждал поэтов использовать мифы в качестве первоосновы. Гердер повлиял не только на движение романтизма, в рамках которого было сформулировано требование о создании новой мифологии посредством литературы, а концепция мифа была связана с построением национальной идентичности, но также усилил общий интерес к индийской мифологии и мифологии Дальнего Востока [9, с. 332–333].
Кроме того, с Максом Мюллером, санскритологом и теоретиком мифа, связано возрождение научного интереса к мифу в Англии и во Франции, что привело к созданию сборника Джеймса Джорджа Фрейзера «Золотая ветвь» и способствовало признанию важности мифологического материала [14, с. 5], а также повлияло на Зигмунда Фрейда, который использовал миф в качестве инструмента для анализа психических механизмов. Психоаналитическое отношение к мифу, связавшее мечту с мифом, оказало большое влияние на литературу. Мечта и миф, связанные у Фрейда с памятью и забвением, становятся важными компонентами модернистской поэзии, на которую влияет не только психоанализ, но и социологические теории школы Дюркгейма и которая, восставая против господствующего рационализма буржуазии, стремится, среди прочего, к мифологизации искусства [9, с. 338].
Реакция на демифологизацию, которую принесли с собой Просвещение и XIX век, привела к тому, что XX век не только подчеркивал мифологическую природу литературы, но и видел в мифе способ выйти из «диктатуры реальности» [4, с. 9], способ преодоления диктатуры реальности. Однако возможно, что миф – это не способ ухода от реальности, а способ возвращения в реальность через другую «дверь». Может быть, это только лингвистическое изображение «набора отношений», которое является более сложным, чем в любом другом языковом способе выражения
[7, с. 261]; или это преобразование лингвистической системы в фактическую, как утверждает Роланд Барт; или, как предлагает Жан-Пьер Вернант [3, с. 232], носитель «логики, которая не будет иметь двойственности “да или нет”, логики, отличной от логики разума» [10, с. 263]; или это просто создание многогранного, «вневременного» послания, которое включает в себя множество различных обликов, формулировок и постоянно находит перевозчиков, розничных торговцев и получателей.
В завершение отметим, что миф постоянно воспроизводится, трансформируется и перерабатывается, а межтекстовые обозначения в значительной степени связаны с формой изображения мифологического сценария и аллегорической гибкостью, как с текстовым преимуществом мифологического материала, и выбором подходящего литературного жанра в каждом случае. Первое относится к эстетической оценке литературного произведения, второе – к многомерному измерению мифологического сюжета, а третье – к конкретным условиям успеха межтекстовых представлений в соответствующем литературном жанре.
Список литературы Отношения мифа и литературы
- Агбунов М. Античные мифы и легенды: Мифологический словарь. М.: МИКИС, 1993. 368 с.
- Леви-Стросс К. Структура мифа//Вопросы философии. 1970. № 7. С. 152-164.
- Barthes R. Μυθολογίες. Μάθημα. Αθήνα: Κέδρος, 1979. 272 p.
- Blumenberg H. Arbeit am Mythos. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. 699 p.
- Boyer R. Existe-t-il un mythe qui ne soit pas litteraire?//Mythes et literature/Ed. By Pierre Brunel. Paris: Presses de l’Universite de Paris-Sorbonne,1994. Pp. 153-164.
- Derrida J. White Mythology//Metaphor in the Text of Philosophy/New Literary History 3, 1974. Pp.5-74.
- Levi-Strauss C. Δομική ανθρωπολογία. Αθήνα: Κέδρος, 2010. 488 p.
- Malinowski B. Myth in Primitive Psychology. London: Kegan Paul Trench Trubner, 1926. 326 p.
- Muller E. Mythos -mythisch -Mythologie//Asthetische Grundbegriffe/Ed. By K. Barck, M. Fontius, D. S. Schlenstedt. Germany: Metzler, 2002. Pp. 309-346.
- Vernant J. P.Μύθος και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2005. 279 p.
- Vickery J. B. The Literary Impact of The Golden Bough. Princeton: Princeton University Press, 1973. 466 p.
- Ιωακειμίδου Λ. Ο λογοτεχνικός μύθος από τον γαλλικό συγκριτισμό στη νεοελληνική κριτική. Ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής. Αθήνα: Σοκόλης, 2014. 201 p.
- Σιαφλέκης, Ζ. Ι. Η εύθραυστη αλήθεια. Εισαγωγή στη θεωρία του λογοτεχνικού μύθου. Αθήνα: Gutenberg, 1998. 132 p.