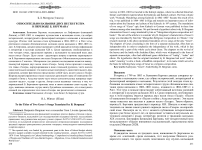Относительно названия двух песен Гесера в переводе Б. Бергмана
Автор: Митруев Бембя Леонидович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 2 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
Бениамин Бергман, исследователь из Лифляндии (нынешней Латвии), в 1802-1803 гг. совершил путешествие в калмыцкие степи, где собрал исторический, литературный и фольклорный материал о калмыках и калмыцкой культуре. Итогом этой поездки стала публикация в 1804-1805 гг. в Риге четырехтомного издания «Кочевнические скитания среди калмыков в 1802-1803 годах» Б. Бергмана, доныне представляющего собой важный источник информации о литературе и культуре калмыков XIX в. Среди переводов, опубликованных в этих четырех томах, представлен перевод с калмыцкого на немецкий язык двух песен эпоса «Гесер». Цель статьи - рассмотреть вопрос о причине характеристики Б. Бергманом переведенных им песен Гесера как «Монгольского религиозного сочинения в 2 книгах». Материалом для данного исследования является вышеупомянутый перевод двух песен эпоса «Гесер». Автор статьи приходит к выводу, что главы «Гесера», циркулировавшие в виде отдельной рукописи, часто носили самостоятельное название, что имело целью подчеркнуть самостоятельность произведения, которое фактически представляло собой часть целого цикла о Гесере. Широко распространенные в виде отдельных рукописей главы об оживлении богатырей и битве с Андулма-ханом часто имели дополнительные жанровые определения «цадиг», «судар» и другие. Автор статьи выдвигает гипотезу о том, что переведенный Б. Бергманом оригинал имел в своем названии слово «судар / судур», имеющее значение «сутра, книга, буддийское сочинение», что и послужило основой для определения этих песен «Гесера» как религиозного сочинения.
Калмыкия, "гесер", тодо бичиг, б. бергман, сутра
Короткий адрес: https://sciup.org/149135840
IDR: 149135840 | DOI: 10.24411/2072-9316-2021-00062
Текст научной статьи Относительно названия двух песен Гесера в переводе Б. Бергмана
В период с 1799 по 1803 гг. Бениамин Бергман дважды совершил путешествие в калмыцкие степи, где собрал исторический, литературный и фольклорный материала о калмыках. Результатом этой поездки стала публикация на немецком языке четырехтомного труда «Кочевнические скитания среди калмыков в 1802-1803 годах», изданного в 1804-1805 гг. в Риге. Этот труд и поныне представляет собой важный источник сведений о литературе и культуре калмыков XIX в. Среди переводов, опубликованных в этом издании, имеется перевод двух песен эпоса «Гесер»: «Песни об оживлении богатырей» и «Песни о войне с Андулма-ханом». Эти песни также известны как восьмая и девятая песни «Гесера». Таким образом, перевод Б. Бергмана предшествует переводу Я.И. Шмидта и может претендовать на звание самого раннего перевода песен «Гесера» на европейский язык. Несмотря на то, что с момента публикации четырехтомника прошло уже более двухсот лет, он продолжает оставаться актуальным источником сведений о языке, литературе, религии и традициях калмыков XIX столетия. Биография Бениамина Бергмана, чей четырехтомный труд незаслуженного обделен вниманием исследователей, представлена нами отдельно [Митруев 2020].
Основная часть
В двадцатом письме из тридцати семи, написанных Б. Бергманом во время его «скитаний» среди калмыков, этот выпускник Йенского университета пишет, что среди людей, помогавших ему изучать калмыцкий

язык, был не кто иной, как старший сын наместника Калмыцкого ханства Чуче-тайши по имени Эрдни, впоследствии ставший правителем Мало-дербетовского улуса Калмыцкой степи. Вот слова самого Б. Бергмана: «Старший сын князя проводит целые часы, записывая для меня по памяти героическую калмыцкую поэму» [Bergmann 1805, 250-251].
В том же письме Б. Бергман рассказывает о том, как поздно вечером наместник пригласил его в свою кибитку послушать исполнение героического эпоса: «Войдя, я заметил у входа старого калмыцкого музыканта, который пел, аккомпанируя себе на домбре. Бродячий певец, сидя на пятках, пел уже долго и с таким усилием, что он едва владел своим голосом, но в длинной песне было столько мелодичности, столько ритма, что я был поражен, увидев такое совершенство у калмыка. Мое удивление было приятно наместнику» [Bergmann 1805, 257-258]. Заинтересованный Б. Бергман пытается выяснить у исполнителя объем произведения, которым тот владеет: «Когда певец заканчивал часть, он либо выпивал чашку черного чая, чтобы освежить горло, либо делал пару затяжек из трубки, затем снова брал домбру и продолжал пение. Я воспользовался одним из перерывов и спросил его, о чем идет речь в его песне. Он ответил: “Героическая сказка”. Я спросил, много ли он знает этого [эпоса]? “Да, - ответил он, - довольно много, лишь бы голос меня не подвел”» [Bergmann 1805, 258].
Исследователь в Б. Бергмане тут же начинает строить планы записать эти героические песни и составить из них коллекцию: «Если со временем я завоюю дружбу этого певца, а в этом я ничуть не сомневаюсь, пока табак и водка остаются главными кумирами калмыков; и если я достаточно продвинусь в [изучении] калмыцкого языка, чтобы понимать песни, которые он мне будет исполнять, то я постараюсь собрать из них целую коллекцию; и продолжу собирать до тех пор, пока либо Полигимния не утомится от певца, либо мое желание слушать его не остынет. Даже если из подобных поэтических произведений невозможно извлечь результаты, важные для истории Калмыкии, все же не следует пренебрегать подобной возможностью, раскрывающей в ярком свете калмыцкий образ мышления» [Bergmann 1805, 258-259].
Может показаться странным, что такой исследователь, как Б. Бергман, нигде в письмах не упоминает названия эпоса, тем не менее автор не раскрыл эту тайну. В четырехтомном труде, содержащем, вероятнее всего, все результаты пребывания в калмыцкой среде, опубликованы переводы двух песен «Гесера» и одной песни «Джангара». Любой из них подходит название как «героической сказки» ночного певца, так и «героической калмыцкой поэмы» сына наместника.
Годы обучения в университетах Лейпцига и Иены повлияли на и без того пытливый ум Б. Бергмана, поэтому он методично заносил в свои путевые заметки все важные события, происходившие с ним в среде калмыков. Он описывает всех, кто помогал ему в изучении калмыцкого языка, однако в его дневниках нет упоминания записи героических песен у какого-либо сказителя. Это заставляет нас предположить, что Б. Бергману

не удалось записать «героические сказки» у исполнителя в ставке наместника. Из описания той встречи очевидно, что рапсод посетил наместника лишь проездом, о чем свидетельствует его внезапное появление и нежелание наместника отпускать его до поздней ночи. Опубликованный Б. Бергманом перевод песни «Джангара» озаглавлен «Героическая песня из Джангариады» - «Ein Heldengesang aus der Dschangariade» [Bergmann 1805, 182-214]. В отличие от «Героической песни из Джангариады», две песни из «Гесера» помещены под заголовком «Богдо Гесер-хан. Монгольское религиозное сочинение в 2 книгах» - «Bokdo Gassarchan. Eine mongo-lische Religions schriftin 2 Biichern» [Bergmann 1804, 232-284]. To есть песни из «Гесера» названы «религиозным сочинением», состоящим из «двух книг». Такое название не может не навести на мысль о письменной форме данного произведения. Записи же, сделанные по памяти для Б. Бергмана сыном Чуче-тайши - Эрдни, названы «героической калмыцкой поэмой». Различие в жанровой атрибуции очевидно, но невозможно и игнорировать схожесть содержания «Джангара» и «Гесера». Никто не станет отрицать, что, при всех различиях, и первый, и второй являются героическими эпо-сами. Откуда же проистекает такое разительное различие в атрибуции? Более того, религиозный характер двух песен «Гесера», опубликованных в переводе Б. Бергмана, совсем не очевиден. Три раза упоминается Будда Шакьямуни, приблизительно столько же - Хурмуста, но достаточно ли этого, чтобы считать текст песен «религиозным сочинением»? Совершенно очевидно, что нет.
Опыт показывает, что одни и те же произведения монгольской литературы и фольклора могут причисляться к различным жанрам. Это явление можно объяснить нечеткостью жанровых определений и синкретизмом многих источников старой монгольской литературы [Хундаева, Бадмацы-ренова 2016, 169].
В старой монгольской литературе происходит смешение художественных текстов с историческими сочинениями, реальных лиц - с литературными героями. Внимание уделяется лишь чисто внешним материальным признакам. Так, монгольский термин «судар» (‘сутра’) означает книгу в виде несброшюрованных отдельных листов. Нередко литературное произведение могло быть названо «сутрой» исходя лишь из физической формы текста. В силу того, что новые жанры сформировались недавно, субъективные данные о жанре не были до конца определены, существуют различия в характеристике одного и того же произведения разными лицами [Хундаева, Бадмацыренова 2016, 169].
Сказанное верно и в отношении к монгольскому «Гесеру». Его главы традиционно жанрово атрибутируют как «тууж» ‘повесть, сказание’. Названия варьируются, но основным жанровым определением остается «тууж». Тем не менее наряду с этим определением нередки случаи употребления других названий: «цадиг» ‘жизнеописание’; «судар» ‘сутра, книга, буддийское сочинение’; «намтар» ‘биография, описание жизни и деятельности известной личности’; гораздо реже встречается название «шастар /
шастир» ‘поучение, трактат, шастра’. Это особенно верно в отношении к главам «Гесера», представленным отдельной рукописью с самостоятельным названием. По всей видимости, одной из причин появления нетипичных жанровых определений, таких как судар, шастра, намтар, цадиг и других, послужило желание подчеркнуть самостоятельность произведения, фактически представляющего собой лишь часть целого (цикла о Гесере). Таким образом, в виде отдельных рукописей в основном распространены главы об оживлении богатырей и битве с Андулма-ханом, они чаще, по сравнению с другими главами «Гесера», имеют дополнительные жанровые определения «цадиг», «судар» и другие. Например, «шойтеровская» рукопись или «рукопись об Андулмахане» [Хундаева, Бадмацыренова 2016, 169]. Другой пример - рукопись М-П-827 (Ау-а deger-e Estirin Qurmusta tngri-yin kobiigun qubilgan bey-e-tii Geser bogda qagan tuuji kemegdekti yeke kiilinggin sudur orsiba), хранящаяся в Центре восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ) под шифром Ф. М-П. Название этого текста соединяет в себе и жанровое определение «йэкэ кулгэн судар» (сутра «великой колесницы») и «тууж» [Хундаева, Бадмацыренова 2016, 170].
Заключение
Можно предположить, что переведенные Б. Бергманом песни об оживлении богатырей и битве с Андулма-ханом бытовали среди калмыков так же, как в Монголии, в виде отдельных рукописей и имели дополнительные жанровые определения «цадиг», «судар» и другие. Это могло бы объяснить, почему Б. Бергман назвал песни «Гесера» «монгольским религиозным сочинением».
Список литературы Относительно названия двух песен Гесера в переводе Б. Бергмана
- Митруев Б.Л. Б. Бергман и его труд о калмыках и калмыцкой культуре // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2020. № 4. С. 176-202.
- Неклюдов С.Ю., Тумурцерен Ж. Монгольские сказания о Гесере. Новые записи. М.: Наука, 1982.
- Хундаева Е.О., Бадмацыренова Д.Б. Текстология списков о Гэсэре на старомонгольской письменности // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 11-1 (65). C. 168-172.
- Чагдуров С.Ш. Происхождение Гэсэриады. Опыт сравнительно-исторического исследования древнего словарного фонда. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1980.
- Оерд Геср. Шинжэнэ еерднрин баатрльг дуулвр (= Ойратский Гесер: Героический эпос синьцзянских ойратов). Элиста: КИГИ РАН, 2014.
- Bergmann B. Nomadische Streifereien unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803. Dritter Theil, Riga: C.J.G. Hartmann, 1804.
- Bergmann B. Nomadische Streifereien unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803. Vierter Theil. Riga: C.J.G. Hartmann, 1805.