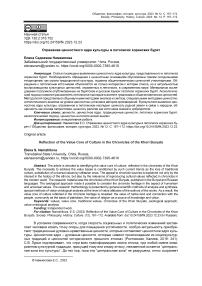Отражение ценностного ядра культуры в летописях хоринских бурят
Автор: Намжилова Е.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена выявлению ценностного ядра культуры, представленного в летописях хоринских бурят. Необходимость обращения к ценностным основаниям обусловлена такими сегодняшними тенденциями, как утрата традиционной культуры, подмена общечеловеческих ценностей утилитарными. Обращение к летописным источникам объясняется не только интересом к истории этноса, но и актуальностью воспроизводства культурных ценностей, отраженных в летописях, в современном мире. Материалом исследования послужили опубликованные на бурятском и русском языках летописи хоринских бурят. Аксиологический подход позволил рассмотреть летописное наследие в аспекте гуманизма и общечеловеческих ценностей. Методология представлена общенаучными методами анализа и синтеза, специальными методами ценностно-онтологического анализа на уровне ценностных установок авторов произведений. В результате выявлено ценностное ядро культуры, отраженное в летописном наследии: ценность родной земли и связи с народом, общинность как основа патриотизма, ценность религии как источника знаний и добродетели.
Ценности, ценностное ядро, традиционные ценности, летописи хоринских бурят, аксиологический подход, ценностно-онтологический анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/149144741
IDR: 149144741 | УДК: 130.2:316.752 | DOI: 10.24158/fik.2023.12.23
Текст научной статьи Отражение ценностного ядра культуры в летописях хоринских бурят
Забайкальский государственный университет, Чита, Россия, ,
,
свою идентичность, каковы бы ни были внешние формы выражения этой идентичности»1. Как отмечает польский социолог Л. Дычевский, ценность автоматически считается чем-то положительным, но в культуре, созданной человеком, есть ценности и отрицательные (Dyczewski, 2016: 147), которые при определенных условиях могут оказаться в ценностном ядре культуры.
Сегодня мы становимся свидетелями разрушения «центральной зоны культуры», ценностного ядра, когда «постмодернистская философия размывает границы между ценностями и их антиподами. Добро и зло меняются местами или растворяются друг в друге» (Иманбаева, 2019: 50). Проблема разрушения ценностного ядра актуализирует изучение истории и традиций. В современном бурятском обществе также наблюдается интерес к исследованию истории этноса, и люди искусства, общественные деятели обращаются к бурятским летописям как к источникам по истории и культуре бурят. Летописи сочетают в себе фольклорные мотивы, выражающиеся в передаче народных легенд и преданий, и научный характер изложения, заключающийся в опоре на подлинные исторические документы. В XX в. неоднократная смена письменности, идеологические преграды сделали недоступными летописи, написанные старобурятским вертикальным письмом. На данный момент для ученых и всех заинтересованных лиц, владеющих современным бурятским языком, доступны материалы летописей бурят, опубликованных на бурятском и русском языках Н.Н. Поппе в 1935–1940 гг., Ш.Б. Чимитдоржиевым, Ц.П. Ванчиковой в 1992, 1995, 2022 гг. Обращение к летописным источникам обусловлено не только интересом к истории этноса, но и актуальностью воспроизводства культурных ценностей, отраженных в летописях, в современном мире.
В данной статье сделана попытка выявления ценностного ядра культуры, которое нашло отражение в бурятских летописях. Материалом исследования послужили опубликованные на бурятском и русском языках летописи хоринских бурят Тугэлдэра Тобоева, Вандана Юмсунова, «Доклад о происхождении одиннадцати хоринских родов» Доржи Дарбаева, летопись на бурятском языке Шираб-Нимбу Хобитуева. Наряду с этими историческими хрониками анализировались «Балжан хатан тухай туужа домог» и «Балжан хатанай туужа», включенные Ш.Б. Чимитдор-жиевым в сборник «Буряадай түүхэ бэшэгүүд».
Для исследования выбран аксиологический подход, который «выступает универсальным критерием оценки нравственного развития общества в пространственно-временном континууме» (Ростовская, Калиев, 2019: 7). Данный подход позволяет рассматривать летописное наследие в аспекте гуманизма и общечеловеческих ценностей. Г.А. Дырхеева отмечает: «Исследование духовных основ бурят, проживающих во многих регионах не только России, но и мира, расселившихся на стыке буддизма, православия и шаманизма, представляет огромный интерес, так как, как и у многих народов, в них заложен фундамент общечеловеческих устоев, философско-религиозных учений о мире, обществе, человеке, они представляют огромную картину ценностных абсолютов, качеств, передававшихся из поколения в поколение» (2021: 1535).
Ценностно-онтологический анализ необходимо начать с определения ценностных установок, на которые следует ориентироваться в первую очередь. Такие установки называют исследователи бурятской культуры: «…в качестве смыслообразующих констант культурных ценностей бурят выделяются идеи целостности, устойчивости и срединности. Они выражены в конкретных культурных ценностях бурят, каковыми являются ценность месторождения (тоонто), культ знаний, образованности, культ предков, почитание старших, коллективизм, общинность, экологическое сознание. Благодаря этой ценностно-смысловой конструкции своей культуры бурятский народ на протяжении всей истории, начиная с древних веков до современности, несмотря на все перипетии судьбы, сумел сохранить в основе своей целостность культуры, что явилось источником его устойчивости в меняющемся мире» (Цынгуева, 2018: 146). Обозначенные ценности, составляющие ядро культуры или этнической ментальности, проанализированы на мезоуровне аксиологического изучения летописей согласно подходу, разработанному А.В. Филатовым (2019).
На мезоуровне анализируется мировоззрение реального автора как носителя ценностных отношений. В связи с тем, что, как отмечают ученые, «особенностью бурятских летописей является личностное отношение авторов к тем или иным событиям или должностным лицам» (Даме-шек и др., 2020: 100), анализ на мезоуровне должен выявить ценностные установки авторов исторических хроник.
Здесь необходимо подчеркнуть, что авторами бурятских летописей являлись люди, занимающие высокое положение в социуме, а также то, что описанию, документальному подтверждению в летописях подлежали события, имеющие важное значение в истории народа. Таким образом, в летописях мы имеем описание сакрального мира: духовность, религиозность, народ и власть. Т.Д. Скрынникова раскрывает сакрализацию власти в монгольском обществе в периоды
Монгольской империи XIII в. и конца XVI – XVII в., при этом замечает, «что ситуация XVII в. практически сохраняется вплоть до начала ХХ в., поскольку заметных изменений в социальной структуре и политической организации, в экономике и других сферах общественной жизни за три века не произошло в силу специфики кочевых обществ» (2005: 293).
Поскольку процесс сакрализации власти происходил в периоды, которые охватывают бурятские летописи, одно из центральных мест в анализируемых произведениях занимают описания деятельности хоринских и агинских главных тайшей. Наряду с их позитивными деяниями, совершенными во благо народа, в летописях раскрываются и негативные стороны деятельности тайшей. Такие примеры публиковались и в газетах: «Например, в одной из статей отмечалось, что “власть тайшей и нойонов еще очень обширна, и, хотя они стеснены вмешательством русских чиновников, но при условии дружбы с ними делают с инородцами, что хотят”. В другой статье “Бурятское дело” автор пишет, что “отношения бурятских тайшей к простым бурятам напоминают крепостное право в форме старинной исторической сибирской кабалы”» (Дамешек и др., 2020: 96–97). Таким образом, при анализе ценностных установок будут учитываться интересы и убеждения авторов, обусловленные их социальным положением.
Доклад о происхождении одиннадцати хоринских родов, написанный в 1839 г., в соответствии с заявленным жанром написан предельно лаконично. Тем не менее уже в первой части можно определить ценностные установки автора. Заседатель Хоринской думы Д. Дарбаев, несший безупречную службу с 24-летнего возраста, подчеркивает ценность религии как защитника народа (сострадательный хутухта-лама, приглашенный во времена Алтан-хана из далекой снежной страны, «усмирил всех шимнусов и разных духов монгольской земли») и источника знаний: «Когда они [некоторые из 11 отоков хоринских бурят, откочевавшие от солонгутского Бубэй Бэйлэ хана вместе с Дай-Хун-тайджи и Бальжин-хатан] прибыли в страну русского хана, у них были монгольские и тибетские ламы, которые, обучая их, передавая знания и учение, распространяли буддийское учение»1. Примечательно, что в докладе нет упоминаний о шаманизме. Как представитель власти его автор проявляет уважение к свободе вероисповедания: когда пишет о буддийской вере и бурятах, добровольно принявших крещение, то не использует коннотативную лексику. При этом во второй части доклада при описании животрепещущих тем, связанных с владением землей, явно или неявно прослеживается отношение автора к российскому государю (русскому хану) как благодетелю, пожаловавшему хоринцам право жить и кочевать по указанным землям.
Вернемся к вопросу о ценностном отношении авторов летописей к вероисповеданию. В летописи «Хориин болон Агын буряадуудай урда сагай түүхэ» 1863 г. Т. Тобоев пишет о времени начала распространения буддизма: «приблизительно после того времени, когда он (далай-лама Содном-Жамсо) устроил в благоверии монгольского хана (Алтан-хана)»2. Согласно Саган Сэцэну, Алтан-хан родился в 1506 г. и умер в 1583 г. Значит, среди монголов буддизм начал распространяться в XVI в. Т. Тобоев демонстрирует ценностное отношение к буддийской вере как к источнику знаний и благонравия. Он пишет, что раньше буряты не знали тибетской грамоты, монгольскую грамоту хотя и знали некоторые, но не было людей, которые бы понимали значение священных книг, избегали грехов и совершали благие дела3. Несомненно, такое отношение связано не с тем, что буряты действительно не имели нравственных ценностей, а с тем, что необходимо было распространять буддийскую веру, которая могла помочь укрепить государственность и верноподданнические настроения среди иноверцев.
В хронике В. Юмсунова, написанной в 1875 г., через 9 лет после хроники Т. Тобоева и через 36 лет после доклада Д. Дарбаева, описанию буддийской религии и шаманизма посвящены отдельные главы. Во второй главе В. Юмсунов описывает историю распространения буддийской веры в 63 пунктах начиная с 1207 г., когда «гениальный богдо Чингис хан отправил из местности Уй в Тибете своего доверенного сановника с разными весьма драгоценными подношениями к ламе Сакья Гунга Нимбу, имевшему жительство в местности Цзанг в Тибете»4.
В третьей главе, посвященной истории шаманизма, летописец пишет, что шаманская вера распространилась во времена кочевий по Ольхону, Кударе и северному берегу Байкала вследствие связей хоринцев с бурятами, исповедующими шаманизм, хотя «хоринский народ сначала исповедовал веру будды Шакиямуни, и у него ламы имелись»5. Во введении к переводу летописей Н.Н. Поппе отмечает искажение фактов летописцем: «Стремясь, очевидно, доказать приори- тет буддизма, а следовательно, его преимущества как исконной хори-бурятской религии, Юмсу-нов здесь искажает факты. На самом деле все буряты были первоначально шаманистами, и лишь с конца XVII ст. некоторые из восточных бурят могли познакомиться впервые с буддизмом»1.
Подробно описав шаманские традиции, автор летописи в пункте 52 пишет, что его современники стали исповедовать буддизм: «люди, действительно, начинают понимать разницу между добродетелью и грехами, добро и зло прошлых и будущих деяний и последствий, и все более перестают прибегать к тем обманщикам шаманам и их обрядам»2. Было важно убедить народ в превратности шаманизма и распространить буддизм.
Ш.-Н. Хобитуев, зайсан галзутского рода хори-бурят, помощник главного тайши Хоринской степной думы, написал свою хронику «Хориин арбан нэгэн эсэгын буряад зоной түүхэ» («История бурят одиннадцати хоринских родов») в 1887 г. Начав повествование со времен образования озера Байкал, автор ведет родословную Чингисхана с 835 г. от рождества Будды. В 2123 г. от рождения Будды, в 1162 г. от Рождества Христова родился в семье Есугея – 10 поколении Бүртэ-Шоно – Тэмуджин. В возрасте 45 лет Чингисхан обратился к тибетскому Сажаа бандида Дагба Жалсан ламе, чтобы тот прислал лам для распространения буддийской веры. Среди бурят-монголов распространение буддизма началось с приглашения Алтан-ханом далай-ламы Содном Жамсо в 1577 г. – здесь Ш.-Н. Хобитуев согласен с Т. Тобоевым, но уточняет год.
При описании событий второй половины XIX в. Ш.-Н. Хобитуев рассказывает о тяжелом положении верующих, которое сложилось при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н.П. Синельникове. В 1872 г. от Верхнеудинского и Читинского округов была направлена делегация в Санкт-Петербург во главе с Ш.-Н. Хобитуевым. Автор пишет, что они получили поддержку царя в вопросах улучшения положения буддистов, и отмечает, что «во времена исполнения должности бандида хамбы и освобождения от этой должности Ванчикова (в 1869 г.) буддизм распространялся быстрее, чем в предыдущие времена»3.
Интересно, что В. Юмсунов, писавший свою хронику в 1875 г., посвящает этой истории пункты 52–63 второй главы. «Со времени приезда тот доверенный Хобитуев до начала 1875 г. никакого уведомления о вышеизложенном деле ниоткуда дождаться не мог и составил в марте месяце 1875 г. прошение господину военному губернатору Забайкальской области относительно возможности уведомления об обстоятельствах тех дел. Когда он лично явился и доложил об этом, устами его высокопревосходительства, когда он изволил говорить, было сказано: “Когда это дело было от господина восточносибирского генерал-губернатора передано мне, это было сделано не для того, чтобы уведомлять вас. Сказано, что будет только вестись работа и наблюдение над вашими религиозными делами”. <...> Таким образом путевые заметки доверенного Хобитуева и достоверные копии со всех привезенных им дел ходят сшитые в виде отдельной тетради»4.
Передавая в максимально документальном повествовании вопросы распространения буддийской религии, авторы Д. Дарбаев, Т. Тобоев, В. Юмсунов, Ш.-Н. Хобитуев проявляют ценностное отношение не только к религии как источнику знаний и добродетели, но и к решениям властей, которые покровительствовали распространению религии. Среди современных ученых есть мнение, что «в распространении буддийской религии как смягчающей воинственный дух суровых монгольских кочевников были заинтересованы как маньчжурские, так и российские власти» (Бадмаева, 2019: 37). Л.Б. Бадмаева пишет: «Особенно российское правительство было обеспокоено угрозой восстания со стороны инородцев и осады с их стороны русских острогов, что действительно происходило в Иркутской губернии по Ангаре, Оке и Лене после вынужденного присоединения их земель к российской империи» (2019: 37). Ценностное отношение к власти в данном случае переходит в ценностное отношение к государству. Мы наблюдаем зарождение российской идентичности в среде хоринских бурят, обусловленное многими факторами, в числе которых главные – поддержка со стороны Российского государства традиционных верований и документальное подтверждение исконных земель.
Земельному вопросу уделяется особое внимание во всех исследуемых произведениях. Это обусловлено тяжелым положением хоринцев, вынужденных кочевать в поисках безопасных земель и благополучной жизни. Неслучайно самыми частотными словами в летописях являются нүүхэ – кочевать, амаржаха, амаржан жаргаха – жить в благоденствии, үдэхэ – стать многочисленными. И если при описании событий до начала XVII в., когда «подданные Дай-хун-тайджи из-за неблагоприятных условий жизни бежали в страну русского царя и приняли его подданство»5, слова со значением благоденствия практически не используются, то при описании жизни под защитой русских ханов они становятся обычными в повествовании.
Во всех источниках авторы подчеркивают особую ценность указов, грамот – различных документов, свидетельствующих о праве владения землей. В. Юмсунов посвятил данному вопросу седьмую главу своей хроники. Д. Дарбаев в докладе дважды называет документ – распоряжение Иркутской провинциальной канцелярии от 3 марта 1749 г. № 1966, выданное тайшам Ринчину Шодоеву и Олбори Дашиеву: «Пусть хоринский народ живет, кочуя на любом подходящем месте к югу от озера Байкал до монгольской границы»1.
В системе ценностей бурятского этноса категории «родная земля» и «народ» являются ценностями одного порядка. Они отражены в сюжете о договоре 1727 г. о границе между Российской империей и империей Цин. Об этом событии написано во всех исследуемых источниках, но в летописи Ш.-Н. Хобитуева и исторической легенде о Балжан хатан представлен также сюжет о Шэлдэй Занги, который в памяти народа остался народным героем, отстаивающим родные земли. В хронике Ш.-Н. Хобитуева история Шэлдэй Занги передана так: «Настало время установления границы между Российской и Цинской империями. <...> В те времена кочевавший на той стороне Шэлдэй Занги, родственник зайсана Болтирокова, остался за учрежденной границей. Опечалившись тем, что оказался отрезанным от своего народа, родной земли, он собрал всех своих людей и со всем имуществом и скотом отправился в сторону границы с целью перейти учрежденную двумя ханами границу»2. Но не суждено было Шэлдэй Занги воссоединиться с народом, законом Цинской империи его приговорили к смертной казни на границе. Этот отрывок наполнен поэзией любви к родной земле и ценности народного единства.
Более развернуто сюжет о Шэлдэй Занги раскрыт в исторической легенде «Балжан хатанай туужа»3. Здесь повествуется о тайном послании Шэлдэй Занги к Шодо Болтирокову: заберите черного коня и золотое седло, что означало названия реки и местности, где ранее проживала Балжан хатан. Но Болтироков не смог найти отгадку послания, поэтому часть народа осталась жить за границей. Шэлдэй Занги проявил настоящий патриотизм в стремлении воссоединиться с народом.
Таким образом, в рамках данной работы на основе аксиологического анализа источников на мезоуровне – уровне ценностных установок авторов – выявлено ценностное ядро культуры в летописях хоринских бурят: ценность родной земли и связи с народом, общинность как основа патриотизма, ценность религии как источника знаний и добродетели. Эти ценности составляют ценностное ядро культуры многих народов, что обусловлено культурной интеграцией, которая «доказывает, что естественным является совпадение глубинных духовных ценностей разных культур» (Мордвина, Дампилова, 2022: 119–120). Тем не менее отмечаются этнические особенности, которые проявляются и в летописях.
Сегодня, когда совершается поворот к традиционным ценностным основаниям культуры, бурятские летописи могут стать базой для устойчивого развития общества: «Литературные памятники как феномены трансцендентной культуры обладают способностью к возрождению после долгих периодов забвения. Пребывая до поры до времени в тени, письменный памятник под веянием нового мышления вновь обретает актуальность, чтобы выполнить свою историческую миссию – быть свидетелем эпохи, социальным документом, исторической памятью народа» (Бадмаева, 2022: 219). Летописное наследие бурят уже должно выполнять свою историческую миссию, становясь источником для воспроизводства традиционных этнокультурных ценностей и сохранения ценностного ядра этнической культуры бурят. Как это происходит или должно происходить – актуальная тема для исследований в области гуманитарных наук.
Список литературы Отражение ценностного ядра культуры в летописях хоринских бурят
- Бадмаева Л.Б. Литературное наследие бурят на старомонгольской письменности // Банзаровские чтения: материалы Междунар. науч. конф., посвященной 200-летию со дня рождения Д. Банзарова и 90-летию БГПИ-БГУ / отв. ред. О.Н. Полянская. Улан-Удэ, 2022. Ч. 1. С. 216-219. https://doi.org/10.18101/978-5-9793-1709-0-216-219.
- Бадмаева Л.Б. Отражение истории распространения буддизма в бурятских летописях // Актуальные проблемы мон-головедных и алтаистических исследований: материалы III Междунар. науч. конф., посвященной 80-летию академика РАЕН, профессора В.И. Рассадина, 30-летию создания тофаларской письменности и 20-летию сойотской письменности / отв. ред. Б.К. Салаев. Элиста, 2019. С. 35-39.
- Дамешек Л.М., Жалсанова Б.Ц., Курас Л.В. Бурятский этнос в имперской системе власти (XIX - начало ХХ вв.): монография / отв. ред. Б.В. Базаров. Иркутск, 2020. 740 с.
- Дырхеева Г.А. Язык и ментальность бурят-билингвов (по результатам ассоциативного эксперимента) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14, № 5. С. 1529-1536. https://doi.org/10.30853/phil210235.
- Иманбаева Ж.М. Культура как система ценностей // Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2019. № 2. С. 44-57.
- Мордвина Т.Н., Дампилова Л.С. Мифо-ритуальные и фольклорные традиции в драматургии Бурятии. Улан-Удэ, 2022. 140 с.
- Ростовская Т.К., Калиев Т.Б. Ценностные ориентиры современной молодежи: особенности и тенденции: монография. М., 2019. 228 с.
- Скрынникова Т.Д. Сакральность правителя в средневековом монгольском обществе // Сакрализация власти в истории цивилизаций / отв. ред. Л.А. Андреева, А.В. Коротаев. М., 2005. С. 293-317.
- Филатов А.В. Аксиология в теории литературы: основные направления ценностного анализа // Сибирский филологический журнал. 2019. № 4. С. 130-140. https://doi.org/10.17223/18137083/69/11.
- Цынгуева Д.Д. Теоретико-методологическое осмысление базовых конструктов культурных ценностей бурят // Родной язык - путь «цивилизации и культуры»: коллективная монография / под общ. ред. И.А. Грешиловой, Е.Д. Дугаржаповой. Чита, 2018. С. 137-149.
- Dyczewski L. Values - the core of culture // Politeja. 2016. Vol. 13, no. 5. P. 143-169. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.44.10.