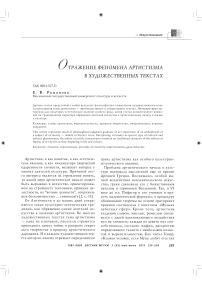Отражение феномена артистизма в художественных текстах
Автор: Романова Елена Викторовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Искусствознание
Статья в выпуске: 3 (53), 2013 года.
Бесплатный доступ
Данная статья представляет собой результат философского осмысления художественного опыта воплощения темы артистизма — преимущественно в литературных текстах. Интерпретируя артистизм как культурно-эстетическое явление особого рода, автор статьи концентрирует внимание на традиционном характере обращения деятелей искусства к артистическому началу в жизни и культуре.
Артистизм, выразительность, принцип творчества, импровизация, игровое поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/14489506
IDR: 14489506 | УДК: 008:1-027.21
Текст научной статьи Отражение феномена артистизма в художественных текстах
Артистизм, и как понятие, и как эстетическое явление, и как «индикатор» творческой одаренности личности, вызывает интерес у многих деятелей культуры. Причиной этого интереса является их стремление понять, «в какой мере артистическое начало может быть выражено в искусстве, ориентированном на стройность тектоники, принцип целостности, на “вечные ценности”, сопряженные бесконечностью … символов?» [2, с. 11].
От Античности и до наших дней сохраняется такая культурно-эстетическая традиция, как обращение самих деятелей искусства к явлению артистизма. Во многих художественных текстах тема артистизма — одна из ключевых, писатели стремятся приподнять завесу тайны и раскрыть секрет акта творчества и природу артистического дарования. И в каждом художественном тексте автор по-своему отражает определенную грань артистизма как особого культурноэстетического явления.
Проблема артистического начала в культуре волновала мыслителей еще со времен Древней Греции. Восхищаясь особой магией воздействия исполнительского искусства, греки связывали его с божественным началом и гармонией Вселенной. Так, в VI веке до н.э. Пифагор и его ученики и красоту математической формулы, и процедуру обоснования теоремы на основе ораторских приемов соотносили с понятием «Музыка небесных сфер». Кроме того, артистизм владения словом, мыслью, ремеслом связывался с идеей вдохновляющего воздействия муз на личность: каждая из девяти муз способствовала, согласно мифам, раскрытию определенного таланта с наибольшей полнотой и выразительностью. Как писал Гомер, «Блажен человек, если Музы любят его: как приятен из уст его льющийся голос!» (гимн к Аполлону и музам).
В связи с этим уместно подчеркнуть, что почти все культурные герои греческой мифологии проявляли себя не только как титаны, но и как исключительно артистические натуры. Их мифические истории и творческие до- стижения в течение многих веков оставались образцом и критерием «магии артистизма», своеобразным символом полноты художественного самовыражения личности.
Таков, например, артистический тип Орфея , мифологический образ которого продолжал быть темой искусства и эстетических размышлений. Как известно, Греция славилась музыкальной образованностью, свободные жители полисов искусно владели музыкальными инструментами, много времени проводили за песнопением. Но лишь один певец и музыкант остался в истории, запечатлен в мифе. Исключительность его дарования заключалась в особой силе воздействия его игры и пения, которые завораживали, околдовывали слушателей. Этим проникновенным музыкантом был Орфей. Подчиняясь магии его артистизма, умолкали птицы, природа наполнялась трепетом, деревья и камни передвигались ближе, чтобы насладиться звучанием его волшебной лиры, дикие звери ласкались у его ног.
Древние греки верили в силу воздействия артистизма: согласно мифу, когда Орфей спустился в Аид за своей женой Эвридикой и заиграл на лире, то Тантал забыл о своей жажде, Сизиф о тяжести своего труда, в умерших проснулось сострадание, прослезились жестокие Эриннии и даже Аид, жестокий царь мертвых, и его жена Персефона очаровались игрой Орфея. Воскрешающая сила артистического исполнения в мифе выражена мощным образом распустившейся в руках Орфея веточки вербы.
В данном мифе воспевается особая сила воздействия артистизма, но греки еще пока не задаются вопросом о составляющих артистизма, о тайнах процесса творчества. Дань артистизму художника, виртуозность которого способна равнять его с всесильными богами, воздавалась и в другом древнегреческом мифе — о Пигмалионе. Как известно, искусный скульптор Пигмалион выточил из слоновой кости женщину, настолько прекрасную, что полюбил ее сам и, более того, потряс своим творением богов настолько, что они вняли его мольбе и вдохнули жизнь в статую.
Миф, воспевший чудо артистического воссоздания новой реальности, то есть творчества «по законам красоты» (Шиллер), так же как и предание об Орфее, «вписался» в культурный контекст других эпох. Например, в эпоху модерна великий английский драматург Бернард Шоу написал пьесу «Пигмалион», сюжет и ироническая тональность которого заметно отличаются от греческого варианта. Имя этого персонажа использовалось драматургом в качестве культурного символа: речь идет об определенном типе человека, способного создать на основе своей творческой деятельности совершенство и полюбить плод своих усилий.
Новым этапом в осмыслении артистизма как принципа творчества и одной из характеристик личности художника стала эпоха Возрождения. И в трактатах Петрарки, Леонардо да Винчи, Вазари, и в литературных произведениях Ф. Рабле, М. Сервантеса, В. Шекспира артистизм отождествляется, по сути, с талантом самоутверждения личностного начала. Не случайно А.Ф. Лосев в своем труде «Эстетика Возрождения» уделил специальное внимание понятию «артистическая индивидуальность», а историк культуры Л.М. Баткин написал ряд работ об особенностях «эпатажной» и игровой стилистики самовыражения ренессансного человека.
Ряд художественных текстов, написанных яркими представителями Итальянского Возрождения («Декамерон» Джованни Боккаччо, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, «Жизнь Бенвенуто Челлини», написанная знаменитым ювелиром и скульптором), отражает творческую сущность и эстетические особенности артистизма. В свете этого очень ценным является следующий тезис современного эстетика О.В.
Кривцуна, который трактует артистизм как «виртуозное совершенство художественной формы, как способ творчества, культивирующий игровое начало, неожиданность, парадокс, эмоциональную вспышку, сбивающий привычную инерцию восприятия. В этом отношении антитезой артистизму выступают такие признаки, как излишняя приверженность канону, дидактики, художественному этикету, “формальное совершенство”, скованность письма и резонерство» [2, с. 10].
Очень интересен опыт художественнообразного воплощения темы артистизма в русской культуре, особенно в произведениях романтического характера. Присущее романтизму увлечение проблемой мистического начала, тайнами сказалось и на трактовке природы артистизма как принципа творчества «по законам красоты». Наглядный пример — неоконченная повесть А.С. Пушкина «Египетские ночи». Гениального поэта больше всего интересовала такая составляющая феномена артистизма, как способность к импровизации, которая сама по себе предстает как таинство.
В этой повести сравниваются два поэта: один ждет, когда настанет «благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли», а другой наделен талантом импровизации, стоит чужой мысли коснутся его слуха, как она становится его собственной и рождает в нем стихотворные строчки, как будто для него «не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?..» [3, с. 221]. И далее: «Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его...» [3, с. 224]. Благодаря такому яркому воспроизведению момента вдохновения приходит понимание того, что талант импровизатора заключается не просто в умении сочинять стихотворные строчки на любую тему, а в том, что он в мгновение абсолютно перерождается, любая мысль находит в нем предельно острый эмоциональный отклик, рождая в его воображении яркие образы. Вот как описан в «Египетских ночах» процесс такого внутреннего перерождения у импровизатора: «Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его засверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась» [3, с. 229]. Важно и то, что в этой повести о творчестве как таинстве присутствует мотив, связанный с особой природой воображения, сила которого способна увлечь человека в неведомые ему миры и заставить поверить в их реальность. При этом русским гением был поставлен очень важный с эстетической и психологической точки зрения вопрос: совместимы ли высокое вдохновение, одаренность и холодный расчет.
Как самостоятельная тема эстетики и искусства артистизм получает осмысление и различные толкования в эпохи модерна и постмодерна. Импрессионизм, символизм, ряд художественно-экспериментальных проектов ХХ века повысили эстетический статус артистизма и расширили пространство действия этого принципа. В контексте философско-эстетических исканий и творческих проб Серебряного века принцип артистизма не исчерпывается исполнительским искусством: он находит свое проявление в сферах игрового поведения и салонного общения (это хорошо показано в первой части трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам). Распространение «фермента артистизма» обусловлено тем, что именно в это время поиск ярких и убедительных средств выразительности совпал с тенденциями обновления языков искусства и форм манифестации творческой индивидуальности. В России артистизм осо- бенно интенсивно пронизывает стилистику самопрезентации и розыгрышей в среде близких по творческим устремлениям деятелей искусства: стоит вспомнить, например, Вс. Э. Мейерхольда в облике Доктора Дапертутто, желтую кофту Владимира Маяковского или любовь к переодеванию в костюмы разных эпох (особенно античной) у Максимилиана Волошина. Кроме того, артистизм как норма игрового стиля поведения и общения проявлялся в особой речи, в стиле авторского чтения: особенно явно это обнаруживалось в исполнении Игоря Северянина «поэз», в чтении эпатажных поэтических вызовов традициям Владимира Маяковского, в исполнении Александра Блока своих стихов… По-своему артистичной была авторская манера творческого самовыражения Александра Вертинского.
По сути, использование принципа артистизма в жизни подтверждает основные идеи голландского культуролога Хейзинги относительно Homo Ludens — человека играющего. Такое понимание разнообразия форм проявления «инстинкта игры» получило художественное выражение в литературе со- ветского периода. Остап Бендер в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова, Воланд и его «команда» в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова, персонажи ранних комедий В. Катаева — все они виртуозно используют магию личного обаяния и собственной изобретательности для манипуляций или мистификаций.
На мой взгляд, как эстетически значимый принцип выражения глубокого смысла и нюансов человеческих переживаний артистизм проявился наиболее полно в творчестве Чарли Чаплина. Своеобразие поэтики и эстетики фильмов гения мирового кинематографа заключается в том, что все возможности артистизма он содержательно и виртуозно реализовал как актер, режиссер и композитор. Благодаря «энергетике» мощной одаренности Чарли Чаплина, каждый его фильм становился культурным событием и яркой формой утверждения идеи гуманизма. Шедевры Чаплина — яркое свидетельство того, что высшие проявления артистизма связаны «с открытиями в искусстве, с обнаружением в нем неведомого ранее людям, с трактовкой, порожденной духовными запросами времени» [1, с. 390].