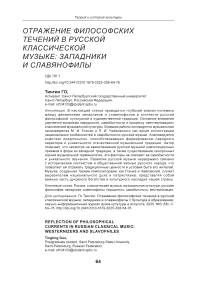Отражение философских течений в русской классической музыке: западники и славянофилы
Автор: Гo Тинтин
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (58), 2025 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье проводится глубокий анализ полемики между движениями западников и славянофилов в контексте русской философской, культурной и художественной традиции. Основное внимание уделяется вопросам народности, самобытности и процессу «вестернизации» классической музыкальной культуры. В рамках работы исследуются музыкальные произведения М. И. Глинки и П. И. Чайковского как яркие иллюстрации национальных особенностей и самобытности русской музыки. Анализируется комплекс предпосылок, способствовавших формированию народного характера и уникальности отечественной музыкальной традиции. Автор отмечает, что несмотря на заимствование русской музыкой композиционных приемов и форм из западной традиции, а также существование синхронных корней музыкальной терминологии, эти факторы не снижают ее самобытности и уникального звучания. Развитие русской музыки неразрывно связано с историческим контекстом и общественной жизнью русского народа, что позволяет ей отражать традиционные ценности и условия быта его жителей. Музыка, созданная такими композиторами, как Глинка и Чайковский, служит выразителем национального духа и патриотизма, представляя собой важную часть духовного богатства и культурного наследия нашей страны.
Россия, классическая музыка, музыкальная культура, русская философия, западники, славянофилы, народность, самобытность, вестернизация
Короткий адрес: https://sciup.org/144163577
IDR: 144163577 | УДК: 781.7 | DOI: 10.2441/2310-1679-2025-358-64-76
Текст научной статьи Отражение философских течений в русской классической музыке: западники и славянофилы
Отражение философских течений в русской классической музыке представляет собой обширную и многогранную тему, в которой ярко проявляется идеологическое противостояние славянофилов и западников. Это противостояние заложило основы для формирования культурной идентичности России, чередуя курсы на интеграцию в европейскую культуру и стремление сохранить оригинальные русские традиции.
Стоит отметить, что вопрос репрезентации философских течений в русской классической музыке представляет собой важную и актуальную область исследования, которая привлекает внимание многих ученых. Исследования, проведенные в этой сфере, авторами которых являются Н. В. Бекетова и Т. П. Самсонова [1], С. В. Лаврова [13], Н. В. Бобылева [3] и М. Ю. Кушпи-лева [12], охватывают широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием музыки и философии, особенно в контексте формирования национального самосознания и культурной идентичности. Например, в работе Н. В. Бекетовой и Т. П. Самсоновой «Музыка и философия: проблема самосознания нации в русской оперной классике» рассматривается классический период русской музыки и ее связь с философскими проблемами, включая темы, касающиеся национального самосознания [1]. Авторы аргументируют, что музыка отражает глубокие экзистенциальные переживания и нравственные дилеммы, которые свойственны русскому обществу, и анализируют, как эти элементы находят свое отражение в музыке различных композиторов, от Глинки до Шостаковича. Диссертация А. П. Ноздриной на тему «Философские идеи в русском музыкальном творчестве XIX – начала XX веков» также подкрепляет важность этого дискурса, предлагает философско-культурологический анализ музыкального творчества и подчеркивает влияние религиозной философии на развитие отечественной музыки [19]. А. П. Ноздрина акцентирует внимание на экзистенциальных и моральных аспектах, критически анализируя наследие русских мыслителей и их влияние на музыкальные формы. Работы Т. В. Букиной [5], А. С. Петелина и Ю. Сунь [21], О. П. Козьменко [11], Г. Н. Миненко и Ж. А. Рябчевской [18] также вносят вклад в исследование русской музыкальной культуры и философии, позволяют выделить основные контексты и аспекты, требующие дальнейшего изучения. Однако, несмотря на широкий спектр исследований, стоит отметить, что вопрос отражения взглядов славянофилов и западников на русскую музыку остается не полностью изученным. Таким образом, актуальность исследуемой проблемы подчеркивается необходимостью более глубокого изучения темы отражения философских идей западников и славянофилов в русской классической музыке, что может способствовать лучшему пониманию процессов формирования национальной идентичности и самосознания через призму музыкального искусства.
Новизна данного исследования заключается в том, что автором проводится углубленный анализ влияния исторического и социального контекстов на русскую классическую музыку: изучается, как международные события, культурные обмены и политические идеологии влияли на восприятие музыки в контексте философских течений. Это позволит не только увидеть, как философские концепции переплетались с музыкальным языком, но и понять, как эти взаимоотношения изменялись со временем.
Идеологические разногласия между сторонниками славянофильства и западничества имеют глубокие исторические корни и стали значительным предвестником более широкой полемики о национальной идентичности России. Эти противоречия проявились на фоне сложной политической и культурной ситуации, когда обществу становилась очевидной необходимость осознания своей национальной идентичности и выбора возможного пути развития страны.
В полемической переписке между Иваном Грозным и князем Андреем Курбским, происходившей в середине XVI века, было отмечено, что Восток и Запад следуют различным политическим режимам, религиям и имеют непохожие пути развития. В своих посланиях Андрей Курбский стремился предстать в образе «элегантного представителя западной культуры», что подчеркнуло контраст между двумя мировоззрениями и культурами. Намеренно или невольно, Иван Грозный и Андрей Курбский разделили культурные, религиозные и идеологические течения России на две фракции, создав тем самым первое внутреннее идеологическое противостояние в истории страны [20].
В середине XVII века церковная реформа, проведенная патриархом Никоном, привела к крупным изменениям, ставшим впоследствии причиной Раскола русской православной церкви. Официальные церковники, представленные Никоном и его сторонниками, выступали за модернизацию церкви путем реформирования литургии и пересмотра церковных книг с целью приведения их в соответствие с греческими образцами. В противоположность этому протопоп Аввакум и его последователи, представляющие старообрядцев, настаивали на необходимости сохранения святости традиционной русской религиозной литургии и уникальности древнерусских культурных традиций, отстаивая самобытность Русской Церкви [15]. Таким образом, в рамках этих споров сформировались два различных идейных направления. Этот конфликт стал одной из первых форм дискуссий между Востоком и Западом в истории России, и на его основе в дальнейшем появились первые представители течений славянофилов и западников. Важно отметить, что эта полемика не была чисто философской: она оказала значительное влияние на дальнейшее развитие российской культуры, политики и идеологии, проложив путь к более глубоким и системным обсуждениям о месте России в мире.
Течения «славянофилов» и «западников» начали формироваться на официальном уровне в 1830–1840-е годы, когда русское общество столкнулось с необходимостью определения своей идентичности и направления дальнейшего развития. В 1836 году философ и писатель П. Я. Чаадаев опубликовал свои «Философические письма» в журнале «Телескоп». В этих работах он высказывает резкую критику русской культуры, утверждая, что она значительно отстает от западной цивилизации. Чаадаев не только ставит под сомнение историческую славу России, но и высмеивает православную церковь, заявляя, что Россия не сделала значительного вклада в мировую культуру. В то же время он отмечает высокие достижения Европы, особенно в области рационального мышления, научного и духовного прогресса [15]. Позиция Чаадаева, которая была весьма радикальной и опиралась на стандарты западного прогресса, вызвала бурную реакцию среди российской аристократии и интеллектуалов. В ответ на его критику группа мыслителей, возглавляемая поэтом А. С. Хомяковым и литературным критиком И. В. Киреевским, приняла меры, чтобы отстоять русские традиции и опровергнуть утверждения Чаадаева. В 1839 году они представили в Московском литературном салоне две статьи: «О старом и новом» А. С. Хомякова и «Ответ Хомякову» И. В. Киреевского. Эти работы стали основополагающими для славянофильского движения. Славянофильская школа, в состав которой вошли такие значимые теоретики, как А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и другие, стала ответом на вызовы западничества. В свою очередь, это движение породило противоположную западническую школу, к представителям которой относились П. Я. Чаадаев, И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Ф. А. Корш, В. П. Боткин и другие. Таким образом, в русской интеллектуальной среде возникла полемика, которая стала важным этапом в развитии национальной идеи и самосознания русского народа [28, с. 23].
Различия между ранними славянофильскими и западническими идеями касались выбора путей дальнейшего развития России, а также – их отношения к западной мысли и цивилизации. Славянофилы подчеркивали уникальный общинный и коллективистский характер, утверждая, что Россия должна сосредоточиться на пути национального развития, опираясь на исторические общинные традиции и стойко придерживаясь принципов православной соборности [30, с. 20]. В противоположность этому, западники настаивали на необходимости учиться у Запада и следовать по пути, выбранному западными странами, что подразумевало заимствование их достижений в области науки, культуры и государственного устройства.
Важно отметить, что оба направления не представляли собой строго организованные группы; у них отсутствовали четкие манифесты или официальные программы. Это были, скорее, два противоборствующих идеологических лагеря, представители которых активно дискутировали о путях и перспективах развития России. Русский литературовед и мыслитель А. И. Герцен, описывая эту полемику, использовал метафору: «У нас была одна любовь, но не одинаковая». Это выражение иллюстрирует противоположность позиций славянофилов и западников, подчеркивая их общий интерес к будущему страны, несмотря на различия в подходах. В своей работе «Былое и думы» Герцен рассматривает спор между двумя направлениями как «семейный спор», подчеркивая, что обе стороны стремятся к прогрессу России, но с различными стратегиями его достижения [6]. Такой взгляд не только демонстрирует глубокую связанность обсуждаемых идей, но и указывает на необходимость конструктивного диалога между славянофилами и западниками в поисках оптимального пути для нации.
Таким образом, противоречия между славянофильскими и западническими идеями не сводятся лишь к идеологическим разногласиям, а представляют собой сложный комплекс представлений о будущем страны, сформировавшийся на фоне исторических и культурных реалий XIX века.
Славянофилы не отрицали западную цивилизацию полностью. Например, представители этого движения, такие как А. С. Хомяков и И. В. Киреевский, не выступали против усвоения достижений западной культуры и науки. В частности, Хомяков в своей статье «О старом и новом» утверждал: «Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то нам приходится все черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов племен просвещеннейших и из стремлений современных». Это высказывание подчеркивает важность заимствования и усвоения культурного опыта других народов, несмотря на признание уникальности и самобытности русской культуры [27]. Аналогично И. В. Киреевский в своей статье «Девятнадцатый век» акцентировал внимание на необходимости изучения европейской мысли эпохи Просвещения, подчеркивая значимость освоения передовых западных знаний и технологий. По мнению Киреевского, Россия, обладая своей уникальной культурной идентичностью, должна учиться у Запада, заимствуя его достижения, но при этом не следует полностью копировать западную культуру. Он призывал отказаться от «бездумного заимствования зарубежных идей» и подчеркивал необходимость развивать самобытный харак- тер русской нации. Чтобы аргументировать свою позицию в защиту культурной уникальности России, Киреевский предпринял инициативу по сбору и систематизации русских народных песен, считая их непосредственным выражением культурной памяти народа и лучшим опровержением распространенных стереотипов о недостатке культурных традиций в России [10].
Важную роль в этой деятельности сыграли такие видные деятели культуры, как А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. И. Даль, П. И. Якушкин, А. В. Кольцов и многие другие, которые поддерживали Киреевского в его стремлении собрать и систематизировать русские народные песни. Кульминацией их работы стало составление сборника песен И. В. Киреевского, который стал важным вкладом в сохранение и дальнейшее развитие русской культурной традиции.
Идеологические разногласия между западниками и славянофилами затрагивают все аспекты русской культуры и искусства, включая классическую музыку. Культурные реформы, осуществленные Петром I в конце XVII – начале XVIII веков, стали толчком к широкому распространению западной музыки на территории России. В этот период в страну массово начали завозить музыкальные инструменты из Западной Европы, а в домах русской знати впервые начали появляться клавесины и клавикорды. С течением времени в Россию также поступили скрипки, виолончели, трубы и множество других инструментов, что способствовало формированию новой музыкальной среды. Создание в царских и аристократических дворцах оркестров, в состав которых входили инструменты европейского производства, стало началом процесса «вестернизации» русской музыкальной культуры [26]. С этого времени Россия значительно усилила свое внимание к западным музыкальным традициям. Вскоре после этого в стране начали появляться европейские оркестры, которые регулярно выступали в Санкт-Петербурге, принося с собой влияние западноевропейского музыкального искусства. Среди их репертуара были не только оперы, но и танцевальные интерлюдии, сонаты, концертные произведения и струнные трио.
В 1830-х годах музыкальные центры Петербурга и Москвы обогатились новым направлением благодаря созданию Итальянского оперного театра. Этот театр привлек множество приглашенных специалистов из Италии, среди которых были такие выдающиеся композиторы, как Бальдассаре Галуппи, Джузеппе Сарти, Джованни Паизиелло и другие [4]. Кроме исполнения собственных опер, эти музыканты стали активными педагогами, обучая русских исполнителей и композиторов тонкостям европейской оперы. Этот период времени также ознаменовался бурным развитием русской музыкальной культуры, когда на стыке различных традиций формировались новые художественные направления и стремления [23].
Реформы эпохи Петра I и Екатерины II заложили основу для проникновения западной музыкальной культуры в сферу русского искусства [25]. Однако это проникновение проявлялось преимущественно в виде формального слияния и заимствования техник, характерных для европейской музыки. Тем не менее, русская музыкальная традиция всегда сохраняла свой уникальный национальный дух и культурные особенности, которые в некоторых аспектах даже превосходят музыкальные традиции европейских стран. Что касается формальной интеграции, то есть феномена «вестернизации» русской музыки, то определенную основу можно найти в зарождении и развитии русской музыки Нового времени. Все культурно-стилистические трансформации и модификации русского музыкального искусства Нового времени синхронизированы с изменениями в европейском музыкальном искусстве [25, с. 184]. Европейская культура барокко сформировалась в Италии (в Риме) в начале XVII века. Традиция русского барокко зародилась в середине XVII века благодаря украинскому композитору и музыкальному теоретику Н. П. Дилецкому (1630–1681 гг.). Таким образом, русское и европейское барокко появились практически одновременно. Во второй половине XVIII века – начале XIX века в Европе наступил период классической музыки. В это время русские композиторы также писали комические оперы почти такого же жанра и качества, как и европейские композиторы [25, с. 184]. Однако интерпретация жанров комедии и остросюжетной оперы в русской композиторской школе в XVIII и первой половине XIX веков отличалась от европейской, отражая национальные особенности и культурную самобытность [24, с. 121]. В то же время для русской музыки XVIII века характерен некий «гибридный» стиль, который возник на основе сочетания элементов европейского барокко, классицизма и романтизма. Во-вторых, происхождение и семантика таких терминов, как «русская национальная музыкальная школа», «национализм», «русский романтизм» и так далее, имеют западное происхождение, иначе говоря, сами являются западными. Таким образом, русская классическая музыка и западная классическая музыка формально интегрированы, синхронизированы и имеют общее происхождение. Стоит отметить, что русская классическая музыка в своей основе использует композиционные приемы, которые были заимствованы из западной музыкальной традиции. Тем не менее, духовная и идеологическая идентичность России всегда сохраняла свои уникальные национальные черты и особенности. Исследователь Д. В. Суворов рассматривает отражение философских течений в русской классической музыке через призму противостояния западников и славянофилов, подчеркивая, что начало концепции «русской классической музыки» связано с именем М. Глинки и знаменует переход к романтизму, который принес с собой идею романтического национализма. Он отмечает, что XIX век явился периодом активного национального возрождения во многих странах, вызванного духом поиска «национального своеобразия», что, в свою очередь, способствовало появлению национальных композиторских школ [25].
Как уже было сказано выше, М. И. Глинка, широко признан как основатель русской национальной оперы и «отец русской музыки». Глинка, путешествуя по Европе, познакомился с разнообразными музыкальными стилями и жанра- ми западной культуры, что оказало значительное воздействие на его творчество и способствовало формированию осознания о необходимости создания уникальной русской музыкальной идентичности. Его произведения мастерски объединяют элементы русской народной музыки с воздействиями западноевропейского классицизма и романтизма, что стало основополагающим для дальнейшего развития русской музыки. В его наиболее значительных работах, таких как патриотическая опера «Иван Сусанин» и мифологическая опера «Руслан и Людмила», наглядно проявляется желание Глинки обеспечить музыкальному искусству России статус, сопоставимый с европейскими традициями. Опера «Иван Сусанин» не только выражает мужество и патриотизм русского народа, но и служит новаторским образцом для формирования русского национального музыкального стиля. В то же время «Руслан и Людмила» является отражением глубокой любви композитора к родине и его искренней привязанности к народной музыке, символизируя первую веху на пути формирования русской национальной музыки, которая утвердила ее место в мировом музыкальном искусстве [9, c. 49]. Под влиянием философских идей славянофилов в операх Михаила Ивановича Глинки ярко проявляются мотивы жертвенного подвига, ставшие символом преданности Святой Руси, Царю и Святоотеческой Вере. Эти тематические линии подчеркивают важность духовных и нравственных ценностей, ставящих на первый план такие идеалы, как защита Родины и народные традиции. В этом контексте в произведениях Глинки преломляются идеи Преображения и народности, которые вписываются в широкий контекст соборного сознания, олицетворяющего единство народа и его истории. Кроме того, композитор обращается к глубоким и многослойным категориям Дома и Семьи, которые занимают центральное место в русской жизни и культуре [14]. Это создает уникальное звучание его дум и творений, основанных на почвенческих истоках, где внимание уделяется «почвенному» сказочному мифологическому слою, способному воздействовать на массовое сознание и пробуждать в слушателях чувство национальной идентичности. Глинка таким образом не просто создает музыкальные произведения – он формирует культурный дискурс, в котором крепко переплетаются идеи традиционализма и духовности с жизненными реалиями русского народа.
Творчество М. И. Глинки оказало глубокое влияние на следующих композиторов, в частности, на Александра Сергеевича Даргомыжского. А. С. Даргомыжский развил традиции русской речитативной оперы, создав новый жанр – народно-бытовую лирико-психологическую драму. Его подход к речитативу, свободному от жестких метрических рамок, стал важным инструментом для глубинного раскрытия образов персонажей, отражая внутреннюю природу человека и его эмоции. Творчество А. С. Даргомыжского, как и композиторов следующего поколения, таких как Петр Ильич Чайковский, впитало в себя идеи славянофильства, о чем свидетельствует богатство музыкальных форм, используемых для передачи духа и эмоциональной глубины русского народа.
П. И. Чайковский продолжил реализацию идей своих предшественников, сливая элементы русской народной музыки с традициями западной проектировки. Он не соглашался с концепцией отделения русской музыки от европейских основ, считая, что произведения должны интегрировать оба направления, а это взаимодействие не только обогащает культуру, но и придает ей уникальное звучание [17. c. 85]. В своих шедеврах, таких как «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», Чайковский успешно использует русские народные мотивы, привнося в них европейскую симфоническую форму, что свидетельствует о глубокой идентификации его музыки с русским духом и культурной традицией.
Особенностью русской музыкальной школы является явный онтологизм в их эстетических концепциях. Высокие устремления человека выступают как прочный фундамент для формирования и развития национального характера, что делает их основными ценностными ориентирами в русском музыкальном искусстве. В этом контексте этническая самоидентификация и стремление к познанию «внутреннего человека» служат решающим выразителем этих идей. На этом уровне дискурс затрагивает темы, близкие высказываниям и философии Федора Михайловича Достоевского, который также акцентировал внимание на важности глубокой связи индивида с окружающим миром. Творческое стремление к единству с мировым целым у русских композиторов переплетается с концепцией Ф. М. Достоевского о «всемирной отзывчивости», подчеркивающей, что национальные и патриотические мотивы можно глубже понять через призму общечеловеческих ценностей [8]. Это выражает стремление к интеграции индивидуального и коллективного, частного и общего, тем самым являясь отражением более широкой философской рамки, в которой личные переживания и национальная идентичность становятся частью универсального человеческого опыта. При анализе данной парадигмы становится очевидным, что идеи всеобщей человечности заметно контрастируют с концепциями нигилизма и космополитизма, которые призывают к отказу от устоявшихся национальных традиций и патриотических чувств. В то время как нигилизм отвергает ценности, связанные с наследием и культурной самобытностью, подход Достоевского и русской музыкальной традиции, способствует сохранению и развитию этих ценностей, в которых заключается не только источник индивидуального самовыражения, но и важный шаг к более глубокому пониманию человечества в целом. Таким образом, поднимается вопрос о значимости духовных и культурных корней в формировании полного и целостного представления о человеческой природе и его месте в мире.
Национально-православная тематика в творчестве русских композиторов также находит свое выражение в использовании техники «колокольности». Это ярко демонстрируется в таких произведениях, как опера «Борис Годунов» М. П. Мусоргского, «Псковитянка» и «Сказание о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова, «Князь Игорь» А. П. Бородина и «Опричник»
П. И. Чайковского. В последние десятилетия духовные мотивы становятся все более заметными в вокальных произведениях русских композиторов. В этом контексте создаются вокальные циклы, вокальные поэмы, а также сочинения для хора и солистов, в которых ярко представлены музыкальные откровения на божественные темы. Тема русской природы также получает выражение в вокальной музыке, отражая общее восприятие православия и родной земли, насыщенной символикой российской природы.
Дальнейшее развитие русской музыкальной культуры завершается именами таких великих композиторов, как Сергей Рахманинов, Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев. Каждый из них, опираясь на западные композиторские традиции, привнес в свою музыку элементы национальной идентичности, тем самым создавая произведения, которые обрели признание как в России, так и за ее пределами.
Таким образом, взаимодействие между славянофильством и западничеством в русской классической музыке создало динамичное поле для музыкального эксперимента, что позволило композиторам исследовать и выразить уникальные черты русской культурной идентичности, обогащая тем самым мировой музыкальный контекст. Это взаимодействие не только подчеркивало уникальность русской музыки, но и объединяло ее с глобальной музыкальной традицией, что стало залогом её успеха и признания на международной арене.
А. С. Пушкин писал в 1852 году: «С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность» [22]. В. Г. Белинский определил народность как «сознание народа… его дух и жизнь» [2, с. 418]. Гоголевское определение народности: «Истинная национальность состоит не в описании сарафана, а в духе народа» [7, с. 51] Посредством «народности» можно придать произведению национальный колорит и национальную специфику [16]. Таким образом, «национальный характер» и «народность» русских музыкальных произведений – это передача уникальных народных корней и духовных основ русской нации.
При анализе исторического развития русской музыки становится очевидным, что ее национальный и самобытный характер не вызывает сомнений. Россия, будучи многонациональной и многорегиональной страной, в которой преобладают восточнославянские народы, представляет собой уникальный культурный контекст. С древнейших времён в России наблюдался высокий уровень культурного развития, что нашло свое отражение в национальной народной музыке. Эта музыка характеризуется богатым многообразием форм и стилистических направлений. В частности, можно выделить такие жанры, как обрядовые, трудовые, эпические, бытовые и лирические песни, а также – городские песни и народную инструментальную музыку, что свидетельствует о глубоком культурном и социоисторическом контексте. Во-вторых, важным аспектом является патриотизм, который служит как идеологическим истоком, так и основой творческой деятельности русских музыкантов и композиторов. Их музыкальное наследие коренится не только в личном жизненном опыте, но и в общественном состоянии народа. Музыка всегда отражала стремления, переживания и судьбы русского народа, что делает ее неотъемлемой частью национальной идентичности [9]. Наконец, все музыкальные произведения, созданные русскими композиторами, неразрывно связаны с жизнью русского народа и глубоко отражают его социальную культуру и условия существования. Эти произведения представляют собой важное духовное богатство и являются бесценным культурным наследием, которое берет свои корни в многовековой истории и традициях России. Музыкальные творения не только передают эмоции и переживания, присущие народу, но и служат документальным свидетельством его исторического пути, опираясь на общественные и культурные реалии, выражая национальный дух и патриотизм, а также глубокую любовь к Родине. Поэтому русская музыка, будь то духовная музыка, классическая музыка или современная музыка, всегда отличается от западной музыки и обладает сильным национальным духом и яркими национальными особенностями.
Славянофильство представляет собой уникальное явление в истории российской философии, являясь единственной оригинальной мыслительной традицией, которая зародилась именно в России. Возникновение славянофильства продемонстрировало становление национального самосознания и идеологический подъем русской культуры [29]. Музыкальная культура представляет собой многогранную и междисциплинарную сферу, охватывающую как философские, так и художественные аспекты. Она служит отражением духа народа, социального фона и политических идеалов общества, в котором развивается. Вопрос о «национальном характере» и «вестернизации» русской классической музыки тесно связан с широкой дискуссией о сущности русской культуры, исследующей противоречия между славянофильством и западничеством.
Согласно мнению автора, глубинное понимание музыкального произведения предполагает знание его исторического контекста, творческого замысла композитора, избранных форм и материалов, а также идейного содержания. Русская музыка, хотя и заимствовала композиционные приемы и музыкальную терминологию из западной традиции, всегда сохраняла свою уникальность и национальный характер. Создание и развитие русского классического музыкального искусства изначально были неразрывно связаны с общественной жизнью и трудовой практикой русского народа. Это слияние привело к тому, что русская музыка стала оригинальной и самобытной, обладая собственным стилем и глубокой духовностью, которая пронизывает ее произведения. Таким образом, музыкальная культура России представляет собой не только отражение внешних влияний, но и искреннее выражение внутреннего мира народа, его традиций и жизненных реалий.