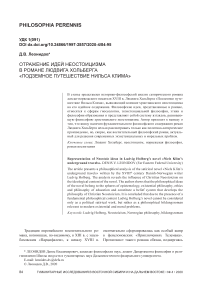Отражение идей неостоицизма в романе Людвига Хольберга "Подземное путешествие Нильса Клима"
Автор: Леонидов Денис Владимирович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Philosophia perennis
Статья в выпуске: 4 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье представлен историко-философский анализ сатирического романа датско-норвежского писателя XVIII в. Людвига Хольберга «Подземное путешествие Нильса Клима», выявляющий влияние христианского неостоицизма на его идейное содержание. Философские идеи, представленные в романе, относятся к сферам гносеологии, экзистенциальной философии, этики и философии образования и представляют собой систему взглядов, развивающую философию христианского неостоицизма. Автор приходит к выводу о том, что ввиду наличия фундаментального философского содержания роман Людвига Хольберга нельзя рассматривать только как политико-сатирическое произведение, но, скорее, как воспитательный философский роман, актуальный для решения современных экзистенциальных и моральных проблем.
Людвиг хольберг, неостоицизм, норвежская философия, роман воспитания
Короткий адрес: https://sciup.org/170175968
IDR: 170175968 | УДК: 1(091) | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-4/84-95
Текст научной статьи Отражение идей неостоицизма в романе Людвига Хольберга "Подземное путешествие Нильса Клима"
Традиция европейского воспитательного романа, возникшая, по-видимому, в ХІІІ в. с эшен-баховским «Парцифалем», к началу XVIII в.
окончательно сформировалась как особый жанр в фенелоновских «Приключениях Телемака». Протагонист такого романа обязан, подвергаясь ряду испытаний «в поисках себя», вырасти до состояния некоторой психологической и нравственной зрелости, вот почему роман воспитания не может не быть романом философским. В этой связи, можно утверждать, что, несмотря на известность широкой публике в качестве произведения скорее сатирического или утопического, именно философским воспитательным романом по своему существу является роман Людвига Хольберга «Подземное путешествие Нильса Клима, показывающее новую теорию Земли и историю пятой монархии, доселе нам неведомой, из библиотеки Б. Абелини» («Nicolaii Klimii iter subterranum novam telluris theoriam ac historiam quintae monarchiae adhuc nobis incognitae exhibens e bibliotheca B. Abelini»)1 [9]. Одна из задач настоящей статьи – вскрытие философского слоя романа Хольберга, историко-философских оснований излагаемых в нем идей, в результате чего будет очевиден вспомогательный характер его сатирического и утопического слоев.
Как сообщает Датский биографический лексикон, Людвиг Хольберг родился 3 декабря 1684 г. в городе Берген в семье оберст-лейтенан-та Кристиана Нильсена Хольберга [6, p. 519]. Норвегия в то время управлялась королем Дании и Норвегии Кристианом V. Семью Людвиг потерял очень рано: отец умер через два года после рождения Людвига, а мать – когда ему было десять лет. К тому же большая часть семейного имущества была потеряна во время пожара 1686 г. Брат матери отдал Людвига учиться в Латинскую школу Сёрена Линтрупа в Бергене. В своей автобиографии2 Хольберг только называет Линтрупа по имени: нам, к сожалению, ничего не известно о роли знаменитого датского педагога в воспитании юного Людвига [8]. Когда очередной пожар в 1702 г. уничтожил школу, Сёрен Линтруп переехал в Копенгаген – за своим учителем последовал и молодой Холь-берг. В возрасте 18 лет он поступил в Копенга- генский университет и через год сдал экзамены по философии и теологии. Вся дальнейшая жизнь Людвига Хольберга была связана с alma mater: он служил университетским секретарем, профессором метафизики, риторики, истории и даже университетским квестором (управляющим недвижимостью и предприятиями университета). 28 января 1754 г. Людвиг Хольберг умер от туберкулеза и был похоронен в городе Сорё. С 1711 по 1753 гг. Людвиг Хольберг написал 86 сочинений на датском, латинском и французском языках, в том числе 45 комедий и комедийных произведений, 14 художественных произведений в других жанрах, 15 исторических трудов и 12 прочих научных и публицистических сочинений. Среди этих произведений «Подземное путешествие Нильса Клима» выделяется тем, что наряду с «Микромегасом» Вольтера представляет собой одно из первых произведений философской фантастики.
Творчество Людвига Хольберга как классика датской литературы, конечно, уже становилось и объектом историко-философских исследований. В их числе можно назвать работу Эрика Лундестада «Норвежская философия от Людвига Хольберга до Анатона Оля» [11], а также монографию Кнуда Хокунсена и Себастьяна Оль-ден-Йёргенсена «Людвиг Хольберг (1684–1754): образование и литература Северного Возрождения» [7]. В российской историко-философской науке исследование философских идей Людвига Хольберга только начато: в 2014 г. была опубликована статья Т.Г. Минеевой «Философско-правовые взгляды Людвига Хольберга» [2], и, по-видимому, это пока единственное отечественное историко-философское исследование творчества скандинавского философа.
«Подземное путешествие Нильса Клима» последовательно раскрывает три темы – мышление, ценность жизни и судьба, соответствующие предложенному еще Зеноном Китийским трехчастному делению философии на логику, физику и этику. С мышлением связано первое испытание, которое проходит протагонист романа (главный герой латинизирует свое имя в Nicolaus, но мы вслед за датскими и норвежскими переводчиками романа будем называть его Нильсом). В 1664 г. Нильс Клим, успешно сдав экзамены по философии и теологии, возвращается в родной Берген [9, p. 1]. Узнав о существовании в расположенной рядом с Бергеном горе Флёйен большой «дышащей» пещеры, Нильс берется выяснить причины ее «дыхания»
и предпринимает спелеологическую экспедицию. Во время спуска Нильса пещера делает очередной «вдох», и героя потоком воздуха затягивает внутрь, после чего он обнаруживает себя летящим в небе, освещенным другим солнцем. «Наконец, серьезно поразмыслив, я решил, что оказался в подземном небе, и что верны были догадки тех, кто полагали Землю полой, и что под ее корой содержится другой мир, меньше нашего, и другое небо, покрытое меньшими солнцем, звездами и планетами» [9, p. 6–7]. Пробыв в свободном полете три дня, наш герой оказывается пойман вылетевшим на охоту грифоном, и после схватки с ним относительно благополучно приземляется на планету, которую, как он впоследствии узнает, ее обитатели называют «Назар». Жители планеты Назар – человекоподобные деревья, имеющие большее, чем люди, количество верхних хватательных конечностей (до двенадцати рук-ветвей), но значительно уступающие людям в скорости перемещения по земле из-за недоразвитости ног-корней. Зависимость мышления от телесной природы мыслящего – один из первых уроков, который получает Нильс в подземном мире: медлительность и многорукость обитателей Назара акцентирует в их мышлении эс-сенциалистскую направленность, заставляет их возможно тщательнее исследовать каждый познаваемый предмет, предельно глубоко докапываться до его сути. Через полгода изучения местного языка (он в силу небольших размеров планеты – всего 200 миль в окружности – и отсутствия на ней труднопреодолимых природных препятствий на всей планете один) Нильс узнает о том, что местные жители считают его слабоумным: «Из-за быстроты ума ты видишь только внешнее, а не суть дела; а так как у тебя только две ветви, в любом ремесле ты значительно уступаешь подземным жителям» [9, p. 43]. Обладателя бакалаврских степеней по философии и теологии эта ситуация невыносимо огорчает, и дальнейшая его жизнь на Назаре определяется стремлением доказать обитателям этой планеты достоинство человеческого разума.
Княжество Поту, на территорию которого приземлился Нильс, оказывается наиболее развитым государством Назара. Желая извлечь пользу из быстроходности Нильса, государственные экзаменаторы предлагают ему должность курьера при княжеской канцелярии, где он сдруживается с секретарем, отличающимся настолько поверхностным мышлением, что оно позволяет ему своими одиннадцатью руками одновременно писать одиннадцать писем. В то же время выполнение обязанностей курьера дает ему возможность подробно изучить страну. Описание культуры потуан составляет утопическую часть романа Хольберга. Поскольку способность мыслить является величайшей ценностью для обитателей планеты, наибольшим почетом пользуются прежде всего те лица, которые обеспечивают саму возможность существования разумных существ: многодетные родители, фермеры и врачи. А поскольку мыслить значит подвергать предмет всестороннему рассмотрению, поддержка многообразия мышления – вторая по значимости ценность для жителей Назара. «Осуждать мнение других и убеждать насилием несогласных с твоим мнением – то же самое, что приписывать себе как единственному из всех свет разума; это глупость, ибо только глупцы могут считать себя единственными, кто может быть умным» [9, p. 71]. Поскольку, несмотря на всеобщую толерантность, конфликты в общественной жизни неизбежны, судопроизводство организовано так, чтобы судьи, назначаемые князем, не знали имен участников разбираемого дела. Этим же обосновывается и само существование монархии в Поту: князь выносит решения, которые уже нельзя оспорить, иначе препирательствам не будет конца. Вместе с тем, решения князя подвергаются публичной оценке после его кончины, для того чтобы следующий монарх стремился уменьшить количество недовольных решениями, которые он примет в течение своего правления. Эти правила превращают княжество в крайне консервативное общество: единственное преступление, наказываемое в Поту смертью, – внесение законопроектов, которые не находят всеобщего одобрения. Как древние сицилийцы, потуане обязывают реформаторов предлагать законопроекты с петлей на шее, все же прочие преступления «наказываются» исправлением мышления преступника путем убеждения или – в тяжелых случаях – с помощью медицинских процедур. Вообще хрупкость общественного единства в условиях массовой высокой интеллектуальности и вытекающего из нее массового же политического плюрализма хорошо сознается потуанами, и для укрепления общественного согласия используются все возможные методы общественного воспитания. Мысль о том, что «благосостояние индивида настолько тесно связано с благосостоянием го- сударства, что оно не может быть отделено от него» [9, p. 75], внушается в публичных богослужениях. Притом что в Поту господствует религиозный плюрализм и религиозный синкретизм, метафизические споры считаются бессмысленными, а единственный религиозный праздник потуан – «День Бога Неведомого». С этой же целью на должности школьных учителей отбирают наиболее добродушных особ, которые своим примером способны привить молодежи терпение и дружелюбие. Поскольку природная основательность мышления обитателей Назара способствует непрерывно углубляющемуся разделению труда, межличностные отношения в потуанском обществе пронизаны удивительной вежливостью, основанной прежде всего на уважении к чужому, непостижимому для постороннего взгляда узкоспециализированному профессионализму.
Второе испытание, которому подвергается протагонист, связано с переоценкой ценности жизни. Сюжетно оно оформлено как кругосветное путешествие Нильса Клима по планете Назар, в которое он отправляется по поручению князя Поту – здесь утопический жанр романа сменяется сатирическим. Во время путешествия, занявшего по времени один месяц, выясняется, что жители прочих стран Назара не отличаются от потуан в своей интеллектуальной мощи, однако имеют радикально отличные от потуанских разнообразные моральные устои. Причины этого разнообразия наш герой в духе географического детерминизма связывает с разнообразием типов почв на планете Назар. Так, благодатные почвы соседней с Поту страны Квамсо дарят ее жителям поразительно крепкое здоровье, которое, в свою очередь, становится причиной их столь же поразительного равнодушия. «Это вечное здравие никогда не воздвигает их глазам образа смерти и не вызывает никакой жалости к другим больным и страдающим, так слишком беззаботно и равнодушно проживают они все время своей жизни без страстей и сострадания. Поэтому в том народе не видно ни следа заботы, любви или жалости. Ибо, когда болезни напоминают нам о смертности, они также поощряют нас к тому, что мы должны умереть достойно, как бы приказывают нам быть готовыми к отправлению в путь; и когда они поражают нас мучениями, в то же время учат нас соболезновать страдающим» [9, p. 120].
В противоположность жителям страны Квамсо жители страны Квамбоя настолько глу- боко проникнуты мыслями о смерти и стремятся использовать свою жизнь настолько полно, что приняли закон, по которому граждане страны после 40 лет становятся невменяемыми и подлежащими опеке подобно младенцам, чтобы каждый пожилой ее житель в оставшееся ему до смерти время мог предаваться каким ему вздумается чудачествам и безумствам. Вследствие действия этого закона старшее поколение Квам-бои погружено в разврат и насилие, а некоторые действительно впадают в детство: «Но когда, завершив свое путешествие, я сравнил жизнь этого народа с обычаями и учреждениями моих соотечественников, которые в зрелом возрасте философствуют, а в старости живут как паразиты, купаются в роскоши и гоняются за пустыми титулами, сопротивляясь чем возможно морщинам, тогда я немного смягчил свое мнение об этом народе» [9, p. 131]. Однако наибольшее потрясение Нильс Клим переживает в стране философов и ученых Маскаттии, обитатели которой сначала его жестоко избивают, а затем собираются анатомировать. Спастись нашему герою удается с помощью местной жительницы, заинтересованной в межвидовом сексе, от которого Нильсу также удается уклониться благодаря своим быстрым ногам.
Мы не будем здесь пересказывать длинную галерею причудливых картин различных жизненных укладов, созданную Людвигом Холь-бергом: в основном их различия вытекают из различного отношения жителей разных областей Назара к смерти. Обретенная Нильсом после пережитого в Маскаттии приключения отвага побуждает его предпринять решительные действия, которые, как он считает, заставят-та-ки потуан признать достоинство человеческого разума. Несмотря на увещевания князя, Нильс предлагает Совету княжества законопроект, идею для которого он почерпнул во время путешествия, посетив, в частности, королевство Коклеку, в котором интеллектуально слабым полом считаются мужчины. В рассудительной и спокойной жизни королевства такие качества мужского ума, как рисковость, решительность и остроумие оказываются лишними, воспринимаются как легкомыслие, торопливость и говорливость, неподобающие государственным деятелям, в связи с чем Коклеку является матриархальным обществом, в котором мужчины занимают преимущественно положения рабочих, «домохозяек» и «наложниц». Законопроект Нильса, предполагающий запрет женщинам
Поту занимать государственные должности во избежание возникновения матриархата, подобного существующему в королевстве Коклеку, отвергается Советом, и Нильса по законам консервативного княжества как автора неудачного законопроекта приговаривают к смертной казни. Князь своей властью заменяет смертный приговор ссылкой на небосвод.
Третья часть романа Хольберга, также преимущественно сатирического характера, посвящена осмыслению судьбы. Небосводом планеты Назар, отстоящим от нее всего на сто миль, является внутренняя поверхность «земной скорлупы», которая также пригодна для жизни и населена разными видами человекоподобных разумных животных, некоторые из которых живут в межвидовом согласии (империя Мезендория), другие основали собственные государства: обезьяны-мартиниане, сороки-пи-кардане, тигры-танахиты, медведи-арктонии, кошки-киспуциане, куры-алекториане, лю-ди-квамиты. Доставленный вместе с другими ссыльными (метафизиком и религиозным фанатиком) при помощи сезонно мигрирующих птиц на изнанку земной поверхности, Нильс оказывается на территории обезьян-мартиниан, чей менталитет, как это вскоре выясняется, прямо противоположен потуанскому: у мартиниан в почете профессиональная многопрофиль-ность, научная полидисциплинарность, умение создать имидж успешного дельца и хайп вокруг своих инвестиционных проектов и т.п. Приключения развиваются стремительно: обучив мар-тиниан изготовлению париков Нильс быстро завоевывает популярность в Мартинии, но тут же вляпывается в скандал с обвинением в харас-сменте, в результате которого его приговаривают служить гребцом на галерах. Уже в начале своего морского путешествия Нильс получает пророчество от сирены: «Превзойдешь героев, будешь господствовать над всеми берегами!» [9, p. 233]. Посетив несколько стран, в результате кораблекрушения Нильс оказывается на берегу страны Квама, населенной людьми, пребывающими в дикости и невежестве. Нильс тут же берет на себя роль культурного героя, «посланника Солнца», обучает квамитов скотоводству и изготовлению огнестрельного оружия, создает армию и успешно захватывает соседнее враждебное государство разумных тигров-тана-хитов. Найденная им в королевской библиотеке танахитов книга «Путешествие Таниана по поверхности Земли, или описание стран и земель преимущественно европейских» представляет собой самые острые сатирические страницы романа. Хотя большая часть этого раздела высмеивает религиозные традиции Европы, мы приведем фрагмент, который Хольберг как университетский профессор, по-видимому, «выстрадал» более всего:
«Европейские академии – это рынки благородных искусств и почестей, или лавки, где по справедливой и умеренной цене продают степени, должности, почетные звания, титулы всевозможных наук и другие научные товары, которые в нашем подземном мире приобретаются только тяжелым трудом и многолетней учебой днем и ночью. Докторами называют тех, кто достиг высочайшей вершины науки, или, как выражаются европейцы, тех, кто взобрался на вершину горы под названием Парнас, на которой обитают девять Дев. За ними идут Магистры, которые покупают свое ученое звание чуть дешевле и потому считаются менее учеными. Отсюда ясно, как благосклонно относятся надземные школы к людям, когда они открывают столь ровный и легкий путь к обучению. Несколько затруднительнее в этом отношении школы в северных странах, так как там не одаряют высшими званиями без предварительного экзамена.
Ученые отличаются от неученых не только своими нравами и воспитанием, но прежде всего своей религией: ибо последние почитают только одного единственного Бога, а первые – многих Богов и Богинь. Особые Божества Докторов суть Аполлон, Минерва, девять Муз и другие Божества более низкого ранга, к которым писатели и особенно поэты имеют обыкновение обращаться, когда на них находит безумие. Сами ученые делятся в соответствии с различными исследованиями на различные классы, а именно – Философы, Поэты, Грамматики, Физики, Метафизики и т.д.
Философ – это торговец литературой, который по определенной цене продает рецепты самоотречения, умеренности и бедности и так долго пишет и произносит речи против богатства, пока не обогащается сам. Отец Философов – Сенека – таким образом собрал царские богатства.
Поэт – это человек, который завоевывает уважение вздором и безумием. Поэтому безумие – это похвала, которую обычно дают самым известным поэтам. Всех же тех, кто выражает свое мнение просто и ясно, считают недостойными лаврового венка.
Грамматики образуют особый род войск, нарушающий общественный порядок. Они отличаются от других военных тем, что ходят в пальто вместо мундира и используют перо вместо меча. И они так же упорно сражаются за буквы и слоги, как другие за свободу, поля и очаги. Я думаю, что власти содержат их только для того, чтобы человечество не оцепенело в совершенном покое в мирное время. Однако, когда такие войны угрожают перейти во взаимное истребление, своим авторитетом вмешивается сенат, как это недавно, как я слышал, случилось в Париже, где между Докторами пылал спор о буквах Q и K, покуда Высший сенат Парижа не разрешил употребление их обоих.
Физик – это человек, который исследует внутренности земли, природу двуногих и четвероногих животных, рептилий и насекомых, и который познал все, кроме самого себя.
Метафизик – это человек, которому открывается то, что скрыто от других, и который знает, описывает и определяет сущность духов и душ, а также бытия и небытия, и у которого столь необычайно острое зрение, что он не может видеть то, что лежит у его ног» [9, p. 298–300].
Одержанная над танахитами победа запускает череду политических событий в подземном мире, и, объединив в результате ряда непродолжительных войн все государства небосвода, наш герой получает титул «Нильс Великий, посланник Солнца, Император Квамы и Мезендо-рии, Король Танаха, Алектории, Арктонии, Ме-зендорианских и Мартинианских Королевств, Великий Князь Кипуции, Государь Мартинии и Каналиски и прочая и прочая» [9, p. 334]. В этот момент Нильс задумывается об историческом смысле происшедших в его жизни событий: «Что же может быть более прекрасным, более героическим, чем то, что народ, до недавнего времени всеми презираемый и высмеиваемый, за небольшой промежуток времени стал Царем и Господином всего подземного Мира? Что может быть более величественным, чем то, что я – человек, живший среди всех этих разнородных существ, обеспечил человеческому роду это господство над другими живыми существами, что вверила ему природа?.. С этого времени я открыл новую историческую эпоху, и теперь можно насчитывать пять мировых Монархий, а именно Ассирийскую, Персидскую, Греческую, Римскую и подземную Квамит-скую: и очевидно, что последняя превосходит прежние размерами и мощью» [9, p. 333]. Од- нако вскоре выясняется, что, обладая достаточными военными талантами для собирания земель подземного мира в единое государство, Нильс Клим вовсе не имеет ни знаний, ни способностей для создания столь сложной системы управления, которая могла бы объединить столь разные в биологическом и культурном составе расы общими интересами и целями. Все недостатки управления Нильс пытается возместить военным террором, чем вызывает ненависть подданных. Возникает заговор, возглавляемый одним из квамитских принцев. Нильс проигрывает сражение с войском мятежников, во время бегства прячется в пещере, падает куда-то в кромешной темноте и приходит в себя вновь на «внешней» поверхности земли на склоне горы в окрестностях Саннвики. Возвращение к повседневной жизни очень тяжело переживается Нильсом Климом: он занимает должность церковного смотрителя в Бергене, однако, как свидетельствует послесловие г-на Абелини, он до конца жизни собирает политическую литературу, во сне разговаривает об армиях и военных флотах и каждый год поднимается на гору, чтобы с тоской смотреть на пещеру, из которой он вернулся из подземного мира.
Надеемся, что из нашего краткого пересказа романа Хольберга читателю уже очевидны стоические истоки его моральной философии. Начатый в конце XVI в. Юстом Липсием «ренессанс стоицизма» находил и продолжателей, и противников, но и противники стоицизма должны были выяснять причины притягательности идеала «стоического мудреца», чтобы подвергнуть его критике. Далее мы попробуем определить влияние стоических концепций на Хольберга более конкретно. Начнем с гносеологических воззрений. Напомним, что стержневой гносеологической концепцией стоицизма, на которой основываются все стоические учения вообще, является разделение мира на субъективную и объективную реальности: первая – бестелесна, является множеством порождаемых умами смыслов (лектонов), вторая – телесна, является множеством порождаемых движением вечной материи вещей. Пропасть между субъективной и объективной реальностью непреодолима: «Ни бестелесное не “сочувствует” телу, ни тело – бестелесному» [5, с. 181]. Сколь бы ни тщился человеческий разум постичь закон движения вечной материи (Логос), он способен создать только лектоны, релевантность которых Логосу всегда будет сомнительна. Вот почему
Логос предстает человеку как непостижимая судьба, и в судьбе человека – тщетный труд познать Логос, ведь сам человек также порожден этим Логосом. Сравним эти положения с картиной, нарисованной Хольбергом в своем романе. Основательность мышления потуан, как и галерея разных типов умов, предстающая перед Нильсом во время его путешествия по планете Назар, однозначно связываются рассказчиком с телесными условиями их жизни, и многообразие их взглядов на жизнь – не что иное как иллюстрация вечной иррелевантности лекто-нов Логосу. Княжество Поту изображено как образцовое стоическое общество: метафизика неинтересна потуанам (в ссылку на небосвод Нильса сопровождает метафизик), им интересны прежде всего естественные науки (познание Логоса), усердно насаждается толерантность, княжеская власть, используемая в тех случаях, когда договориться невозможно, предстает как символ произвола судьбы.
Стоический агностицизм влечет за собой апофатическую онтологию и крайне релятивистскую этику: коль скоро любое наше суждение о Логосе ему иррелевантно, но человек порожден Логосом как машина, порождающая иррелевантные суждения, причем эта машина в принципе не может породить ни одного релевантного суждения о причинах возникновения этой ситуации, то единственно релевантным поведением для человека будет эффективная деятельность в качестве такой машины, а главным условием этой эффективности становится индифферентное отношение к порождаемым суждениям – апатия: «И в душе мудреца остается рубец, – даже когда рана зажила, Поэтому он почувствует какие-то подобия и тени страстей, но самих страстей избежит» [5, с. 89]. Апатия как максимальная форма самоотрицания лек-тонной реальности становится высшей формой приближения человека к Логосу. Именно этот урок намеревался дать князь Поту главному герою, отправляя его в кругосветное путешествие по планете Назар, и именно этот урок не был понят Нильсом. Равнодушие к чужой боли здоровяков страны Квамсо, презрение к своей и чужой смерти философов Маскаттии, страх смерти жителей страны Квамбоя, трепетная забота о качестве жизни в матриархальном Коклеку и прочие примеры различного отношения к главному вопросу человеческого существования – вопросу о смысле жизни – должны были подвести Нильса Клима к стоическому решению этого вопроса: признанию того, что правильного ответа на этот вопрос нет и не может быть, и вытекающей из этого решения стоической апатии. Аффект тщеславия не позволяет Нильсу принять это решение. Борьбе с этим аффектом посвящена третья, самая сложная по своему смысловому («лектонному») наполнению часть произведения Хольберга, посвященная созданию величайшей в истории империи и возвращению Нильса Клима на поверхность Земли.
Здесь мы должны сделать одно важно замечание: в нашей интерпретации стоицизма учение о вечной иррелевантности лектонов (смыслов) материальному миру в сочетании с учением о вменяемой человеку тем же материальным миром обязанности его осмыслять является основным «нервом» стоической философии, обеспечившим ее притягательность на многие века. И как мы пытаемся здесь показать, именно этому «нерву» следует мировоззрение, выраженное в романе Хольберга. Разумеется, такая интерпретация стоической философии не является единственной и уж тем более единственно верной. Обширный корпус стоической литературы позволяет обнаруживать в ней разные позиции: от акцентируемого нами агностицизма до противоположного ему гносеологического оптимизма, в котором лектоны адекватно коррелируют с материальной реальностью и разум стоического мудреца достигает слияния с мировым Логосом. Например, А.Ф. Лосев в «Истории античной эстетики» также поддерживает ту интерпретацию учения стоиков, в которой лектоны иррелевантны материальному миру: «Почему стоический мудрец так суров и ригористичен, это можно объяснить только тем, что он сознательно, а больше и бессознательно мыслит себя продуктом и осуществлением иррелевантного лектон» [3, с. 155]. Однако в этой же работе Алексей Федорович излагает точки зрения еще пяти историков философии, которые наличие такой иррелевантности в учении стоиков отрицают. В конце концов, история философии как наука развивается именно через увеличение количества интерпретаций, и даже очевидно нелепые интерпретации, пробуждая негодование читателей, служат ее развитию. Но вернемся к аффекту тщеславия.
В античном стоицизме аффект тщеславия – один из самых легко преодолимых аффектов, поскольку он интерпретируется преимущественно как сопротивление судьбе в результате заблуждения. Как замечает А.Ф. Лосев, для ан- тичного стоика «судьба делает все так, как надо только ей; и тут – абсолютный фатализм. Но вот человек осознает себя как эту самую судьбу, как одно из ее творческих порождений. И оказывается, что судьба – это он сам, что судьба в нем осознает самое себя, что, свободно произволяя, он как раз и является орудием судьбы. Потому важно не переделывать действительность, но понимать ее. Стоический мудрец не сопротивляется злу. Но он его понимает, он – в стихии его смысловой текучести. И потому он спокоен» [3, с. 205]. Однако для христианского неостоицизма Юста Липсия и его последователей, отождествляющего стоическую судьбу с христианским божественным промыслом, проблема аффекта тщеславия становится значительно сложнее, переходя из чисто интеллектуальной в разряд экзистенциальных.
Поскольку христианская догматика включает в себя учение об откровении Богом Себя миру, причем откровении достаточном для обо-жения человека, в стоическое учение о лектонах должны быть внесены существенные поправки: допускается существование таких смыслов, которые позволяют истинно постигать положение дел в материальном мире. Если же человек способен постигать истинные смыслы, то препятствия такому постижению должны находиться не в природе человеческого ума, иначе Бог становится источником безбожия, а в чем-то трансцендентном по отношению и к человеческому уму, и к постигаемому им миру, т.е. в человеческой свободе. Понятно, что в этом случае аффекты превращаются из непостижимой игры Логоса с самим собой в результат свободного выбора человека отвергать откровение. А добродетель индифферентного отношения к лек-тонам сменяется двумя новыми взаимосвязанными добродетелями: доверием откровению и недоверием всем прочим источникам познания. Иначе говоря, стоический агностицизм сменяется здесь неостоическим фидеизмом. У Лип-сия это различение вводится как различение «Разума» и «Мнения».
«Разум имеет свое происхождение от неба, да, от бога; и правильно прославлял его Сенека, называя частицей божественного духа, погруженной в человека. Он есть превосходная сила понимания и суждения, которая, как душа есть совершенство человека, так и эта сила есть совершенство души. Греки называют его «Νοῦς», латиняне – «Mens» или даже вместе «Animi mens» – «разум души». Однако не обманывай- ся, не вся душа есть только разум, но то, что едино, просто, не смешано, отделено от всякой скверны и тления; одним словом, то, что в ней небесное и божественное. Ибо хотя эта душа и тяжело испорчена нечистотой тела и заражена заразой чувств, все же она сохраняет некоторые следы своего высокого происхождения, и светятся в ней искрящиеся остатки того первого чистого огня.
Вот откуда эти уколы совести в нечестивых и подлых людях; вот откуда эти внутренние угрызения и самобичевания; вот откуда их одобрение лучшей жизни, выражаемое ими против своей воли. Эта более святая часть может, разумеется, быть подавляема, но никогда не задавлена полностью; и это жгучее пламя может быть покрыто, но не погашено. Ведь всегда вспыхивают и взлетают эти огоньки, которые освещают эту тьму, очищают эту грязь, направляют среди этой изменчивости, ведут к Постоянству и Добродетели. Как гелиотропы и другие цветы по природы своей всегда тянутся к солнцу, так и Разум обращается к богу и своему источнику. Он прочен и непоколебим в добре, одно и то же чувствует, к одному и тому же стремится и одного и того же избегает; здравого совета и здравого суждения источник и поток. Кто повинуется ему, тот повелевает, и кто подчиняется ему, тот управляет всеми человеческими делами. Он покоряет даже страсти и мятежные порывы души; во всех лабиринтах жизни защищен от ошибок тот, кто следует этой нити Тесея. Бог сам своим образом входит в нас, и ничего нет к нам ближе; и хорошо сказал тот, кем бы он ни был, что нет благого ума без Бога.
Но следующая за нею нездравая часть (я говорю о Мнении) своим происхождением обязана Телу, то есть земле: и потому не понимает ничего, кроме этого. Ибо хотя тело само по себе неподвижно и бесчувственно, однако оно берет жизнь и движение от души; и в свою очередь оно представляет душе образы вещей через окна чувств. Таким образом, между душой и телом возникает некоторая общность и общество: но это общество, если принять во внимание исход души из тела, не хорошо для души. Ведь мало-помалу она отрекается от своего положения, привязывается к чувствам и смешивается с ними, и от этой нечистой связи в нас рождается Мнение, которое есть не что иное, как слабый образ и тень Разума. Его настоящее основание – чувства; его источник – Земля. Поэтому, падшее и ничтожное, оно не возвышается, не поднимается, не стремится ни к чему высокому или эфирному. Оно обманчиво, ненадежно, лживо, негодно в советах, негодно в суждениях, и особенно оно лишает душу Постоянства и Истины. Сегодня оно желает чего-то, завтра это же отвергает; что-то одобряет, и потом это же осуждает; не имеет никакого отношения к здравому суждению, но во всем угождает и потворствует телесным чувствам. И как глаз, созерцающий вещь сквозь туман или воду, оценивает ее ошибочным образом, так и душа ошибается в омрачении Мнения. Оно, если обдумаешь это, для людей – мать зла, автор запутанной и беспокойной жизни. Заботы, что нас терзают, – от него; страсти, что тянут нас в разные стороны, – от него; пороки, что нас одолевают, – от него. Поэтому, как те, кто, желая изгнать Тиранию из города, прежде всего разрушают замок в нем, так и мы, если мы искренне направляем ко Благу свой ум, должны разрушить замок Мнения. Мы колеблемся им всегда: нерешительные, беспрестанно жалующиеся, тревожные, не равные достаточно ни богу, ни людям. Как пустой корабль без балласта швыряет в море при малейшем дуновении ветра, таков и наш блуждающий ум, не удерживаемый грузом и песчаным балластом Разума» [10, p. 13–16].
Мы намеренно приводим столь пространную цитату из сочинения основоположника неостоицизма, желая показать, во-первых, сущностное отличие христианского стоицизма от стоицизма античного, заключающееся в том, что то внутреннее противоречие, которое в античном стоицизме находится за пределами человеческой природы (Логос желает познать себя и не желает познать себя), в христианском стоицизме помещено внутрь человека (человек желает познать себя и не желает познать себя). Недоверие мнению здесь ценно не само по себе, как это было у античных стоиков, а только в сочетании с доверием откровению, будь то священный текст религий или «естественное откровение» тварного мира. Разумеется, философия христианского неостоицизма вообще и Юста Липсия в частности не сводится к простому добавлению к античному стоицизму христианского фидеизма, однако именно эта идея нам кажется существенной для понимания заключенных в романе Хольберга философских смыслов. Во-вторых, мы хотим сделать очевидным смысл третьего испытания, которое проходит Нильс Клим: это не просто смирение с судьбой, а именно урок доверия откровению и промыслу. Доверие откровению предстает в виде пророчества сирены – и Нильс смеется над ним; недоверие промыслу предстает в виде недоверия подданным и превращает Нильса в тирана и изгнанника. Рассматриваемое с этой точки зрения путешествие Нильса становится историей его постепенного осатанения, что ставит нас перед резонным вопросом о том, можем ли мы считать роман Хольберга романом воспитательным? Ведь по сути дела герой романа не использует ни одну из открывающихся перед ним возможностей приобрести те качества зрелой личности, которые, как мы теперь понимаем, автор надеется внушить своему читателю: «Подземное путешествие Нильса Клима» оказывается романом о воспитательной катастрофе, происшедшей с его героем. Однако если мы вспомним о том, что более половины произведений Хольберга имеют комедийный характер и комедийный жанр, по-видимому, более всего привычен норвежскому писателю, в основе же комического лежит противоречие3, то воспитательный характер «Подземного путешествия» становится более очевиден. В романе последовательно высмеивается всякое поведение, основанное, говоря языком Липсия, на естественном («лектонном») Мнении, а не на сверхъестественном богооткровенном Разуме. По-своему логично, но в перспективе неизбежной смерти глупо и потому смешно поведение жителей соседних с Поту стран Назара. Объяснимо и логично, но в перспективе ценности милосердия абсурдно и потому смешно поведение обитателей «небосвода» и самого Нильса Клима среди них. Однако не смешны подданные княжества Поту и удивительна до трагичности их глубокая забота друг о друге и о чужеземце Нильсе. Трагичен и сам Нильс, в должности церковного смотрителя осмысляющий свое путешествие с перспективы приближающейся смерти. И не сомневается в победе Разума Людвиг Хольберг, помещающий в предисловие романа рассказ о путешествии финского оккультиста Пейвиса в обличии орла в подземный мир, где он обнаруживает Квамитскую империю восстановленной и процветающей под управлением сына Нильса Клима – Нильса Второго.
С различением Разума и Мнения связана еще одна большая и, по-видимому, главная тема романа – тема покаяния. Именно эта тема, на наш взгляд, и придает роману историко-философскую новизну при диахронном рассмотрении развития идей стоицизма и наибольшую актуальность для современности. Зависимость мышления от телесного бытия, смыслопорождающее значение смерти, роль личности в развитии мира – вечные темы, волнующие умы человечества с древнейших времен. Но тема покаяния входит в мир вместе с христианством, ее нет в лектонной непознаваемости античного Логоса, и именно она делает роман Хольберга воспитательным. «На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Развлекая читателя на протяжении 360 страниц романа, Хольберг оставляет его с чувством светлой грусти. Мы понимаем, что здесь мы переходим из сферы миропонимания в сферу мироощущения, которая, конечно, должна быть объектом анализа скорее психологического или литературоведческого, а вовсе не историко-философского, и потому просим читателей отнестись к нашим последующим выводам еще снисходительнее, чем к предыдущим. Поступки Нильса Клима после изгнания из «подземного рая» – княжества Поту – были основаны на Мнении, а не на Разуме, и потому несвободны, некрасивы и жалки. Но читателю нужен жалкий герой – герой, которому можно сострадать, чтобы изменить свой ум из состояния Мнения в состояние Разума, и потому писатель обречен быть трикстером для своего героя. Воспитательный роман – это роман не о герое, а о читателе: это он, открывая книгу, желает изменить свой ум, это он подвергает героя испытаниям и оценивает их успех или неуспех. Грусть, с которой Хольберг оставляет читателя, это грусть об упущенных возможностях стать мудрее, о непонятом смысле жизни, о тщетности усилий сделать мир лучше. И в этой грусти есть радость глубокой надежды, ведь если мы все это видим, значит это именно наш «орлиный взгляд» сквозь столетия безумных подвигов и павших империй видит мир разума и милосердия.
Покаяние, прописываемое Хольбергом читателю, конечно, является лишь основой для построения новой личности, и у нас нет сомнения в том, что это личность философа, понимаемая в обычном для классической европейской философии смысле. Как справедливо замечает А.А. Гуссейнов, «когда, отвечая на вопрос “Зачем нужна философия?”, говорят, что она учит правильно мыслить, учит правильно понимать мир и учит правильно себя вести, то это, конечно, отчасти верно, но совсем не специфично, не выражает своеобразия философии. Существует много учителей, которые так или иначе говорят о том, как надо мыслить и как надо понимать мир, и как надо вести себя. Этому учат и традиции, и повседневный опыт, каждая наука, каждая форма культуры также является учителем в своей области. Своеобразие и особое предназначение философии состоит в том, что она стремится схватить человеческое существование в его тотальности, выявить единство всех трех канонов: канона мысли (логики), канона знания (физики) и канона действия (этики). Ее можно представить в качестве трехгранного кристалла: повернутая одной стороной, она предстает каноном мысли, повернутая другой стороной – определенного рода знанием о мире, а повернутая третьей – этикой, определенным образом жизни» [1, с. 17]. Именно явственное отражение Хольбергом в своем романе триединой сущности классической философии делает этот роман философским: хотя в романе много страниц посвящено политическим добродетелям, великий норвежец воспитывает не идеального гражданина и даже не доброго христианина, а мыслящего и действующего философа. Познавательная обстоятельность потуан на уровне межличностного общения преломляется как доверчивость и уважительность, а в общественной жизни выражается в академической консервативности общественных институтов. Напротив, поверхностное мышление Нильса Клима превращает его во всезнайку и побуждает его к социальным авантюрам. Здесь мы подходим к очень важному моменту, который, по-видимому, не может быть объяснен иначе, как с помощью теории триединой природы философии (и человеческого ума), блестяще проиллюстрированной норвежским мыслителем. Нильс Клим видит зависимость своих действий и чувств от своего мышления, он знает, что ошибается и тем не менее вопреки всему тщетно (или тщеславно) стремится доказать потуа-нам превосходство человеческого разума. Почему? Заострим этот вопрос.
История ХХ в. дает нам поразительный пример того, как миллионы людей искренне считали разумным и прекрасным деянием подвергать другие миллионы людей страданиям и смерти. Разумеется, невозможно считать эти миллионы мучителей и убийц поголовно психопатами, неспособными понимать чужую боль. На самом деле они просто не хотели ее понимать. Их желания (их этические нормы) вполне соот- ветствовали их картине мира (их «физике»), в которой неизбежна победа коммунизма или тысячелетнего рейха, а эта картина мира, в свою очередь, вполне соответствовала их канону мысли (их «логике») – «не надо думать: с нами тот, кто все за нас решит». Тщеславие при таком рассмотрении оказывается аспектом невежества и невежество – аспектом тщеславия; смирение – аспектом мудрости, а мудрость – аспектом смирения. Христианская догматика учит о трансцендентных, метафизических причинах повреждения тройственной природы человека. Христианский неостоицизм ведет борьбу с последствиями этого повреждения на посюстороннем, природном уровне. Борьба эта тяжела, но не безнадежна: ведь изменению подлежат не только нравственные ценности (очевидно, что, по Хольбергу, они должны учитывать все виды отношений человека с миром и обществом, чтобы ни одно из них не препятствовало достижению максимально возможного счастья), но и соответствующая им картина мира (она также должна быть многоаспектной и открытой для изменений), а также «техника мысли» (как мы видели выше, здесь для норвежского философа наиболее ценна обстоятельность и эссенциа-листская направленность мышления). Приведенный нами выше фрагмент о положении дел в европейских академиях показывает, что копенгагенский профессор также считал эту борьбу непростой. Созданный им персонаж проигрывает эту борьбу, едва начав ее, однако сам Холь-берг, следуя долгу философа, посвящает этой борьбе и свою образовательную, и научную, и литературную деятельность. С этой точки зрения мы полагаем возможным утверждать, что «Подземное путешествие Нильса Клима» – это художественное произведение, созданное Людвигом Хольбергом в рамках традиции европейского воспитательного романа в целях популяризации гносеологических, экзистенциальных и этических идей христианского неостоицизма.
Список литературы Отражение идей неостоицизма в романе Людвига Хольберга "Подземное путешествие Нильса Клима"
- Гусейнов А.А. Философия как этический проект // Вопросы философии. 2014. № 5. С.16-26.
- Минеева Т.Г. Философско-правовые взгляды Людвига Хольберга // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 3. Ч. 2. С. 152-155.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М.; Харьков: Аст; Фолио, 2000.
- Столович Л.Н. Философия и юмор // Вопросы философии. 2011. № 7. С. 58-68.
- Фрагменты ранних стоиков. Т. I. Зенон и его ученики / Пер. и коммент. А.А. Столярова. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичали-на, 1998.
- Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. VII. Bind I. Kj0benhavn: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & S0n), 1893. URL: http://runeberg.org/dbl/
- Haakonssen, K. and Olden-J0rgensen, S. eds., 2017. Ludvig Holberg (1684-1754): learning and literature in the Nordic Enlightenment. Abingdon; New York: Routledge.
- Holberg, L. Ludovici Holbergii ad virum perillustrem *** epistola. URL: http:// holbergsskrifter.no/holberg-public/view?docId=le vnedsbreve%2FAdVir1.page&brand=
- Holberg, L., 1754. Nicolai Klimii iter subterraneum novam telluris theoriam ac historiam qvintae monarchiae adhuc nobis incognitae exhibens e bibliotheca B. Abelini. Hafniae; Lipsiae: Sumptibus Frid. Christian Pelt. URL: https:// opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV001527164
- Lipsius, J., 1584. De constantia libri dvo: qui alloquium prsciperue continent in publicis malis. Antverpis: Apud Christophorum Plantinum. URL: http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA51147 002310001551.
- Lundestad, E., 1998. Norsk filosofi fra Ludvig Holberg til Anathon Aall. Troms0: Universitetsbiblioteket i Troms0.