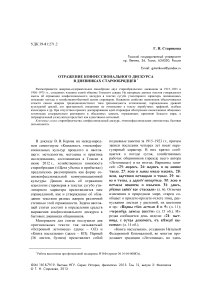Отражение конфессионального дискурса в дневниках старообрядцев
Автор: Старикова Галина Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается жанрово-содержательное своеобразие двух старообрядческих дневников за 1915–1923 и 1956–1975 гг., созданных членами одной общины Томского севера. На материале данных текстов утверждается мысль об отражении конфессионального дискурса в текстах сугубо утилитарного характера, посвященных описанию погоды и хозяйственно-бытовой жизни староверов. Названное свойство памятников обеспечивается отчасти самим жанром традиционалистского типа (разновидность летописания), порожденным древней культурной средой, его прагматикой, внешними по отношению к тексту атрибутами: графикой, особым календарем и др. При отсутствии прямого декларирования идей староверия обостренное самосознание общинных летописцев содержательно растворено в обыденных записях, отражающих гармонию Божьего мира, а патриархальныйукладжизнипредстает какединственно истинный.
Старообрядчество, конфессиональный дискурс, этноконфессиональная лингвистика, бытовая письменность
Короткий адрес: https://sciup.org/147218731
IDR: 147218731 | УДК: 39-81:271.2
Текст научной статьи Отражение конфессионального дискурса в дневниках старообрядцев
В докладе В. В. Керова на международном симпозиуме «Книжность этноконфес-сиональных культур прошлого и настоящего: методология, методика и практика исследования», состоявшемся в Томске в июне 2012 г., хозяйственную книжность старообрядцев («Щета убытка и прибытка») предлагалось рассматривать как форму со-циоконфессиональной коммуникационной культуры. Данная мысль об отражении идеологии староверия в текстах сугубо утилитарного характера представляется нам справедливой, как и утверждение об обладании текстами разных жанров различной степенью этой отраженности. Задача настоящей статьи состоит в определении средств выражения конфессионального дискурса в бытовых дневниках общинников.
Материалом для статьи послужили два оригинальных текста: так называемый «Островной летописец» (далее – ОЛ) и «Книга пасхальная» (далее – КП). Первый (36 листов, бумага) представляет собой подневные заметки за 1915–1923 гг., причем записи последних четырех лет носят нерегулярный характер. В них кратко сообщается о погоде суток, хозяйственных работах общинников (прежде всего автора «Летописца») и их итогах. Варианты записей: «25: морокъ. 26: морокъ и не шипко тлело. 27: ясно и лывы wколо избовъ. 28: ясно, клртовки потащили и тепло. 29: ясно и тепло, л дороги непортило. 30: ясно и потлело пошипче и wБллчки. 31: дошъ, Рубили cahkU все стлсклли» (л. 6). Отмечая изменения в природном мире, старец сообщает о прилете-пролете-отлете птиц, распускании листьев у растений, их цветении и пр.: «Первы г^си летели 8 и 9» (л. 11); «черем^л злчелл свести» (л. 15 об.). Изредка сообщается день недели: «21: п#т-ницл, c оутрл дожичокъ, къ в^чер^ вы-еснило» (л. 14 об.).
«Книга пасхальная», созданная Натальей Федоровной Коноваловой, во многом продолжает традиции «Летописца», но здесь описаны только дни пасхальной недели, а также отмечены наиболее знаменательные события прошедшего года: «1966 года была Пасха марта 31. 1 день Пасхи ясный, теплый. 2 день тоже ясно, а студено. 3 тАкже. 4 утром снегь сырой, сполдня стало ясно и студено. К нам приходили гости БрАтец ОтифАн, сестрицА 6кдок1д. А я ушлА к гости к ПрАксеюшке, там нояекАЛА, утром рано пришлА. Мы ходили на озирА, лотку козили. бще Манияка пришлА [...] бтот годь к Алексеек день а с Шлиякой расталаса нАкернА нАксегдА, ни кидать боли никогда. бтот год были Валода, Дус#, ШурА, Вита. А зимой к фекрАле САМАлет 3 недели летАль» (л. 2).
Как показал материал, открытое декларирование идей староверия в текстах отсутствует. Религиозная сторона жизни этих людей представлена преимущественно указанием на события церковного календаря. Так, у старца читаем: « 8 : Хоанна Б ( о ) го-слока, брат1а пр1ехАли, холодно, нояью иней болшой. 9 : Николинь д ( е ) нь, не холодно и кетрь. 10 : Симона Зилота, братьи оуехАли, тепло. 11 : Вознесение. Дымоу шипко много нАтенуло, еям^нь и моркокь сходать, тоупАняики прилетали » (л. 15). Или: « ГОс^ле нАяинАетс# пость <_> н ( е ) деля перкАя поста » (л. 5); « Воскресеше. Петрокь м#сопусь » (л. 35). Набор праздников в женском дневнике, как следует из его названия, еще более скуден. Поскольку церковный календарь старообрядцев совпадает с календарем РПЦ, отра-женность конфессионального духа древле-православия следует искать в ином направлении.
В этой связи прежде всего обращают на себя внимание жанровые характеристики памятников, хорошо известные в среде староверов. Содержание краеведческого характера позволяет увидеть в общинных дневниках отголоски летописного жанра, представляющего здесь региональные интересы. Известно, что к уже XVIII в. летописцы интересовали русских бытописателей, став городскими, монастырскими, семейными хрониками. Этот факт, с одной стороны, объясняет немногочисленность пространных старообрядческих летописей, охватывающих многовековую историю раскольнических общин и раскола вообще: к настоящему времени в научный оборот введены лишь два таких памятника – Выго-Лексинский и Дегуцкий летописцы, продолжающие традиционную хронографию, но включающие при этом уже и «малую» историю – жизнь общин, где они были созданы 1. С другой стороны, он же мог стимулировать и региональное бытописание.
Старообрядец, ведущий дневник, добровольно брал на себя дополнительные обязательства перед общиной, самим собой (и Богом), что давало ему шансы на спасение (вспомним приписки древних книжников типа «имея дар, да сокрою его – проклят буду»), одновременно усложняя путь к последнему: «Грамотному спастись тяжельше. Надо за людей отвечать…» – мнение старообрядческих книжниц Верхнекамья, выраженное Е. Б. Смилянской на названном выше симпозиуме. В этой ситуации одни занимались тиражированием конфессионально значимых текстов, а другие создавали собственные: духовные стихи, полемические статьи либо же скромные дневники. Преследуя частные цели, каждое из произведений реализовало и общую идею создателей – сохранение давних традиций книго-писания, древлеправославной обрядности, способствуя, в конечном счете, утверждению конфессиональной идентичности. Эта идея находит свое воплощение и в исследуемом жанре, где, к слову сказать, старец использует и трафаретный для летописей зачин: « Вь л^то 7430 м ( е ) с ( я ) цА генкАр#, кь 28 д ( е ) нь перешли сокс^мь жить на Д^нАеки » (л. 32).
Прагматика ведения регулярных записей неоднократно подчеркивалась в рукописи летописца старообрядческого с. Кунича К. И. Донцова (1893–1952): «Краткое описание 1925 г. передаю на память грядущему поколению. Год не урожая, год бездождия, год голода, год несчастных долгов, ужасов и несчастий. Переживший 1925-й год был настоящим страдальцом. И все это мы имели наказание от Господа Бога за наши про-грешния, за наши беззакония» [Смилянская, Денисов, 2007. С. 275]. Он рассказывал о закладке и освящении храма, выборах священника, приезде архиереев в Куничу.
Масштабность же описываемых в томских дневниках событий соизмерима с жизнью малочисленного старообрядческого лесного поселения: « Братец Терентей приндли с ( кя ) тое кре [ щенье ]» (ОЛ, л. 6), « Хканъ Иканокичь пришли и сказали, што Анна оушла » (ОЛ, л. 13 об.). Сообщения о выходе староверов из общины и разногласиях в их среде усматриваются в записях: « бтоть годт фекралд 15 Wwшла w наст сестрица Басса, нас wстакил Минд » (КП, л. 7); « етот год Маничка ушла <...> и ат кратии мы ГОлучилисд » (КП, 3 об.).
К. И. Донцов также указывал: «Я решил записать на память, чтобы возможно было отсюда наблюдать за явлениями в природе и ходом совершающихся и являющихся атмосферных явлений, откуда должно и произойти урожайность этого лета» [Смилян-ская, Денисов, 2007. С. 87]. Очевидна утилитарная направленность текста, созданного и томским старцем, хотя он и не сопоставляет результаты труда в разные годы. День за днем описывая погоду и хозяйственные дела общинников, он обязательно указывает время начала и конца каждого вида работ, подводит их итоги. Например, в записи от 08(21).08.1916 читаем: « Зачали жать » (КП, л. 10), а через 9 дней: « Сжались, ржы ксего нажали 178 снопокъ, аглецкока ечменю ксего 58 снопокъ, голоколосой пшеницы <_> снопокъ, окса 15 » (КП, л. 10 об.). Им измерены площади всех смотыженных под огород и поля загонов, сосчитаны горсти вырванного льна, полумотки произведенной пряжи, кули сбитых шишек, собранные корзины репы и чашки ягод, пойманная рыба и др.
Из этого следует, что текст создавался «пользы дела ради»: не секрет, что рациональное хозяйствование для старообрядцев было одним из факторов реального выживания – как при жизни в миру в условиях притеснений, так и без таковых, но в ситуации таежной замкнутости. Можно также отметить, что подобные регулярные записи – это еще способ отслеживания календаря, счисления дат, которые имеют свою специфику у старообрядцев. Так, старец применяет два календаря, в том числе от сотворения мира, но перевод дат александрийский – с разницей в 5 500, а не общепринятые 5 508 лет, год начинается с сентября, граница суток – «наши» 18.00:
« Покое л^то начинается 7426-е, м^сецъ сентдкрь » (КП, л. 19). Женщина считает года от Рождества Христова, но сохраняет разницу в 8 лет, называя 1956 год 1964-м, а 1957 - 1965-м и т. д.: « 1966 года выла ПасХа 31 » (л. 2).
Они подражали эстетике древней книги и в ее оформлении. Наталья, бывавшая в Колпашево, летавшая на вертолете, имевшая переписку с рядом адресатов, в качестве писчего материала дневника, тем не менее, использовала бересту. Остается гадать: это воля случая или же сознательный выбор женщины? В «Летописце» встречаются простейшие заставки при переходе к новому «сентябрьскому» году (л. 19), месяцу (л. 18, 34), зачинные слова порой выделяются более крупными буквами (л. 10, 13, 16), а названия месяцев берутся в рамочку (24, 27). Концовка представляет исполненные в подражание традициям вязи буквы Х и С. В заключении простой литореей другой рукой написано имя «многогрешного Василия» ( прочочмевный Ша-лисий ), что также обращает нас к древнерусской книжности, как и приписки на 1, 2 и 36-м л., являющиеся пробой пера. Оба автора используют полный кириллический алфавит, полууставный тип письма, который в старообрядческой среде считается наиболее соответствующим содержанию священных книг, многообразные диакритики, кириллические цифры. На скоропись они переходят только тогда, когда начинают выражать свои чувства [Приль, 1995. С. 185; Старикова, 2011. С. 38].
Названные черты «книжного рукописания» поддерживают древлеправославную обрядность, пусть даже отчасти внешние ее стороны, назначение которой безотносительно к староверию замечательно сформулировал историк: «Обряд – религиозный пепел: это нагар на вере, образующийся от постепенного охлаждения религиозного чувства; но он и охраняет остаток религиозного жара от внешнего холода жизни. Обряд – действие, вызываемое чувством; становясь привычным, оно может и заменять утомленное чувство, готовое погаснуть. В пепле долго держится часть тепла от горения, его образовавшего» [Ключевский, 1968. С. 87]. Необходимость сохранения самобытности, сакрального пространства, предполагающих культурную преемственность, обращает старообрядцев к созданию текстов и в этом жанре.
Конфессиональный дискурс, выражаемый К. И. Донцовым прямо, в наших дневниках восстанавливается по разрозненным крупицам содержания. Конечно, он очевиден в сообщениях о «своих» – братцах, сестрицах, старице, братии, отце – лучшем среди равных, как принято у беспоповцев: мужчиной он упоминается лишь в связи с обыденными ситуациями: « Мы с оччом оушли на TUmtkU [рыбачить]» (л. 12); « очьча изБоу опшиль тесомь » (л. 26 об.). Н. Ф. Коновалова же говорит о наставнике, который был ее отцом, скорее с пиететом, сообщение о его смерти передает в традициях житийной литературы, но этот текст в ее «Книгу» не включен (ТОКМ. Ед. хр. 12676/31). Общинная артельность, предполагающая не только общий труд, но и совместность принятия решений, заключена в записи: « Остановились по жреБ1ю жить на юзере » (ОЛ, л. 12 об.).
Несмотря на то, что религиозная сторона жизни прописана в памятниках лишь контурно, дневник в силу жанровых особенностей позволяет даже в отсутствие развернутых рефлексий, как в случае с «Летописцем», или при краткости текста, как в «Книге пасхальной», охарактеризовать их авторов как носителей традиционной для старообрядчества иерархии ценностей. В этих текстах проявлены признаки, которые называют идентифицирующими для данного конфессионального сообщества: маргинальность, замкнутость, обостренное самосознание, традиционализм, а также эсхатологизм [Никитина, 2009. С. 14], особенно четко выраженный в женском изложении. Так, рефреном в конце 12-й из 20 записей «Книги» звучит с небольшими вариациями: « И так мое с ( е ) рдце вещает, что последню весн^ все живем, а боли другой не стретить, не жить, а толко плакать » (л. 9 об). Соответственно, в 6 случаях началом являются слова: « А мы еще пока живем все трое, сколь Г ( о ) с- ( по ) дь тдсть ж1т1я » (л. 9), в другом варианте: « бще Бл ( д ) г ( о ) д ( д ) рю та, Г ( о ) с- ( по ) ди, никогда не чделд, а еще Г ( о ) с ( по ) дь своим милосердием повелель дожить до Пдс\и » (л. 13 об.). Показательна в этом отношении фраза (пробы пера) в «Летописце»: « ПогиБе верд, погиБе » (л. 36 об.).
Острое ощущение конца не ослабляет их веры. Наталья постоянно стенает, но в письме подруги Марии к ней читаем: «Конешна, я бы желала, чьтобы вы, Наташа, выхадили, но аб етом, канешна, писать беспалезна, потому что вас оттудова параходной чалкой не вытенишь» (ТОКМ. Ед. хр. 12676/18). Старец же благостно любуется устроенным по-божески природным миром, частью которого он является. Его отношение к окружающему выражается эпитетами («А в^черомь дошь и д^гд шипко баска и пречюдндА» - л. 16 об.) и особенно большим количеством производной лексики с суффиксами субъективной оценки, причем всегда положительной: морочок, Бурднчик (л. 3), снежочек (л. 4), ветерочек, солнышко (л. 5), облачки (л. 6), здБережнички (л. 11 об.) черымчик, ку\-точкд, инеечек (л. 18), ведрышко (л. 18 об.), а также мдлесинько (л. 4), ждрконько (л. 7 об.), сыренько (л. 29), мяконькой (2 об.), реденькой (4 об.), тоненькой (5) и т. п. Ему вторит женщина: «1-й [день ] был асный веселый студеный» (л. 1), в речи которой тоже много деминутивов - окошечко, вес-точкд (л. 3 об.), следок (л. 11), рыбка (л. 3) и др.
Этот мир расцвечен всевозможными красками: « G оутрд зачало засинивать » (ОЛ, л. 4 об.); « черниньки оуточки прилетели, Березовой островь позеленель » (ОЛ, л. 8); « мдкь здцв^ль » (ОЛ, л. 9 об.). В нем в полной гармонии уживается все сущее, у каждого свое « здделье » - см. запись от 04(17).05.1925 (1917): « Дожичокь и тепло, ечмень дглетской посмели, озеро Без мдловд вокр^гь оБье\дли, на озере оутки плдвдють, и косачи ток^ють, и мы ездимь » (л. 15). Дневники рисуют самодостаточных людей-тружеников, сознательно принявших тяготы такой жизни. Они работают в кузнице, на мельнице, выделывают кожи, выращивают хлеб, занимаются рыбалкой, смолокурением, прядением, ткачеством и еще многими делами, не отступая от канонов братского мира. Этот образ жития без каких-либо рефлексий и комментариев признается общинниками как единственно праведный.
Старообрядцы – носители древних религиозных и бытовых традиций. Особенностью их культуры в новейшее время является продолжающееся «книжное рукописание». В обращении к жанру дневника можно увидеть комплекс причин, как утили- тарных, так и собственно конфессиональных, что обеспечивает ему возможность выражать древлеправославную идеологию и содержанием, и формой.
THE REFLECTION OF CONFESSIONAL DISCOURSE IN OLD BELIEVERS’ DIARIES
Список литературы Отражение конфессионального дискурса в дневниках старообрядцев
- Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М.: Наука, 1968. 525 с.
- Никитина С. Е. Человек и социум в народных конфессиональных текстах (лексикографический аспект): Моногр. М.: ИЯ РАН, 2009. 354 с.
- Приль Л. Н. «Островной летописец» // Тр. Томск. гос. объедин. ист.-архитек. музея: Сб. ст. / Под ред. Н. М. Дмитриенко. Томск: Изд-во ТГУ, 1995. Т. 8. С. 183-222.
- Смилянская Е. Б., Денисов Н. Г. Старообрядчество Бессарабии: книжность и певческая культура: Моногр. М.: Индрик, 2007. 432 с.
- Старикова Г. Н. «Женские записки» старообрядческой коллекции: к проблеме единства содержания и формы текста // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10, вып. 9: Филология. С. 35-39.