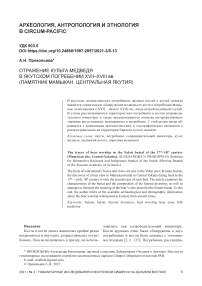Отражение культа медведя в якутском погребении XVII-XVIII вв. (памятник Мамыкан, Центральная Якутия)
Автор: Прокопьева Александра Николаевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific
Статья в выпуске: 3 (57), 2021 года.
Бесплатный доступ
В якутских дохристианских погребениях находки костей и когтей медведя являются единичными: обнаружение медвежьего когтя в погребении Мамыкан, относящемся к XVII - началу XVIII вв., лишь второй подобный случай. В статье рассматриваются характеристики погребения и состав сопроводительного инвентаря, а также предпринимается попытка интерпретировать значение когтя медведя, помещенного в погребение. С этой целью автор обращается к имеющимся археологическим и этнографическим сведениям о распространенном на территории Евразии культе медведя.
Якуты, погребение, сопроводительный инвентарь, культ медведя, медвежий коготь, народная медицина
Короткий адрес: https://sciup.org/170191732
IDR: 170191732 | УДК: 903.5 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-3/5-13
Текст научной статьи Отражение культа медведя в якутском погребении XVII-XVIII вв. (памятник Мамыкан, Центральная Якутия)
Кости и когти диких животных крайне редко встречаются в якутских дохристианских погребениях. Они не включались в тризну, не исполь- зовались как сопроводительный инвентарь. Кости крупных птиц были обнаружены в двух погребениях и могли быть связаны с тотемными птицами [3, с. 135]. Погребение, рассматри- ваемое в данной статье, является вторым, где был обнаружен коготь дикого животного; и в том и в другом случае речь идет о когте медведя. Другим интересным фактом является то, что оба погребения – женские. Что могло лежать в основе этой особенности погребальной обрядности? Имеет ли значение пол погребенных в этом контексте? На основании археологического материала и при привлечении этнографических данных мы порассуждаем о возможных ответах на эти вопросы.
Описание погребения и материалов
Археологический комплекс Мамыкан был открыт в 1991 г. сотрудниками Майинского краеведческого музея Э.К. Жирковым и Н.П. Прокопьевым [15]. Он расположен в одноименной местности в 1,5 км от с. Майя Мегино-Канга-ласского района Республики Саха (Якутия). Комплекс состоит из поселений Мамыкан 1 и Мамыкан 2 кулун-атахской культуры XIV– XVI вв. и погребения XVII–XVIII вв., которое было обнаружено в ходе разведочных работ Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН в 2020 г.
Для разбивки разведочного шурфа был выбран наименее подвергнутый оттайке участок на северной террасе аласа. Сразу после сня- тия дерна были обнаружены остатки обгоревшей древесины и расплывчатое рыжеватое пятно с содержанием древесного угля, размером 180х90 см. В юго-западном углу квадрата А-3 сразу под дерном был обнаружен обломок трубчатой кости со следами разделки. На глубине 50 см от дневной поверхности проявилась крышка могильной конструкции, ориентированной по вектору запад-восток. Могильная конструкция состояла из двух частей плохой сохранности: саркофага и гроба. Крышка саркофага на 2/3 (в западной и центральной части) была покрыта тонким прошитым берестяным полотнищем. Саркофаг состоял только из крышки и боковых стенок из горбылей. Длина саркофага – 190 см; ширина западной части – 85 см, восточной – 76 см; высота – 36 см. Гроб состоял из четырех стенок и днища из плах: по одной широкой доске для стенок и две для днища; крышка гроба под саркофагом не прослеживается. Стенки-торцы изголовья и изножья вставлены в боковые стенки с отступом от края таким образом, что у изголовья этот отступ составил 11 см, у изножья – 21 см. Гроб имел следующие размеры: длина – 203 см; ширина западной стороны – 36 см, восточной – 32 см; высота – 26 см.
В гробу покоился костяк человека некрупного телосложения, на спине с завалом туловища

Рис. 1. Погребение Мамыкан. Общий вид
на левый бок (Рис. 1). Ноги подогнуты, колени направлены в правую сторону, стопы расположены вплотную к юго-восточному углу гроба и направлены вправо. Руки слегка согнуты в локтях, кисти уложены поверх левой части таза. Целостность костяка не нарушена, но сохранность неудовлетворительная. Примерный рост погребенного – 145 см. Антропологический осмотр черепа показал, что костяк относится к женскому.
От шеи до колен тело было укрыто одеялом из заячьего меха, остатки которого четко прослеживались поверх костяка. Лицо прикрыто куском меха или перевернутой меховой шапкой. Одежда погребенной сильно истлела, и возможность восстановления первоначального фасона исключена. На основе осмотра сохранившихся частей можно прийти к выводу о том, что на погребенной была меховая шапка, комбинированная с шелковой тканью с жаккардовым рисунком, и меховое пальто шерстью наружу. Поверх пальто, вероятно, был кожаный пояс, так как в области подреберья обнаружена железная пряжка плохой сохранности. На ногах были ноговицы «сутуруо», от которых остались фрагменты верхней и нижней кромки. Судя по сохранившемуся фрагменту верхней части, ноговицы были меховые, шерстью внутрь. На внешней части ноговиц у верхней кромки были пришиты медные кольца для крепления к натаз-никам. Вдоль нижних срезов и боковых швов ноговиц была проложена лента из бисерной вышивки: центральным мотивом является повторяющийся крестообразный узор из четырех белых бусин и нескольких черных бусин между ними; от этого мотива по двум сторонам проходят по три линии из голубых бусин; заключает узор линия из чередующихся двух белых и двух черных бусин. Рядом со скоплением бисера у малой берцовой кости левой ноги был обнаружен коготь (Рис. 2) молодого медведя (определение к.б.н., с.н.с. Северо-Восточного федерального университета М.Ю. Чепрасова).
Под правой бедренной костью были обнаружены ножны без ножа, состоящие из берестяной основы и деревянного вкладыша (Рис. 3). Берестяной чехол имеет вид удлиненного прямоугольника, расширяющегося к устью. Длина ножен 21,3 см; длина широкой части 9,2 см. Высота узкой части 2,5 см, широкой части – 4,2 см. В сечении ножны имеют каплевидную форму, острой частью вниз. На нижней части приустьевой широкой стороны имеются два овальных отверстия для продевания подвеса. Размеры отверстий: высота – 0,6 см, ширина – 1–1,3 см. Устье также имеет каплевидную в сечении форму, ширина самой широкой части – 2,3 см; высота – 4,2 см. На поверхности

Рис. 2. Погребение Мамыкан. Положение ног погребенной. Красным кругом отмечен коготь медведя

Рис. 3. Берестяные ножны из погребения Мамыкан берестяного чехла тупым острием нанесен геометрический орнамент из линий, повторяющих форму чехла и частично заполняющих пространство между краями. Под правой бедренной костью рядом с ножнами было обнаружено кольцо-коннектор, с помощью которого ножны крепились к поясу. Кольцо отлито из сплава олова и меди с большим количеством олова, что видно по серому цвету металла. Коннектор представлен в виде вписанного во внешнее кольцо креста с внутренним кольцом. Толщина изделия – 0,2 см; диаметр внешнего кольца – 3 см; диаметр внутреннего кольца – 1,9 см. На одном из сегментов изделия сохранился фрагмент кожаной петлицы.
Рядом с головой, с правой стороны погребенной был обнаружен развал деревянного сосуда. Судя по остаткам, это был небольшой туесок для пищи. Сосуд состоял из вставленного донышка и тулова, сделанного из загнутой в виде цилиндра дощечки. Место стыка было соединено тальниковым прутиком. На тулове был резной орнамент в виде параллельных линий и зигзага. Внутри сосуда находились остатки пищи.
У северо-восточного угла был обнаружен железный предмет. Это пластина, слегка согнутая по обеим краям (Рис. 4). Длина изделия – 6 см, ширина – 1,5 см. С одной стороны пластина была подточена, поэтому в сечении имеет вытянуто-подтреугольную форму. Толщина широкой стороны (обуха) – 0,4 см, лезвия – 0,2 см. Судя по форме изделия, это специальный нож для изготовления деревянного сосуда [8, с. 123] или обработки кожи. Стоит отметить, что рабочие инструменты тоже являются редкостью в якутских погребениях.
Состояние костяка и относительно небольшая глубина могильной ямы дают основания датировать погребение XVII – началом XVIII вв. Внутримогильные сооружения в виде

Рис. 4. Железное лезвие инструмента из погребения Мамыкан
саркофага из горбылей и ящика-гроба из досок являются характерными для погребений XVII– XVIII вв. [3, с. 61]. Наличие шелковых вставок на шапке, искусно изготовленной деревянной посуды и бисерной вышивки указывают на социальный статус покойной выше среднего.
Коготь медведя в погребении
Как было упомянуто выше, кости диких животных и птиц в целом крайне редко встречаются в погребениях: в 4 из 218 грунтовых погребений (включая погребение Мамыкан). В женском погребении Ампаардаах у правой ноги погребенной был обнаружен деревянный сосуд с крышкой, внутри которого были помещены кости некрупной птицы, куски выделанных кож, жильные нитки и обрезки синей ткани [11, с. 47]. Исходя из состава содержимого сосуда, можно предположить, что кости могли быть связаны с шитьем и изготовлением одежды. В мужском погребении в местности Дыга-сы были обнаружены кости стерха (Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. 1407. Оп. 1. Д. 44). В погребении Тонгус Кюель 4 дистальная фаланга медведя с когтем лежала у правой ноги погребенной женщины [20].
В древности культ медведя был распространен у многих народов Евразии, что подтверждается археологическими и этнографическими данными [17]. Культ медведя является одним из древнейших, истоки которого восходят к эпохе верхнего палеолита [19, с. 14]. Череп, когти и зубы медведя встречаются среди археозоологи-ческих материалов культовых мест и комплексов, поселений и погребений. Скелетные части, в частности, череп использовались для обрядов, связанных с идеей «умирающего и воскресающего» божества. Погребали отдельные части скелета медведя, в частности – черепа [7]. В контексте поселений находят цельные кости лап, челюсти, что свидетельствует о существовании соответствующих религиозных представлений. В целях апотропейной магии зубы и когти носили как подвеску [13], пришивали на одежду [10, с. 28], включали в состав узды [6].
На территории Якутии еще не найдены древние святилища или жертвенные места с костными останками медведя, не обнаруживается их существенное количество среди материалов стоянок и поселений. К единичным случаям можно отнести находки в очажных ямах многослойного поселения Куллаты. Половина челюсти медведя была обнаружена в яме № 1
ниже черепа, лопатки и бедренной кости лося [14, с. 31]. На дне ямы № 3, приуроченной ко 2 слою, были обнаружены фаланги и когти медведя в анатомическом порядке [14, с. 34]. Рядом с лапой находился рог лося и крупный фрагмент неолитической керамики. Поверх них были уложены плиты песчаника, перекрытые 5-сантиметровым слоем золы, в котором была обнаружена флейта из кости большой птицы. Содержание очажных ям (в дополнение к вышеописанным – роговая секира в наклонном положении, лезвием ко дну, в яме № 2) можно интерпретировать как часть религиозного культа неолитического населения Якутии. Остеологический материал из поселенческих памятников XVII–XVIII вв. еще не становился темой специального исследования, поэтому трудно сказать о наличии в них костных останков медведя. Но если отталкиваться от этнографических материалов, то останки медведя складывали на специальном лабазе, а череп вешали на дерево [1, с. 117].
В культуре и быте современных якутов до сих пор прослеживаются характерные для культа медведя элементы: представления о медведе как о человеке (миф о медведе – превращенном человеке; миф о сожительстве женщины и медведя; иносказательность, т.н. медвежий язык и т.д.), особые способы и приемы охоты на медведя, правила принятия в пищу медвежьего мяса и сала, сохранение целостности костей и особое обращение с костными останками. Все это относится к древнейшему евразийско-американскому пласту медвежьего культа [4] и в древности было обязательным к исполнению всеми членами коллектива. Возможно, к этому же культу восходит якутское гадание « түөрэх бырагыы » – подбрасывание ритуальной ложки или колотушки шаманского бубна для получения ответа на заданный вопрос. Аналогичное гадание, но с подбрасыванием медвежьей лапы фиксируется у многих народов Сибири [17, с. 47; 18, с. 124]. На связь этих гаданий указывает то, что у кетов, хакасов и тунгусо-манчжурских народов лапа медведя могла служить колотушкой шаманского бубна [9].
В этнографии якутов вплоть до современности коготь и лапа медведя с когтями считаются сильными оберегами [1, с. 111]. Целую лапу медведя вешали над колыбелью, чтобы злой дух не забрал душу ребенка, амулеты в виде когтя носили на ремешке для апотропейной магии. Аналогичные практики были широко распространены в Сибири. Например, качинцы вешали сушеные лапы медведя с когтями на крючок за дверью [1, с. 120], а ненцы хранили как амулет клык и коготь, охотники носили клык медведя на поясе в качестве апотропея и талисмана [12, с. 41]. Подобные амулеты бытуют в Якутии и в наши дни, начиная от высушенной лапы медведя над входом в дом и заканчивая инкрустированным серебром когтем в салоне автомобиля. Зуб и лапа медведя с когтями использовались в народной медицине. Например, при зубной боли следовало держать во рту медвежий зуб [5, с. 32], а при мастите когтями царапали больную грудь [5, с. 41; 16]. Последнее, вероятно, восходит к распространенному мифу о женщине, превратившейся в медведя [2, с. 51]. Тем интереснее тот факт, что коготь медведя был найден именно в женских погребениях.
В свете того, что коготь медведя использовался в народной медицине, необычное положение тела в гробу и наличие когтя вкупе могут свидетельствовать о плохом состоянии здоровья погребенной. Он мог использоваться как амулет или часть терапии. Уложение когтя у ног и само положение ног погребенной могут указывать на болезни опорно-двигательного аппарата. Коготь мог находиться в мешочке или был прикреплен к голенищу обуви или ноговицам.
В Центральной Якутии многие топонимы имеют тунгусо-маньчжурское происхождение, это относится и к названию «Мамыкан»: слово амака/амикан ( мамыкан ) на эвенкийском языке означает «медведь». Можно предположить, что название местности связано с тотемным животным жителей аласа, но вряд ли можно указывать на конкретную связь. Тем не менее, это интересное совпадение.
Заключение
В целом, рассмотренное погребение оказалось интересным с научной точки зрения. Несмотря на кажущуюся типичность, в нем заключены нехарактерные для аналогичных памятников артефакты: медвежий коготь, профессиональный инструмент и пустые берестяные ножны. Кости и когти диких животных и птиц в якутских погребениях единичны, поэтому обнаружение когтя медведя в погребении Мамы-кан имеет большое значение. Здесь мы видим отражение культа медведя, согласно которому части этого животного обладают магической защитной и целительной силой. Коготь мог служить защитным амулетом при жизни погребенной или был частью народной медицины.
Список литературы Отражение культа медведя в якутском погребении XVII-XVIII вв. (памятник Мамыкан, Центральная Якутия)
- Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1980.
- Алексеев Н.А. Традиционные религиозные верования якутов в XIX - начале XX в. // Этнография и фольклор народов Сибири. Новосибирск: Наука, 2008. С. 17-184.
- Бравина Р.И., Попов В.В. Погребально-поминальная обрядность якутов: памятники и традиции (XV-XIX вв.). Новосибирск: Наука, 2008.
- Васильев Б.А. Медвежий праздник // Советская этнография. 1948. № 4. С. 78-104.
- Григорьева А.М. О народной медицине якутов. Якутск: Кн. изд-во, 1991.
- Гуляев В.И. Образ медведя в скифо-сибир-ском зверином стиле // Археология евразийских степей. 2017.№ 3. С. 119-140.
- Жамбалтарова Е.Д. Культ медведя у древнего населения Юго-Восточного Прибайкалья: интерпретация ранненеолитического объекта с черепом медведя Фофановского могильника // Россия и АТР. 2013. № 3. С. 142-151.
- Зыков Ф.М. Традиционные орудия труда якутов (XIX - начало XX века). Новосибирск: Наука, 1989.
- Кернер В.Ф. Медведь в обрядах перехода // Образы и сакральное пространство древних эпох. Екатеринбург: Аква-Пресс, 2003. С. 49-66.
- Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2002.
- Константинов И.В. Материальная культура якутов XVIII в. (по материалам погребений). Якутск: Якутиздат, 1971.
- Косарев М.Ф. Основы языческого миропонимания. М.: Ладога-100, 2003.
- Косинцев П.А. Человек и медведь в голоцене Северной Евразии (по археозоологи-ческим данным) // Народы Сибири: история и культура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 4-9.
- Окладников А.П. Ленские древности. Вып. 3. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.
- Прокопьева А.Н. Раскопки средневекового поселения Мамыкан // Вопросы изучения истории и культуры народов Центральной Азии и сопредельных регионов. Материалы Международной научно-практической конференции. Кызыл, 2006. С. 30-33.
- Содномпилова М.М. Лекари-близнецы в культуре тюрко-монгольских народов: круг целительских практик, атрибуты, приемы // Известия Лаборатории древних технологий. 2020. Т. 16. № 2. С. 67-80.
- Соколова З.П. Культ медведя и медвежий праздник в мировоззрении и культуре народов Сибири // Этнографическое обозрение. 2002. № 1. С. 41-59.
- Степанова О.Б. Северные селькупы: система традиционных взглядов в зеркале одного интервью // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 2. С. 124-131.
- Табарев А.В. О ранних свидетельствах существования культа медведя в Евразии и Северной Америке // Народы Сибири: история и культура. Медведь в древних и современных культурах Сибири. Новосибирск, 2000. С. 10-14.
- Crubézy, Е., 2007. Mission Archéologique Française en Sibérie Orientale - 2007 (Rapport). Toulouse: Université Paul Sabatier.