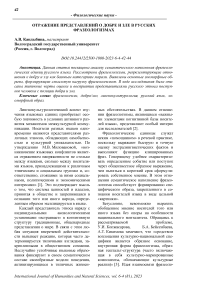Отражение представлений о добре и зле в русских фразеологизмах
Автор: Кандыбина А.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 6-4 (81), 2023 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена анализу семантического наполнения фразеологических единиц русского языка. Рассмотрены фразеологизмы, репрезентирующие отношения к добру и злу как базовым категориям морали. Выявлены основные зооморфные образы, формирующие смысловую нагрузку фразеологизмов. В ходе исследования были описаны типичные черты оценки и восприятия представителями русского этноса поступков человека с позиции добра и зла.
Фразеологизм, добро/зло, лингвокультурология, русский язык, зооморфный образ
Короткий адрес: https://sciup.org/170199660
IDR: 170199660 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-6-4-42-44
Текст научной статьи Отражение представлений о добре и зле в русских фразеологизмах
Лингвокультурологический аспект изучения языковых единиц приобретает особую значимость в условиях активного развития механизмов межкультурной коммуникации. Носители разных языков одновременно являются представителями различных этносов, обладающих самобытностью и культурной уникальностью. По утверждению М.В. Миловановой, «возникновение языковых конфликтов является отражением напряженности не столько между языками, сколько между носителями языков, принадлежащими к различным этническим и социальным группам и, соответственно, стоящими за ними социальными, политическими и экономическими интересами» [1]. Это подтверждает мысль о том, что система ценностей и идеалов, принятая в обществе и закрепившаяся в сознании того или иного народа, определенным образом эксплицируется в языке.
Каждый представитель этноса наряду с индивидуальными аксиологическими установками «встраивает» в когнитивную структуру традиционные, общенародные представления о мире. В связи с этим любая ситуация внеречевой действительности вызывает реакцию, которая часто детерминируется типичными взглядами, закрепленными в общественном сознании. Неслучайно устойчивые языковые образования фиксируют в своем семантическом составе своеобразные модели поведения, активизирующиеся в типичных жизнен- ных обстоятельствах. В данном отношении фразеологизмы, являющиеся «важными элементами когнитивной базы носителей языка», представляют особый интерес для исследователей [2].
Фразеологические единицы служат неким «помощником» в речевой практике, поскольку выражают быструю и точную оценку экстралингвистических фактов и выполняют функцию клишированных фраз. Говорящему удобнее охарактеризовать определенное событие или поступок через общеизвестное образное выражение, чем пытаться в короткий срок сформулировать собственное мнение. В этом отношении семантическое наполнение фразеологизма способствует формированию специфического образа, закрепленного в сознании носителей языка в виде цельной «картинки».
Безусловно, невозможно выразить обобщенное мнение носителей того или иного языка без опоры на особенности национального менталитета. Обращаясь к рассматриваемой проблеме, У.И. Копжасарова, Б.А. Бейсенбаева, А.Т. Кикимова замечают, что «средством воплощения культурно-национальной специфики является образное основание, внутренняя форма фразеологизма, образная гештальт-структура (часто включающая в себя культурно-маркированные компоненты, обозначающие культурные реалии)» [3]. Идея взаимосвязи фразеоло- гического фонда языка и культурноэтнической базы позволяет говорить об актуальности исследований, связанных с выявлением типичных представлений о мироустройстве в семантике фразеологизмов.
Отношение к добру и злу как универсальным нормативно-оценочным категориям базируется на духовно-нравственных ценностях. Общество всегда соотносит поступки и действия человека с требованиями и нормами морали: «этически ценным (добрым) поступком является поступок того, кто предпочел добро злу» [4]. В силу своей универсальности понятия о добре и зле обязательно находят отражения в устойчивых языковых единицах: пословицах, поговорках, фразеологизмах, приметах и т.д.
В фразеологическом фонде русского языка выражения, транслирующие представления о добро и злом, обладают спецификой, поскольку репрезентируют особенности менталитета русского этноса. Типичные элементы бытовой жизни становятся основой для создания семантического наполнения фразеологизма. Особое распространение получают зооморфные образы, которые могут быть связаны либо с конкретным наименованием животного, либо с определенной отличительной чертой живого существа. Такие примеры, как Змея подколодная; Пригреть змею на груди является показательными с точки зрения центрального образа, который строится на ассоциативной связи. Змея в сознании людей всегда связана с хитростью, коварством и злом. Однако в данном случае рассматриваемое пресмыкающиеся соотносится не столько с животным миром, сколько с христианскими воззрениями о змее как символе зла и участнике грехопадения. Это находит отражение в семантике фразеологизма, которая представляет собой некую комбинацию глубинных смыслов, закрепленных в сознании носителей языка. Лексема змея как обособленная единица не несет в себе никакой культурно-маркированной информации, но, встраиваясь в состав фразеологизма, становится смыслообразующим компонентом, в котором фиксируется культурный код этноса.
Особый интерес представляют фразеологические единицы, в составе которых закреплены лексемы, обозначающие части тела живых существ: Брать (взять) за жабры; Снять шкуру; Подрезать крылья; Скрутить в бараний рог . Первые три примера репрезентируют ситуации, которые могут происходить в действительности, где субъектом действия является человек, а объектом животное, которое испытывает на себе физическое воздействие. Если в прямом значении такие поступки расцениваются как вполне типичные, то в переносном смысле они олицетворяют агрессию, злость, притеснение. Это говорит о том, что зло наносит человеку эмоционально-психологическую травму, суть которой наиболее точно передается через параллельное рассмотрение с физической болью. Фразеологизм же Скрутить в бараний рог не детерминируется реальной ситуацией, а основывается на знаниях о форме костного выроста на голове различных животных. В данном случае акцентируется внимание на спиралевидном облике рогов барана, поскольку именно словосочетание бараний рог формирует конкретность образа. Стоит подчеркнуть, что общее значение рассматриваемого фразеологизма совпадает с трактовкой фразеологических единиц, представленных выше.
Зло может выражаться не только активными действиями и проявляться сразу, но и приобретать черты пассивности, быть «завуалированным». Например, фразеологизмы Медвежья услуга; Мышиная возня содержат элемент значения «ненужные, мелочные дела, влекущие за собой какие-то негативные последствия». Такая семантика создаётся благодаря прилагательным, образованным от существительных, обозначающих живых существ: медведь, мышь. Подобные адъективы обычно обозначают повадки животных, что позволяет говорить об их смыслообразующей функции. В основе фразеологизма Мышиная возня лежат представления о мышах как проворных, суетливых, ловких существах, которые могут быстро ориентироваться в любых условиях и при этом приносить вред другим. Для русского человека подобная лишняя «возня» в обществе оцени- вается отрицательно, в качестве символа недобрых побуждений. Кроме того, отношение к животному может объясняться культурно-историческим развитием народа. Так, медведь в дохристианские времена являлся тотемным животным, что повлияло на формирование стереотипов о неуклюжести, дикости, неуместности, которые определяют семантическое наполнение фразеологизма Медвежья услуга.
Обычно добрый поступок оценивается как норма поведения, поэтому не нуждается в «консервации» при помощи образной системы. Однако искренняя душевная доброта всё-таки фиксируется в семантике фразеологизма Мухи не обидеть. Следует заметить, что здесь лексема муха передает отношение к насекомому как надоедливому существу, которое обычно уничтожа- ют. Фразеологизм построен на некоторой парадоксальности: добрый человек жалеет даже тех, кто приносит дискомфорт.
Анализ исследуемого материала показал, что представления о добре менее активно отражаются в фразеологических единицах с зооморфным образом, поскольку традиционно в сознании людей животное воспринимается как нечто представляющее опасность, а значит, ассоциирующееся с недобрыми поступками, злом. Удалось установить, что нередко фразеологизм в семантической структуре хранит мифологические или религиозные символы (змея, медведь). Стандартные ситуации и поступки внеречевой действительности метафорически переосмысливаются и становятся базой для «конструирования» семантики фразеологических единиц.
Список литературы Отражение представлений о добре и зле в русских фразеологизмах
- Милованова, М.В. Пути и способы улучшения экологии русского языка в полиэтническом регионе // Власть. - 2012. - № 7. - С. 45-48.
- Беспалова, Е.А. Фразеологизмы мифологического происхождения с компонентом-прецедентным именем: особенности строения и употребления (на примере газетных текстов) // Вестник ТомГУ. - 2021. - № 69. - С. 29-46.
- Копжасарова, У.И. Фразеологический фонд языка как средство выражения ментальности народа // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. - 2013. - № 1. - С. 90-97.
- Валеева, Г.В. Категории добро и зло: проблема теодицеи // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. - 2012. - № 1. - С. 239-247.