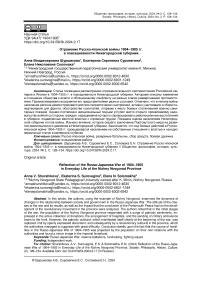Отражение русско-японской войны 1904-1905 гг. в повседневности Нижегородской губернии
Автор: Шуршикова А.В., Суровегина Е.С., Соломаха Е.Н.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению отражения военного противостояния Российской империи и Японии в 1904-1905 гг. в повседневности Нижегородской губернии. Авторами описаны изменения в отношении общества к власти и обозначенному конфликту на разных этапах развертывания противостояния. Проанализировано восприятие его представителями разных сословий. Отмечено, что в начале войны население региона демонстрировало всплеск патриотических настроений, активно участвовало в сборе пожертвований для фронта, обустройстве госпиталей, отправке к месту боевых столкновений военно-санитарных поездов. Однако постепенно эмоциональный подъем уступил место открыто проявляемому недовольству войной со стороны граждан, наращивание которого спровоцировало революционные выступления в губернии, подавленные местной властью с огромным трудом. Показана оценка населением Нижегородской губернии итогов войны. Изучено влияние, которое оказало заключение Портсмутского мира на развитие революционного движения в Нижегородской губернии. Заключается, что ход боевых действий в Русско-японской войне 1904-1905 гг. проецировался населением на собственные отношения с властью и находил зеркальный отклик в имперской глубинке.
Русско-японская война, резервные батальоны, сбор средств, боевая дружина
Короткий адрес: https://sciup.org/149144985
IDR: 149144985 | УДК: 94(47)“1904/1905” | DOI: 10.24158/fik.2024.2.17
Текст научной статьи Отражение русско-японской войны 1904-1905 гг. в повседневности Нижегородской губернии
, , ,
1,2,3Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after K. Minin, Nizhny Novgorod, Russia , , ,
Война является одной из составляющих общественного исторического процесса, это одно из самых ужасных испытаний, которое может выпасть на долю любого народа. Ее «тяжести и кровопролития» накладывают огромный отпечаток на сознание людей и имеют серьезные последствия (Белова, Минасян, 2016).
В последнее время активизировался интерес к военной проблематике в силу ее возросшей общественной актуальности – утвердилась новая, антропологическая парадигма в исторических исследованиях (Сенявская, 2016). В этом отношении Русско-японская война занимает особое место: она привлекает к себе внимание ученых вследствие ряда обстоятельств. Так, данный международный конфликт разворачивался на фоне острых внутренних проблем Российской империи, а его окончание совпало с активизацией революционных сил в стране. Русско-японская война 1904–1905 гг. стала одним из самых сокрушительных поражений отечественной армии в истории. Кроме того, оно дорого обошлось российской казне. В контексте знаковых изменений в государстве, произошедших сразу после окончания русско-японского конфликта, рассмотрение его влияния на повседневность регионов Российской империи в динамике представляется нам целесообразным. В рамках настоящего исследования делается попытка на примере Нижегородской губернии проследить отражение в жизни ее населения военных событий. С этой целью был осуществлен обзор местной прессы за 1904–1905 гг.
Нижний Новгород к 1904 г. по праву можно было назвать торговой столицей Российской империи. В конце XIX в. оборот губернской ярмарки оценивался в 190 млн рублей, и сохранялись данные цифры вплоть до начала Первой мировой войны.
Население Нижнего Новгорода к 1904 г. насчитывало около 100 тыс. человек, всей губернии – 1 799 500 чел.1 На территории его функционировали крупнейшие заводы: Механический завод в Сормово, металлический завод в Канавино. К началу XX в. город становится центром нефтегрузооборота. В 1885–1900 гг. его объем с использованием пристани вырос в 20 раз и достиг 57 % всего объема прибывших грузов, который оценивался в 55,5 млн пудов. Еще до 3 млн пудов нефти отсюда шло в Москву железной дорогой2.
Таким образом, мы видим, что Нижегородская губерния и ее центр – Нижний Новгород – к началу Русско-японской войны 1904–1905 гг. являлись крупнейшими административными единицами Российской империи, а через Нижегородскую ярмарку, приобретшую статус всероссийской биржи, проходили суммы, исчисляемые в сотни миллионов рублей.
Начавшаяся Русско-японская война вызвала отклик со стороны всего населения Нижегородской губернии. Местная власть и все жители после опубликования манифеста о начале военных действий от 27 января 1904 г.3 «выразили готовность оказать широкую поддержку армии» (Терехин, 2022: 109).
Нижний Новгород, ввиду его выгодного географического положения, генеральный штаб рассматривал как важнейший перевалочный пункт для приема и распределения больных и раненых воинов, в целях чего в городе был организован сводный госпиталь, за организацией которого пристально следили в высших эшелонах командования.
На экстренном заседании городской Думы под председательством Александра Михайловича Меморского было принято решение избрать комитет попечения о раненых и больных воинах и их семьях, который возглавил городской голова4. Новая структура начала работу уже 01 февраля 1904 г.
В православных храмах Нижнего Новгорода прошли молебствия о даровании победы русскому воинству. 1 февраля было проведено богослужение и организован сбор пожертвований в еврейском молитвенном доме. Его примеру последовали и другие губернские учреждения и общества. Молебны прошли в Мининском начальном и Кулибинском ремесленном училищах, в ремесленной управе (по инициативе ремесленного головы Ф. Грибкова), в правлении Общества вспоможения частному служебному труду и других местах5.
30 января в манеже прошло собрание нижних чинов и офицеров Кремлевского, Клязьминского и Окского резервных батальонов и 1-й запасной артиллерийской бригады, составлявших Нижегородский гарнизон, на котором генерал-майором Филимоновым был прочитан Высочайший манифест о вступлении в войну6. Как писали газеты, «речь командира артиллерийской бригады и высказанное им пожелание Государю Императору здравия и победы над врагом покрыло несмолкаемое “ура”. На другой день по улицам Нижнего Новгорода прошли манифестации с национальными флагами, звучал народный гимн “Боже, Царя храни”»1.
Хотя Нижегородская губерния и находилась далеко от театра военных действий, ее население активно сочувствовало нуждам войны и особенное участие принимало в судьбе раненых: жертвователи встречались не только среди купечества и дворянской элиты – сбор средств осуществлялся также силами церкви, мещан и чиновничества.
С почином выступил губернатор Павел Унтербергер, объявивший на собрании представителей общественности об открытии соответствующей подписки. За два дня было собрано около 100 тыс. руб. Крупные суммы поступили от состоятельных граждан. Купец Иван Рукавишников внес 10 000 руб., его брат Сергей – 3 000 руб., Варвара Бурмистрова – 3 000 руб., А.И. Приезжева – 1 000 руб., епископ Нижегородский и Арзамасский Назарий – 1 856 руб. 40 коп.2 Кампания сбора средств на помощь русским воинам захватила все слои населения, многие ведомства и учреждения.
Чиновники канцелярии нижегородского губернатора постановили отчислять в фонд обороны и на нужды Красного Креста по 2 % своего жалованья. Их примеру последовали чины городского полицейского управления во главе с полицмейстером Александром фон Таубе, Мака-рьевской полицейской части (пристав – А. Воскресенский), служащие акцизного управления, городской электростанции. Офицеры гарнизона собрали по подписке 1 200 руб., учащиеся Мининских ремесленной школы и начального училища – 10 руб. 20 коп. Подписка на пожертвования шла в Кулибинском ремесленном училище, пароходном обществе «По Волге», редакции газеты «Волгарь» и других местах3.
Таким образом, участвуя в подписках на пожертвования, представители разных сословий проявляли свое отношение к конфликту с Японией и роли властей в его урегулировании.
Особое значение во время боевых действий имеет медицинское обеспечение. Основной военно-врачебной единицей рассматриваемого периода являлись полевые и стационарные госпитали и лазареты, а также санитарный транспорт.
Характерным явлением для Русско-японской войны стало формирование благотворительными организациями, земствами и дворянством неармейских госпиталей и лазаретов за свои средства.
Типичным для того времени было и появление именных поездов, созданных «по почину отдельных влиятельных лиц, например, военно-санитарный поезд Государыни Императрицы Марии Федоровны. Всего к 1 февраля 1905 г. было сформировано 92 поезда: земских, дворянских и именных. В среднем каждый поезд имел 7–8 вагонов третьего класса (для персонала) и до 15 товарных вагонов для раненых, один из “офицерских” вагонов служил операционной, в поездах имелись кухня, цейхгауз, ледник» (Терехин, 2022: 110). Только Российское общество Красного Креста (РОКК) отправило на Дальний Восток 22 военно-санитарных поезда. Эта общественная организация, созданная в 1867 г., располагала широкой сетью местных отделений, во главе которых стояли, как правило, начальники губерний. Благодаря участию Императрицы Александры Федоровны, Великой княгини Елизаветы Федоровны, других членов императорской фамилии РОКК располагала большими материальными и организационными возможностями.
31 января 1904 г. по инициативе губернатора П.Ф. Унтербергера в Нижнем Новгороде начал формироваться военно-санитарный отряд «в составе 5 врачей, 1 заведующего хозяйством, фармацевта, 15 сестер милосердия и 30 санитаров» (Терехин, 2022: 111) для отправки на Дальний Восток с целью разворачивания там лазарета на 100 кроватей.
К отбору персонала, который должен был составить военно-санитарный отряд, приступили немедленно. «Должность старшего врача занял москвич, приват-доцент Императорского Московского университета по кафедре оперативной хирургии Аркадий Ошман. Младшими врачами назначены медики нижегородских больниц: ординатор хирургического отделения Мартыновской больницы губернского земства Л. Бибихин и земские врачи из Макарьевского и Балахнинского уездов К. Алексеев и г-н Шайдуров. Обязанности фармацевта были возложены на управляющего земской аптекой в Балахне Н. Попова, заведующего хозяйством – на коллежского асессора А. Казаринова. Группу сестер милосердия составили Благообразова, Добролюбова, Еремеева, Знаменская, Игумнова, Иванова, Кузнецова, Никифорова, Ступинская, Федулова, группу санитаров – Бочкарев, Буданов, Вихирев, Востоков, Добряков (повар), Зайцев, Знаменский, Кораблев, Коротков (парикмахер), Павин, Соколовский, Ушаков, Флоровцев (столяр), Хайлов, Шашков (слесарь); запасные – Афонеевский и Масленников» (Терехин, 2022: 111).
Для создания второго военно-санитарного поезда комитетом попечителей о раненых и больных воинах был организован сбор пожертвований, благодаря которому «за период с 25 марта 1904 г. по 9 марта 1905 г. в комитет на нужды санитарного поезда поступило 130 966 руб. наличными и 6 250 руб. в ценных бумагах» (Терехин, 2022: 112).
Городской санитарный отряд комплектовался не только личным составом, но и необходимыми запасами. Часть их поступила в виде пожертвований, остальное было приобретено посредством закупок с назначением поставщиков городским комитетом попечения о раненых воинах. Так, для поставок в равных долях пшеничной муки были определены владельцы паровых мельниц Н. Бугров, Я. и М. Башкировы, М. Дегтярев.
25 марта 1904 г. с Ромодановского вокзала оба военно-санитарных поезда отправились на Дальний Восток.
К началу войны с Японией «на службе в русской армии состояло 41 940 офицеров и 1 093 359 нижних чинов. Для усиления войск был произведен призыв военнослужащих запаса. С начала 1904 г. и до середины 1905 г. прошло девять таких кампаний, благодаря чему в армию влилось в общей сложности 1 045 909 запасных и 9 376 добровольцев. Нижегородцы участвовали в третьей, четвертой, седьмой и восьмой частных мобилизациях, в ходе которых в губернии было призвано свыше 15 000 офицеров и нижних чинов пехоты, артиллерии, кавалерии, флота, а также классных чиновников (фельдшеров и врачей военно-медицинской службы)»1.
Основой для проведения мобилизации в Нижегородской губернии служило высочайше утвержденное в 1902 г. мобилизационное расписание № 18. Согласно ему, губернское присутствие по воинской повинности во главе с губернатором и уездным воинским начальникам организовало призыв 14 510 запасных нижних чинов, разверстав их по всем 11 уездам и определив воинские части, в которые надлежит направлять призывников (полки нижегородской 60-й пехотной дивизии, полки гвардии, артиллерийские, инженерные и тыловые части в Кронштадте, Двин-ске, Брест-Литовске)2.
Таким образом, несмотря на то, что не все из 8 частных мобилизаций времен Русско-японской войны затронули Нижегородскую губернию, более 15 000 ее уроженцев были призваны в армию из запаса, и значительная их часть принимала участие в боевых действиях на фронтах войны.
Кроме того, последствия Мукденского сражения напрямую коснулись Нижегородского края: в апреле 1905 г. особый комитет по эвакуации больных и раненых воинов обратился к начальнику губернии с просьбой оказать возможное содействие в поиске жертвователей, согласных принять на содержание раненых воинов. В результате 125 человек изъявили желание принять раненых и больных, начали функционировать частные госпитали: специальный лазарет в Горбатове купца И.Д. Борисова на 20 человек; Горбатовский городской доброхотный приют под наблюдением городского головы на 15 человек; госпиталь у супруги начальника губернии Э.И. Унтербергера – на 3 человека, у А.Я. Башкирова – на 7 человек и Я.Е. Башкирова – на 8 человек. Но потребности в размещении раненых, видимо, превышали те скромные возможности, которые предлагали местные благотворители, и уже 22 апреля 1905 г. было объявлено об обустройстве в Нижнем Новгороде запасного сводного госпиталя на 420 коек. Его решено было расположить в так называемых «Грузинских казармах» (сегодня – ул. Грузинская, д. 40).
Заключительные, неудачные для наших войск этапы Русско-японской войны нашли весьма живой отклик в Нижегородской губернии. Прежде всего стоит отметить, что, несмотря на активную поддержку армии, регулярные пожертвования на ее нужды, нижегородцы начали уставать от последствий войны, которые все более наглядно отражались на экономической и общественно-политической жизни губернии.
Так, значительно сократился объем строительных работ в городах. В связи с этим упал спрос на труд представителей отхожих промыслов.
Кадровый дефицит в губернии подтверждает и возмутительно высокий спрос на низкооплачиваемый детский труд, местами переходящий в откровенную его эксплуатацию. Несовершеннолетние трудились по 10 и более часов в день, на работах, непростых и для взрослого человека, получая за это сущие копейки3. Например, мальчик 9 лет в течение всей ярмарки служил во фруктовой лавке при цирке. Работа начиналась с 5 часов утра и оканчивалась с закрытием цирка около часа ночи. Днем спать приходилось редко. Отдельного помещения для отдыха не было. Ночевали в лавке. За всю ярмарку ребенок получил 3 руб. 40 коп.4
Деревни наводнили различные скупщики, возмущавшие местных обывателей. Крупными партиями, а порой и почти насильно они скупали товары у крестьян, а потом продавали их по завышенной в несколько раз цене. Сельским сходам, например, в с. Лысково, пришлось даже вводить ограничения на посещение скупщиками базаров: им запрещалось до 12 часов дня вести свою деятельность1.
Все чаще на улицах Нижнего Новгорода можно было встретить нищенствующих солдат, из-за тяжелых ранений отправленных в тыл и вынужденных попрошайничать по гастрономическим магазинам. Их суточное жалование составляло 16 коп., а семьи оказывались без средств к существованию, так как кормилец сначала находился на войне, а по возвращении являлся неработоспособным из-за ранений2.
Данные факты, выступавшие лишь частью совокупности негативных для общественно-экономической жизни губернии явлений, все более и более настраивали население против войны. Об этом можно судить и по суммам поступающих пожертвований: если в апреле 1905 г. на нужды армии и флота от меценатов, мещан, купцов и нижних чинов поступило около 3 000 руб.3, то в июне того же года общая сумма пожертвований едва составила 300 руб.4 Более того, многие демонстративно отказывались от участия в финансовой помощи фронту, мотивируя это стремлением повлиять на скорейшее заключение мира.
Поголовно отказывались жертвовать на военные нужды и ремесленники: голове цеховых старшин были сданы обратно подписные листы, по которым собирались ранее пожертвования. «Меньше будет поступать в казну денег, так, быть может, скорее мир заключат», – цитирует ремесленников «Нижегородский листок»5.
Особо стоит отметить то, как война отражалась на крестьянах и деревне. Ведь именно из этой среды происходило подавляющее большинство рядовых воинов. Например, крестьяне с. Сосновки Васильсурского уезда, общаясь с корреспондентом, продемонстрировали ему глубокую осведомленность о событиях на фронте: они знали не только об итогах сражений, но и имена командующих с обеих сторон; высказывали свои предположения о конце войны и условиях заключения мира. Вопрос последнего был для них самым важным: «Надо мириться», – единогласно считали крестьяне6.
Интерес народа к войне был велик, но после гибели эскадры З. Рожественского, тема эта в деревнях стала обсуждаться с опаской. В «Земскую газету » из Таможникова писали: «О поражении Рожественского и вообще о войне в деревнях стали рассуждать меньше, по-видимому “страха ради иудейского”»7. Особенное внимание крестьян Нижегородской губернии к поражениям флота было вполне объяснимо: многие из тех, кто ушел на фронт из губернии, служили именно в морских силах.
Неудивительно, что обозначенные выше факты в совокупности с тяжелой внутриполитической обстановкой в стране породили возмущение в народных массах, активно подогреваемое деятельностью Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Еще с 1904 г. в Нижегородской губернии развернулся террор, осуществляемый ее сторонниками.
Подписание Портсмутского мира вместо успокоения общества вызвало новый взрыв революционных настроений: 08 декабря 1905 г. началась всеобщая забастовка, которую планировалось превратить в вооруженное восстание. В Нижнем Новгороде власть поначалу заняла выжидательную позицию, пассивно наблюдая за вооружением революционно настроенных масс и сколачиванием ими штурмовых дружин, полиция же пресекала лишь открытые и наиболее наглые выступления, причем не всегда с успехом. В Сормово с осени 1905 г. воцарилась анархия. Положение еще более усугубилось в октябре, когда после обнародования царского манифеста8 по городу прокатилась волна митингов, а в уездах, где действовали агитаторы ультралевых партий, начались захваты лесных угодий и грабежи имений. В декабре революционерам удалось нарушить железнодорожное сообщение. Местный участок Московско-Казанской дороги оказался парализованным, город – отрезанным от других губерний, из-за чего переброска дополнительных войск к театру военных действий стала невозможной. Центром мятежа сделались Сормовские заводы, насчитывавшие до 14 000 рабочих. Еще в начале года там была создана боевая дружина. В октябре – ноябре появились канавинская и городская дружины, подобные сормовской. С 12 декабря из-за непрерывных забастовок, наносящих ущерб производству, завод был остановлен администрацией, и это подлило масла в огонь.
Выполняя инструкции В.И. Ленина, нижегородские большевики объединились с меньшевиками, эсерами и анархистами и начали лихорадочную подготовку к вооруженному выступлению. Численность партийных бандформирований превысила 300 человек1. Комитет РСДРП располагал тремя подготовленными отрядами боевиков: сормовская дружина насчитывала свыше 100 человек, канавинская вместе с молитовской – 60, городская – 50; также возникла «Нижегородская тайная боевая дружина» смешанного состава численностью около 100 человек, включавшая большевиков, меньшевиков, эсеров и беспартийных радикалов. В декабре, по донесениям негласных полицейских агентов, только сормовские боевики располагали 500 винтовками, 30 бомбами и массой холодного оружия2.
Получив указания из партийных центров, революционеры приступили к решительным действиям. 13 декабря в Сормово возле училища имени Императора Александра III возведены баррикады, боевики открыли стрельбу по прибывшим войскам.
В этих условиях занимающий должность губернатора барон К. Фредерикс ввел положение чрезвычайной охраны в Нижнем Новгороде, Козинской и Гордеевской волостях Балахнинского уезда и на полотне Московско-Нижегородской железной дороги в пределах губернии. Был наложен запрет на собрания, ношение оружия, побуждение путем угроз насилия к забастовкам, а также призывы к неисполнению решений законной власти.
В условиях нехватки войск К. Фредерикс принял решение удовлетворить просьбу активистов союза «Белое знамя» о формировании боевой «Патриотической дружины». 12 декабря губернатор сообщил начальнику 77-й дивизии генерал-майору А. Лебедеву: «Ввиду возникшего в городе и Сормове вооруженного мятежа и полного недостатка войск для охраны порядка является крайняя необходимость в экстренном вооружении отряда добровольцев винтовками. Прошу Ваше превосходительство об экстренном отпуске для означенной цели винтовок 450 штук и 12 000 патронов»3.
Таким образом, распоряжением властей был создан военно-полицейский отряд добровольцев численностью около 300 человек. «Патриотической дружиной» заведовали подполковник Арзамасского полка С. Хаборский, отставной подполковник В. Мошкин и помощник полицмейстера С. Балабанов. Однако заметной роли в развернувшихся 14–15 декабря в Сормово и Канавино событиях она не сыграла. Основное бремя по усмирению мятежа легло на армию. С боевой дружиной, терроризировавшей Сормово, было покончено 14 декабря. Очаг восстания в Ка-навине был ликвидирован днем позже.
Оценивая события декабря 1905 г. в Нижнем Новгороде, историк нижегородских спецслужб А. Осипов пишет: «Благодаря решительным действиям Фредерикса по организации вооруженной силы, а также мудрому совету Дурново действовать оружием без всяких колебаний восстание в Сормово и Канавино было подавлено. В дни восстания в Сормово было убито до 40 человек и около 100 ранено. В Канавино было 11 человек убитыми и 27 ранеными»4.
Таким образом, мы видим, как живо реагировало общество губернии на итоги Русско-японской войны. Нижегородская печать активно освещала все события – сбор средств для фронта, создание военно-санитарных поездов на средства губернии, частных госпиталей, активную помощь казне. Но с течением времени встал вопрос о спекуляциях, дефиците бюджета, о низкооплачиваемом и изнурительном детском труде и др. На примере Нижегородской губернии мы видим, что власть не решала насущные проблемы населения: не происходило повышения оплаты за труд, спекуляция процветала, наблюдался кадровый голод, множились социальные и бытовые сложности. Недовольство в губернии росло. Крестьяне, ремесленники, купцы, рабочие первыми ощутили нехватку рабочих мест, оценили масштаб потерь, так как своими глазами видели сводки, содержавшие имена погибших, находя там родных и знакомых; позитива не добавляло и количество больных и раненых солдат, вынужденных, вернувшись с фронта, стать попрошайками, так как зачастую им не на что было жить. Патриотический всплеск, проявившийся ярко в начале войны, сменился сначала социальным недовольством, а впоследствии – революционным выступлением в губернии, создавшим опасность для местных властей.
В целом, следует заключить, что события Русско-японской войны выступили катализатором обострения социальной ситуации внутри страны, и пример Нижегородской губернии наглядно это демонстрирует.
Список литературы Отражение русско-японской войны 1904-1905 гг. в повседневности Нижегородской губернии
- Белова Е.Е., Минасян В.А. Человек войны и война в произведениях Т. О'Брайена // Вестник Мининского университета. 2016. № 1-2 (14). С. 1-6.
- Сенявская Е.С. Военная антропология: опыт становления и развития новой научной отрасли // Вестник Мининского университета. 2016. № 1-2 (14). С. 14. EDN: TQAHHU
- Терехин Д.Е. Деятельность Нижегородского санитарного отряда в русско-японской войне 1904-1905 годов // Актуальные вопросы этнографии и этногеографии. Н. Новгород, 2022. С. 109-113. EDN: UZYNPG