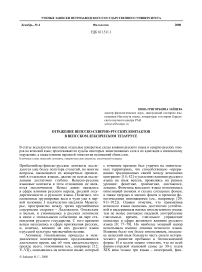Отражение вепсско-северно-русских контактов в вепсском лексическом тезаурусе
Автор: Зайцева Нина Григорьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4 (97), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются некоторые отдельные конкретные следы влияния русского языка и северо-русских говоров на вепсский язык; прослеживаются судьбы некоторых заимствованных слов и их адаптация к иноязычному окружению, а также влияние народной этимологии на внешний облик слов.
Вепсский, контакты, северно-русские диалекты, лексический тезаурус
Короткий адрес: https://sciup.org/14749492
IDR: 14749492 | УДК: 811.511.1
Текст научной статьи Отражение вепсско-северно-русских контактов в вепсском лексическом тезаурусе
Прибалтийско-финско-русские контакты исследуются уже более полутора столетий, но многие вопросы, касающиеся их конкретных проявлений в отдельных языках, далеко не всегда исследованы достаточно глубоко. Вепсско-русские языковые контакты в этом отношении не являются исключением. Вепсы давно оказались в сфере влияния русского народа, русской государственности и русского языка. Полагают, что племенные группировки веси и чуди уже в первой половине I тысячелетия населяли Межозерье, пространство между тремя крупнейшими северными озерами – Ладожским, Онежским и Белым, и упоминались в русских летописях в связи с эпохальными событиями на заре становления русского государства. С того времени вепсы находились в сфере притяжения русских, и, конечно, влияние на них русского языка и русской культуры чрезвычайно велико.
Активные этноязыковые процессы и междиалектное контактирование, продолжавшиеся длительное время, как об этом свидетельствует, прежде всего, топонимика (см., например: [12; V–VI]), сказывались на вепсском языке, который с течением времени был утрачен на значительных территориях, что способствовало «прерыванию традиционных связей между вепсскими центрами» [14; 42] и усилению влияния русского языка на язык вепсов, проявляясь на разных уровнях: фонетике, грамматике, синтаксисе, лексике. Фонетика вепсского языка пополнилась оппозицией звонких и глухих согласных фонем, а также твердых и мягких фонем и прочими фонетическими инновациями (см., например: [29; 911–912]). Однако отметим, что грамматика вепсского языка оказалась достаточно устойчивой и выдерживала натиск иносистемного языка; тем не менее синтаксис падежей, употребление глагольных времен, глагольное управление оказались в сфере активного влияния русского языка [8; 77–78]. Но наиболее мощный напор испытывала именно лексика вепсского языка. Влияние было тем более интенсивным, поскольку вепсский язык большую часть своего исторического развития пребывал в бесписьменной форме. И в целом можно отметить, что во всей финно-угорской языковой семье до 30-х годов XIX века только три языка – венгерский, фин- ский и эстонский - имели развитые письменные традиции. Ученые отмечают, что, например, редкие народы Приуралья и Сибири знали буквы. Книгу и буквы для них заменяли живые устные традиции, которые играли здесь значительно большую роль, чем у иных народов, поскольку являлись средством исторического сознания [4; 170-171]. По сути дела, то же самое относится к вепсам, у которых отсутствуют письменные памятники раннего времени [9; 5-6], [15; 105109]. Отсутствие письменной традиции содействовало более существенному проникновению многих лексических заимствований в язык вепсов. Поскольку менялись жизненные реалии, а язык должен был обслуживать коммуникативные потребности вепсскоязычного общества, то в качестве новых лексем достаточно часто выступали именно русские заимствования разного плана.
В последние десятилетия в проблему вепсско-русских контактов позволяет углубиться введенная в научный оборот достаточно обширная литература, в которой богато представлен и вепсский материал. Это, прежде всего, диалектный словарь вепсского языка, который, на наш взгляд, является одной из лучших работ отечественных языковедов в области вепсского языка [6], образцы вепсской речи, изданные в России [5] и в Финляндии (см., например: [23], [24], [26] и др.), «Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского, саамского языков» [16], «Лингвистический атлас прибалтийско-финских языков» [20]. Так, например, отдельные лингвистические карты названного атласа, два тома которого уже выпущены в свет, и их материалы, введенные в научный оборот, наглядно иллюстрируют некоторые результаты языковых контактов и их отражение в прибалтийско-финских языках, в том числе и в языке вепсов. Причем с помощью карт можно наглядно пронаблюдать, как шло взаимодействие народов, каким образом делился прибалтийско-финский ареал и в какой зоне тяготения находилась та или иная область. В качестве примера можно взять хотя бы один факт: одна из карт третьего тома, который готовится к выходу в свет (предполагаемый год издания - 2009), посвящена именованию понятия «брюки/штаны» в прибалтийско-финском ареале. Собранный языковой материал показал, что в нем в качестве названия данного понятия нет ни одной исконной не только финноугорской, но и прибалтийско-финской лексемы. Интересно, что и археологические находки показывают, что, например, у вепсов была распространена длинная рубашка наподобие туники, из-за чего вепсов называли иногда «балахонни-ками» [1; 390]. Причем подобный тип одежды был свойствен и карелам [10; 248], [11; 29]. Как известно, в Древнем Риме штаны, которые были вначале короткими, стали употреблять воины [27; 338-350]; в Малой же Азии и в скифских находках, датируемых последними столетиями до начала нашего летоисчисления, стали обнаруживать уже длинные штаны. Представители же прибалтийско-финских народов России начали носить длинные штаны, когда на Западе еще употребляли укороченные брюки [25; 401]. Причем у при-балто-финнов был представлен именно восточнорусский тип брюк, состоящий из трех элементов. Именования понятия «брюки/штаны» поделили прибалтийско-финский ареал на две части:
-
1. Языки, в которые пришли заимствования из западных, германских, большей частью из шведского языка: housut, poksyt, prakut (см. [28]);
-
2. Заимствования из восточных, славянских языков:
-
• вепс. kadjad (фин. kaatjat ) < гачи «портки, штаны» [3; 327]; ср. прасл. * gatja «бедро, ляжка» [18; 397-398];
-
• эст. kaltsad < у Фасмера колоша «штанина» [28], [18]; в диалектах русского языка очень употребительны лексемы калоши «штанины; штаны навыпуск; нижние части штанов, брюк» и т. д. [17];
-
• вепс., карел. stanat-stanit < рус. «штаны».
К группе языков, в которые проникли славянские, древнерусские и русские заимствования, относятся, прежде всего, вепсский и карельский языки, а также водский, ижорский, отчасти эстонский языки. Карты, посвященные именованию понятия «брюки/штаны», показывают, где проходила граница столкновения востока и запада , включая в этом случае вепсский язык в зону постоянного русского тяготения.
«Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского, саамского языков», составленный более полутора десятков лет назад, но опубликованный по причине финансовых затруднений лишь в 2007 году, стал своеобразным прообразом для упомянутого Лингвистического атласа прибалтийско-финских языков [20], и его материал с точки зрения заимствований уже частично исследовался (см.: [7; 91-102]). В нем достаточно много заимствований. Как показал анализ, заимствованную в вепсский язык лексику можно разделить на две группы: заимствования из общенародной русской лексики и заимствования из северно-русских диалектов. И те, и другие вошли в вепсский язык и стали достоянием лексикографической науки, пополнив вепсский лексический тезаурус. Первые проникли в язык, с одной стороны, вместе:
-
• с освоением понятий, которые вошли в жизнь вепсов как результат развития общества: skol «школа» , karandas «карандаш» , part «парта», klub «клуб», sel ’sovet «сельсовет» и т. д.;
-
• заимствованные лексемы вошли в язык как обладатели более абстрактных значений (так, исконные вепсские слова kidastada , kirkta, kerustada, anestada, heikta и т. д. имеют более конкретные значения, как то: «кричать в лесу, голосить, драть горло, громко кричать, покрикивать» и т. д., а заимствованная лексема kricta < кричать в известном смысле покрывает весь спектр названных значений);
-
• значительное количество русских лексем проникло в язык вместе с освоением сферы родства и общественных отношений. Несмотря на то, что, как полагают исследователи, «терминология, касающаяся родственных отношений, была исключительно богато развита еще в финно-угорском языке-основе» [19; 42], в вепсском языке появилось значительное количество заимствованных слов с названной тематикой: priha «юноша» < рус. пригожий (этимология Я. Калимы [22; 410]), tat < тятя , mam < мама , dad’ < дядя , tot < тетя , vunuk < внук , dedoi < дедушка , baboi < бабушка и т. д.;
-
• взаимодействие народов в сфере материальной и духовной культуры также нашло свое отражение в словаре вепсского языка: cai < чай , sarafon < сарафан , jupk < юбка, kartosk < картошка , kisel’ < кисель , svadib < свадьба, zenih < жених, nevest < невеста ; рус. диал.: anspug «кол» < рус. диал. аншпуг, ганшпуг «дрюк, шест» , azno «даже» < рус. диал. ажно «ведь, да ведь» , panafid «блин, которым покрывают стакан с чаем для умершего на поминках» < рус. диал. панафида «память, помин», karacun «рождественский пост» < рус. диал. карачун «капут, конец, смерть, гибель; солнцеворот» («день 12 декабря» и т. д.) и т. д. [3], [17];
-
• иногда заимствования составили некие синонимичные пары, а также способствовали сужению значения исконных лексем: например, заимствованная из русского языка лексема navet’t’a, navedida «любить что-то» < рус. на-видеть ; данное слово могло послужить поводом для сужения значения исконного глагола armastada «любить»; из некоторых диалектов вепсского языка он был вытеснен, а в других стал употребляться только если речь идет о сфере чувств (см. также синонимичные лексемы: bast’a «говорить» < рус. диал. басить «занимать россказнями, краснобаить» и более древнее и общеупотребительное вепсское pagista «говорить»; bask «красивый» < рус. диал. баской «красивый» и вепс. и прибалтийско-финское coma «красивый»; gagura «грязнуля» < рус. диал. ? гагула «пачкун, неряха» и вепс. cocoi «неряха»; rahmanni «добросердечный» < рус. диал. рахманный «довольный, в хорошем расположении» и вепс. huvasudaimeline «добросердечный» и т. д.: русские диалектные лексемы из [17] и [3]. Интересно отметить, что многие явления северно-русской жизни и их именования, как показал анализируемый словарь, проникли не только в вепсский, но и в карельский язык одновременно, свидетельствуя о важности каких-то отдельных элементов северно-русской материальной и духовной культуры для всего восточного прибалтийско-финского ареала в целом, а также о том, что это достаточно старые заимствования, например:
-
• кар. kieza , вепс. kez «раствор для киселя, блинов» < рус. диал. кеж «процеженный раствор ржаных высевок, употребляемый для киселя или блинов», кар. borockat, вепс. borkaized, nabornik < рус. диал. наборочек, наборочник «бусы, ожерелье»; кар. komsu , вепс. koms «корзина из бересты» < рус. диал. комша «то же»; кар. kosic-kosmic , вепс. kosic «висок» < рус. диал. косица «то же»; кар. kut’u-kuzu, вепс. kuzu «щенок» < рус. диал. кутя, кутька «то же», кар. travie , вепс. travd’a «портить (о вещи, предмете» < рус. диал. травить «портить, повреждать», bask «красивый» < руск. диал. баской «красивый», babd’a «повивать» < рус. диал. бабить «повивать, принимать»), babuk и obatk «гриб непластинчатый» < рус. диал. обабок «гриб-подберезовик» (см.: [3], [17]). Причем последняя в данном ряду северно-русская лексема обабок проникла в вепсские диалекты в двух формах: babuk и obatk . Она стала чрезвычайно важной для материальной культуры карелов и вепсов, где ранее употреблялись в пищу лишь пластинчатые грибы, именуемые исконной лексемой sen’/sieni . Заимствование северно-русской лексемы показывает, что культура отношения к грибам у вепсов изменилась, а лексема babuk вошла и в вепсский литературный язык как единственное средство именования непластинчатых грибов.
Достаточно много северно-русских заимствований - в уже ставшем раритетным словаре диалектов вепсского языка М. И. Зайцевой и М. И. Муллонен [6]. Интересна судьба многих заимствованных диалектных лексем. В вепсском языке они могли стать единственным средством именования той или иной реалии, приобретя тем самым некий иной, новый, если так можно выразиться - более высокий и абстрактный статус, войдя в общенародный язык, а также и в вепсский литературный язык, письменность которого была возрождена в 1989 году. Такова судьба северно-русских диалектных лексем: гаведь «гадость» [17] > вепс. диал. и лит. gaved’ «насекомые» и животы «домашний скот» [17] > вепс. диал. и лит. zivatad «животные». Названные лексемы приобрели в вепсском языке статус именования целых классов - «насекомые» и «животные». Вполне возможно, что в вепсском языке ранее отсутствовали именования классов животных, либо их классификация была несколько иной. Исследовательница вепсской мифологии И. Ю. Винокурова рассматривает деление фауны вепсским народом на виды и подвиды в том же ракурсе, как это принято у русских, выделяя птиц, зверей, змееобразных, рыб, насекомых и т. д., не особенно обращая внимание на существующую в языке номинацию [2] и на полное отсутствие в вепсском языке собственных общих именований для различных классов. Думается, что язык в этом отношении подсказывает несколько иное понимание данной проблемы: мож- но предположить, что для вепсов было характерно трехчастное деление животного мира:
-
1. Все, что на небе, lindud «птицы»,
-
2. Все, что под водой, kalad «рыбы» (отметим, что это действительно исключительно древние исконные не только финно-угорские, но и уральские лексемы),
-
3. Все, что рядом, на земле, нужное и ненужное, не обладало особым именованием классов. Здесь можно, несомненно, согласиться с мнением известной финской исследовательницы прибалтийско-финских языков Кайсы Хяккинен, что древние прибалто-финны (да, очевидно, и многие иные народы) давали именования вначале тем животным, в которых была исключительная потребность. Многие мелкие животные и насекомые оставались без наименований, поскольку не было нужды говорить о них конкретно; человек был просто потребителем. Наши предки не утруждали себя в выводах, является ли этот прибрежный кулик того же самого вида и рода, что и другой, который живет на болоте, поскольку ни тот, ни другой не имели совершенно никакого значения для их повседневной жизни. Зато необходимые животные могли иметь от нескольких до нескольких десятков именований, в том числе и табуированных [21; 40]. С течением же времени под влиянием окружающего мира представления о нем изменились, и вепсам в попытке выстроить систему именований, параллельную культуре соседнего народа, потребовались названия видов и подвидов, что и было компенсировано в языке отчасти русскими диалектными заимствованиями.
Диалектная лексика, вошедшая в вепсские диалекты и отчасти включенная в развиваемую на современном этапе письменную традицию языка, показывает, что отдельные лексемы вошли в вепсский язык достаточно давно, и в русском языке они уже в какой-то степени изменили свое значение:
-
• например, существительное opal «печаль» и прилагательное opalahine «печальный» (< рус. ? опала «производное от слова “опалить”», у которого значение «печаль» в диалектах не обнаружено);
-
• roza, rozaine «лицо» < рус. диал. рожа . Лексема рожа , пришедшая в диалекты вепсского языка (и в карельский тоже) в значении «лицо» была заимствована, очевидно, тогда, когда она употреблялась вполне позитивно в значении «внешний вид, облик; красота»: ср. древнерусское рожаи «вид, лицо», ро-жаистъ «красивый, видный» [18; 492].
Не всегда можно найти исходный для заимствования материал, поскольку именно в заимствующем языке могли произойти изменения, которые отчасти могли быть вызваны народной этимологией. В качестве примера можно привести южно-вепсскую лексему nabolad «брусника». Иногда ее этимологически связывали с вепсской же лек- семой bolad в том же значении, но удивление вызывает приставка na, нехарактерная для языка вепсов, где приставки отсутствуют. Только более глубокий анализ позволил предположить, что nabolad - это возможное русское диалектное заимствование < наболоть «болотистое место» (ср. также наболотень, наболотник «болотное сено» и т. д.: см. [17]). А уже вепсская лексема bolad (в большинстве вепсских диалектов «брусника»), известная носителям языка и употребляемая в южновепсском диалекте в значении «ягоды», могла повлиять на внешний облик заимствованной русской диалектной лексемы наболоть, и она изменила свой внешний облик именно в данном направлении (nabolot’ + bolad = nabolad).
Думается, что, в свою очередь, на внешний облик восточно-вепсской лексемы oluh (это вепсы Вологодской области), которая важна в свадебном обряде, поскольку обозначает одну из центральных фигур свадьбы - жениха, могла повлиять русская лексема олух , употребляемая в диалектах в значении «упрямец, неслух, лентяй, ленивец; простак» [17], [3]. В современном языке восточных вепсов oluh обладает значением «жених, возлюбленный». Здесь мы имеем обратное влияние -уже русская лексема могла повлиять на внешний вид вепсского слова, которое некогда могло иметь совершенно иной облик (ср., например, прибалтийско-финское ylka «жених» или что-то этимологически иное, что пока не поддается раскрытию). Отметим, что восточно-вепсские говоры (говоры Вологодской области) характеризуются тем, что они наиболее полно сохранили свадебную терминологию (ср.: древнейшее слово для названия свадьбы sai , которое ушло из всех других говоров вепсского языка и из родственных языков; neiciine «невеста»; kozita «сватать»; kozimehed «сваты»; manda mehele «выйти замуж» и т. д.), и выпадение из нее именования центральной фигуры свадебного обряда объяснить невозможно. Думается, что здесь мы имеем дело именно с изменением облика вепсского слова под влиянием русского; такую метаморфозу с внешним обликом древнего вепсского слова могло сотворить русское влияние.
В некоторых случаях сложно определить направление заимствования. Например, у вепсского существительного cibu «качели» и глагола cibuda «качаться» в русских диалектах можно обнаружить лексическое соответствие - глагол чибуд-кать: чибудкать ребенка «качать ребенка у себя на ногах» [3; 399]. Однако кроме уже названных вепсских лексем cibu~cibuda в карельском языке и в финских диалектах Ленинградской области употребителен глагол siiputtaa, который употребляется также, когда речь идет о раскачивании ребенка на ноге, кроме того, есть и иные соответствия. Поэтому не исключено и обратное направление заимствования. Общеупотребительный в вепсских диалектах, но отсутствующий во всех иных прибалтийско-финских языках глагол capta «резать, рубить» можно сравнить с русским диалект- ным глаголом чапить «нагибать, наклонять боком, кренить» [3; 382]. Однако в диалектах саамского языка также существует исключительно близкий по звуковому облику и значению глагол čuohppεd «резать» (см. [16; 226]), который вполне мог стать источником для появления в вепсских диалектах лексемы čapta, тем более, что, как полагают исследователи, в субстратном доприбалтийско-финском языковом наследии «среди этимологически затемненных, генетически неясных на сегодняшний день явлений выделяется ряд фактов, интерпретирующихся на саамской почве» [13; 179–180], что относится, в том числе, и к лексике вепсского язы- ка. Поэтому судьбу названных лексем, как и очень многих других, еще предстоит решать.
Контактирование – явление немолодое, и вепсский язык может пролить свет на историю отдельных русских лексем, которая, возможно, была несколько иной. В заключение отметим, что лексика, вошедшая в вепсский язык из общенародного русского литературного языка, а также из его диалектов, стала достоянием вепсского словаря, а в период заложения основ вепсской письменности и создания основ вепсского литературного языка она существенно пополнила вепсский лексический тезаурус.
словаря диалектов карельского, вепсского и саамского языков) // Вопросы финно-угорской филологии. Вып. 5. Л.:
Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. С. 91–102.
Список литературы Отражение вепсско-северно-русских контактов в вепсском лексическом тезаурусе
- Винокурова И.Ю. Вепсы: Одежда//Прибалтийско-финские народы России. М.: Наука, 2003. С. 388-396.
- Винокурова И.Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 447 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1-4. М.: ОАО ПФ «Красный пролетарий», Олма-Пресс, 2006.
- Домокош П. Формирование литератур малых уральских народов. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1993. 288 с.
- Зайцева М.И., Муллонен М.И. Образцы вепсской речи. Л.: Наука, 1969. 296 с.
- Зайцева М.И., Муллонен М.И. Словарь вепсского языка. Л.: Наука, 1972. 745 с.
- Зайцева Н.Г. Пути освоения русской диалектной лексики (на материале Сравнительно-ономасиологического словаря диалектов карельского, вепсского и саамского языков)//Вопросы финно-угорской филологии. Вып. 5. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. С. 91-102.
- Зайцева Н.Г. Вепсско-русские языковые связи//Контактологический энциклопедический словарь-справочник. Вып. I: Северный регион. М.: Изд-во «Азь», 1994. С. 71-80.
- Зайцева Н.Г. Вепсский глагол. Сравнительно-сопоставительное исследование. Петрозаводск: Периодика, 2001. 286 с.
- Клементьев Е.И. Карелы: Одежда и обувь//Прибалтийско-финские народы России. М.: Наука, 2003. С. 241-250.
- Муллонен И.И, Азарова И.В., Герд А.С. Словарь гидронимов юго-восточного Приладожья. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1997. 193 с.
- Муллонен И.И. Топонимия Присвирья: проблемы этноязыкового контактирования. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 353 с.
- Муллонен И.И. Этнокультурный потенциал вепсской топонимики//Studia Slavica Finlandensia, XXIV. Helsinki, 2007. С. 31-56.
- Муллонен М.И. Вепсская письменность//Прибалтийско-финское языкознание. Л.: Наука, 1967. С. 105-109.
- Сопоставительно-ономасиологический словарь диалектов карельского, вепсского и саамского языков/Под общ. ред. Ю.С. Елисеева, Н.Г. Зайцевой. Петрозаводск: рИо КарНЦ, 2007. 346 с.
- Словарь русских народных говоров. Вып. 1-37. М., 1965-2003.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. Т. 1-4. М.: Прогресс, 1986-1987.
- Хакулинен Л. Развитие и структура финского-суоми языка: Пер. с фин. Ч. 1. М.: Наука, 1955.
- Atlas Linguarum Fennicarum, I-II. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran Toimituksia, 800. Helsinki, 2004-2007.
- Häkkinen K. Eläin suomen kielessä//Eläin ihmisen mielenmaisemassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 885. Helsinki, 2002. S. 26-62.
- Kalima J. Slaavilaisperäinen sanastomme. Helsinki, 1952.
- K e 11 u n e n L. Näytteitä etelävepsästä, I-II. Suomalaisen Kirjallisuuden seura. Helsinki, 1920-1925.
- Kettunen L., Siro P. Näytteitä vepsän murteista. Suomalais-ugrilaisen seuran Toimituksia, 70. Helsinki, 1982. 193 s.
- Manninen I. Eesti rahvariiete ajalugu//Eesti rahva museumi aastaraamat. Tallinn, 1921. S. 37-52.
- Sirelius U.T. Suomen kansanomaista kulttuuria. I, II. Helsinki, 1919-1921.
- Sovijärvi A., Peltola R. Äänisvepsän näytteitä. Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia, 171. Helsinki, 1982. 171 с.
- Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. I-III. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran Toimituksia, 556. Helsinki, 1992-2000.
- Tunkelo E.A. Vepsän kielen äännehistoria//Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 228. Helsinki, 1946. 922 s.