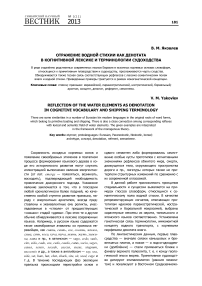Отражение водной стихии как денотата в когнитивной лексике и терминологии судоходства
Автор: Яковлев Виктор Михайлович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (11), 2013 года.
Бесплатный доступ
В ряде отдалённо родственных современных языков Евразии в исконных корневых основах словоформ, относящихся к примитивным плавсредствам и судоходству, прослеживаются черты сходства. Обнаруживается также тесная связь соответствующих рефлексов с лексико-семантическим полем влаги и водной стихии. Приведённые примеры трактуются в рамках моногенетической концепции.
Этимон, праязыки: евразийский, параностратический, ностратический, бореальный, архетип, концепт, денотат, референт, семантема
Короткий адрес: https://sciup.org/14113732
IDR: 14113732
Текст научной статьи Отражение водной стихии как денотата в когнитивной лексике и терминологии судоходства
Сохранность исходных корневых основ и появление своеобразных этимонов в поэтапном процессе формирования языкового дерева в ходе его исторического развития могут служить иллюстрацией выполнения явления эмергентно-сти (от лат. emerge — появляться, возникать, восходить), подтверждающей необходимость привлечения диахронного подхода. Указанное явление заключается в том, что в глоссарии любой хронологически более поздней, но качественно особой ступени развития праязыка, наряду с эмергентным архетипом, всегда представлены и эквивалентные ему реликты, унаследованные в «стволе» от предшествующих «низших» стадий «древа». При этом те и другие обычно обнаруживаются в лексике современных языков. Например, в русском языке содержатся такие своеобразные атавизмы из праязыка евразийцев, как сиять, сеять, сок, сосать, жижа, суша, суть, коса, куча, туча, жить, жуть, хижина , хата и пр., в латинском — sugo, cedo, sudo, cito, sido, cado, cos, cedo, caedo, catus, socio, seges, causa, sessio, secedo, caccus, sucus, stagnum, successio и др., а также в английском — say, sea, side, set, hate, hat, chat, shack, site, sit, seed, cage и т. д. В течение последующих фаз эволюции праязыка происходили перестройки основ и сдвиги семантем либо формировались качественно особые кусты прототипов с когнитивными значениями рефлексов обжитого мира, смерти, движущегося тела, окружающего пространства дороги и пр., лигатуры которых также не претерпели структурных изменений по сравнению с их современной огласовкой.
В данной работе приложимость принципов стадиальности и сукцессии выявляется на примерах глоссов словоформ, относящихся к семантическому полю водной стихии. В качестве репрезентирующих когнатов, отвечающих прототипам идиомов параностратической, ностра-тической и бореальной макросемей, выбраны характерные лексемы из иврита, тамильского и японского языков соответственно. Установлена генетическая связь терминологии, имманентной концепту водного транспорта, с корневыми морфемами денотата влаги.
По лингвистическим данным, первые плавсредства — вначале связки камышовых и бревенчатых плотов, а позже — и лодки-однодревки (долблёнки) — стали применяться ближе к финалу верхнего палеолита, т. е. к концу геологической эпохи вюрма. Примитивное судоходство датируют эпипалеолитом (ранним мезолитом) и локализуют в Восточном Средиземномо- рье, где в тот период не было недостатка лесоматериалов. Как показывают артефакты археологических культур поздней Кебары и раннего Натуфа, тогда был радикально усовершенствован инвентарь каменных инструментов и в обиход вошли геометрические микролиты [1]. Мы полагаем, что в результате концентрации и обособления на территории Палестины и Леванта части охотничьего населения сообщества евразийцев у кебаранцев сложился параностратиче-ский язык, в лоне которого впоследствии сформировались ностратический и афразийский идиомы. В ходе этногенеза древних этносов терминология и усовершенствованные технические приёмы постепенно распространялись с Ближнего Востока вовне не только путём культурного обмена, но и непосредственно — вместе с их носителями. При наличии доказательств этого, в палеоэтнологических и культурологических исследованиях явно ощущается дефицит информации о роли этимонов влаги, сырости и течения потоков воды в терминологии, относящейся к водному транспорту.
В данной работе с учётом диахронии представлены основные праформы и примеры лексем, унаследованных от праязыков и относящихся к денотатам водной стихии и судоходства. Действительно, обнаруживаемое на генетическом уровне сходство соответствующих элементов лексики и общность реконструируемых пра-форм можно объяснить лишь миграцией избыточного населения и слов из указанной зоны иррадиации. К последним, в частности, относятся названия моря (соответственно ям и уми) и лодок, кораблей (сфинá/дόфен и кобунэ/нибунэ/фунэ) у обитателей крайних пределов Азии — евреев и японцев. Слово сапáн («моряк» на иврите) при японских эквивалентах кайин, суйхэй и фунанори можно трактовать как комбинацию обозначений воды (обычной и морской) и влажности (суй, сио, со, су), а также ладьи, судна (... бунэ, бэн). Другие древнееврейские вокабулы, такие как «матрос» — малáх, а также намéль («гавань», «порт»), омофонны слову малуми («моряк») в одном из дравидийских языков — тамильском, который выбран нами в качестве типичного примера деривата ностратической надсемьи. Вообще, носовая сонорная m-, в отличие от её коррелята n-, в качестве гидроформанта отражена не только у ностратов, но и у семито-хамитов: m(y)-w (др.-египет.), mou (копт.), ma (аккад.), maim (др.-евр.), a-ma-n (берберо-лив.), iam (кушит. — бедауйе), ame (вост.-чад.) — «вода», «воды» [2]. Общая для филиаций пара- ностратов протосема льющихся или движущихся по руслу вод, которая концептуально смыкается с «дорогой», конституировалась в биконсонант-ном базисе (h/s/k/g/t/d)-(l//r). Поэтому она отразилась и в лексиконе, относящемся к водным артериям и судоходству. Например, тамильские сори («литься»), сары, сарам («сок»), сарал («дождь»), сиры («утлый», «чёлн»), сел («плыть на судне»), калвай («канал») родственны таким терминам иврита, как нáхаль («река»), зéрем («поток»), таль («роса»), нахшόль («прибой»), сирá («чёлн», «лодка»), кли («судно»), каркá («дно») и пр. К другим сигнам влажности — плавным сонантам (l-/r-) с солярно-радиальным референтом — в параностратическом праязыке добавились в началах слов монемы m- и (v/f/b/p)- c соответствующими коннотациями низшего и высшего начал. Затем в ностратиче-ском языке, при типичных фонематических субституциях m- n- и (f-,b-) p-, в денотате образованных синтагм n-(l/r)- и (v/p)-(l/r)- семантического поля водной стихии оказалась редуцированной связь с понятиями опасности, убийства, гибели, смерти. Соответственно, у тамилов также закрепилась лексика с «нильской» основой nr в парадигме вод: нйр — «вода», нūрнилаи — «водоём», нūрāды — «купаться», сирунūр — «моча», нураи — «пена» и др. На бореальной ступени ностратического языка в протонеолитическом сообществе произошла, однако, частичная реверсия сонантов с литерами b- и m- [3], что затронуло и глоссарий, относящийся к водному транспорту. В тот период отрасль мореходства как коммуникативная межобщинная система с каботажем и рынком появилась и в ареале Южного Причерноморья в протонеолитическом сообществе бо-реалов ещё до его дезинтеграции (см. [4]). После дивергенции бореальной макросемьи упомянутые глоссы не претерпели существенных изменений в речи праиндоевропейцев, ранне-алтайцев и раннеуральцев.
В нашем регионе бореальное наследие полнее сохранилось в гидронимах (чем в оро-нимах или ойконимах), таких как Волга-Ра, Самара, Сура, Свияга, Моча, Сенгилей и др. с балто-славянскими, поволжско-финскими и тюркскими корнесловами (см. [5—9]). Но заметны и следы исходного (евразийского) праязыка, где доминировал антропоцентрический механизм образования парадигм (см., например, [10—12]). В этих случаях концепт водной стихии репрезентирован преимущественно силлабемами, сходными с h-/z-/c-/s-/sh-/ch-. Последние фигури- руют в составе секвенируемых воксов древних и современных языков Старого Света в виде простейших открытых словослогов с велярными и дентальными согласными, шипящими сибилянтами и аффрикатами. Причём их присутствие более характерно в лексике прямых потомков евразийцев — синокавказцев, хотя, например, и в русском языке нередки соответствующие реликты [4]. При этом часто указанный формант имплицирован в префиксах словоформ, обозначающих атрибуты жизнедеятельности.
Следует обратить внимание и на распространённость в этой связи не только упомянутых выше архетипов. Изоморфность древних названий островов, побережий, отмелей, водоёмов, заливов, приёмов изготовления и эксплуатации плавсредств, природных явлений, сопровождающих навигацию, прослеживается во многих современных языках и по присутствию лигатур ( b, f, p, v, w, bh, ph )- n ) с исходными глоссами освещения, литья и струйного течения. В частности, с аналогичным корневым словом эта праформа отражена как «лодка», «чёлн» и «шлюпка» в китайском shānbăn и финских языках (последние принадлежат к бореальному субстволу): vene (фин.), венч (эрз.), венеж (мокш.) и др. Её следы заметны и в индоевропейских идиомах, например, в латинском ( vannus — «миска»), английском ( pan — «посудина») и французском ( vanne — «ванна») языках. Она же присутствует в китайских словоформах fdnldn - «заливать», «затоплять», bin — «берег» и wān — «залив» (по-японски — ван ). То обстоятельство, что с идентичными семемами данный гидроформант отражён не только в афразийских, но и в синокавказских языках, указывает на более глубокую архаичность его флексий по сравнению с проявленными позднее и фактически дублирующимися изоглоссами n ( l1r ) и m ( Hr ) . Причём предполагается, что среди обитателей консорция первая преобладала в периоде похолодания Дриас-ΙΙΙ, а вторая превалировала во время сменившей его трансгрессии.
Подтверждением сказанному выше служат и экспликации корневого элемента мр, закрепившегося в японском языке (одном из таксонов алтайской семьи бореального субствола восточ-ноностратического ствола), тезаурус которого насыщен терминологией, связанной с водой, её видами, влажностью и промоканием [13]. Как и в других алтайских генсах (например, в корейском языке), в речи японцев выделенная основа является синтагмой гидроформантов ма/мо и рёй/рэй, хотя в синонимах воды сохранились и архаические формы дзу/суй/сио, сходные, в частности, с аналогичными китайскими корневыми морфемами. Характерными примерами являются вокабулы мори — «течь» (сущ.), мору — «пропускать воду», морэ — «течь» (глаг.), «проникновение воды», морасу — «дать просочиться» и др. В тот же семантический куст входят и японские слова, относящиеся к окоёму сине-голубой поверхности, судостроению и судоходству, навигации: моора — «охватывать», мурео — «неизмеримый», «безмерный», марука, марута — «бревно», «кругляк», марукибунэ — «чёлн», мо-рэгути — «пробоина», ...мару — суффикс, маркирующий рыболовное судно, томари — «остановка», «пристань», «причал», «гавань» (по-айнски — «залив»), отомари — «большой залив», томару — «стоять на якоре» и пр. Но всё же словоформы с элементом n(r/l), также относящиеся в основном к более архаичному слою рассматриваемого денотата, в японском языке встречаются чаще: нурэ, нурэта — «мокрый», нурасу — «мочить», «смачивать», «увлажнять», нурэру — «промокать», «намокать», ниру — «варить», конарэ — «пищеварение», нуру — «намазывать», «смазывать» ньёри — «мочеиспускание», наруто — «водоворот у выхода из узкого пролива», нариюки — «течение», «ход», нориагэ — «сесть на мель», нориабунэ — «паромное судно» и др.
-
1. Анати Эм. Палестина до древних евреев / пер. с англ. А. Б. Давыдовой. М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. 368 с.
-
2. Дьяконов И. М. Семито-хамитские языки. Опыт классификации. Изд. 3-е. М. : КомКнига, 2010. С. 42.
-
3. Андреев Н. Д. Раннеиндоевропейский праязык. Л. : Наука, 1986. 328 с.
-
4. Яковлев В. М., Сидорова А. С. Ареал древнейшей цивилизации и появления мореходства в свете мифологических источников // Наука и образование — транспорту : Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Самара, СамГУПС, 5—7 окт.
-
5. Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : Этнограф. справ. Саранск : Мордовское кн . изд-во, 2004. С. 9.
-
6. Бирюков В. М. О происхождении названия реки Самары: Библиографические разыскания. Самара : СОУНБ, 1999. 23 с.
-
7. Бирюков В. М. О названии реки Волги: Библиографические разыскания. Самара : СОУНБ, 2001. 23 с.
-
8. Яковлев В. М., Чекушкин Е. О., Кузнецова Л. Н. Топоним «Самара» в свете лингвистических данных // Самара — Куйбышев — Самара: История. Экономика. Культура : Материалы межвуз. науч.
-
9. Яковлев В. М., Чекушкин П. О. Об этимологической трактовке топонимов с основой S-R // Самара — Куйбышев — Самара: История. Экономика. Культура : Материалы Межвуз. науч. конф. (11 мая 2012 г.). Самара : Самарский ин-т (фил.) РГТЭУ, 2012. С. 67—68.
-
10. Яковлев В. М. Исходные следы корневой основы праязыка и мифологических представлений евразийцев // Современные направления теоретических и прикладных исследований ‛2010 : Сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Одесса, Одесский национальный морской ун-т, 15—26 марта 2010 г.). Т. 25. Философия и филология. Одесса : Черноморье, 2010. С. 88—94.
-
11. Сускин И. Н., Шаврыгин Н. В., Яковлев В. М. Отражение исходного следа пращуров в восточно-
славянском пантеоне и корневых основах глоссария современного русского языка // Образование, наука, транспорт в ХХΙ веке: опыт, перспективы, инновации : Региональная науч.-практ. конф. (Оренбург, Оренбургский ин-т путей сообщения — филиал ГОУ ВПО СамГУПС, 21 апр. 2010 г.). Самара — Оренбург : СамГУПС, 2010. С. 181—183.
-
12. Яковлев В. М., Урушина Н. А., Ламажапов Х. Д. Следы евразийского праязыка в терминологии и ономастиконе раннего буддизма // Образование, наука, транспорт в ХХΙ веке: опыт, перспективы, инновации : Региональная науч.-практ. конф. (Оренбург, Оренбургский ин-т путей сообщения — филиал ГОУ ВПО СамГУПС, 21 апр. 2010 г.). Самара — Оренбург : СамГУПС, 2010. С. 183—185.
-
13. Алпатов В. М. Японская природа и японский язык // История и современность. 2007. Вып. 2. С. 219—230.
2009 г.). Самара : СамГУПС, 2009. С. 284—286.
конф. (11 мая 2012 г.). Самара : Самарский ин-т (фил.) РГТЭУ, 2012. С. 66—67.
Список литературы Отражение водной стихии как денотата в когнитивной лексике и терминологии судоходства
- Анати Эм. Палестина до древних евреев/пер. с англ. А. Б. Давыдовой. М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. 368 с.
- Дьяконов И. М. Семито-хамитские языки. Опыт классификации. Изд. 3-е. М.: КомКнига, 2010. С. 42.
- Андреев Н. Д. Раннеиндоевропейский праязык. Л.: Наука, 1986. 328 с.
- Яковлев В. М., Сидорова А. С. Ареал древнейшей цивилизации и появления мореходства в свете мифологических источников//Наука и образование -транспорту: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Самара, СамГУПС, 5-7 окт. 2009 г.). Самара: СамГУПС, 2009. С. 284-286.
- Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы: Этнограф. справ. Саранск: Мордовское кн. изд-во, 2004. С. 9.
- Бирюков В. М. О происхождении названия реки Самары: Библиографические разыскания. Самара: СОУНБ, 1999. 23 с.
- Бирюков В. М. О названии реки Волги: Библиографические разыскания. Самара: СОУНБ, 2001. 23 с.
- Яковлев В. М., Чекушкин Е. О., Кузнецова Л. Н. Топоним «Самара» в свете лингвистических данных//Самара -Куйбышев -Самара: История. Экономика. Культура: Материалы межвуз. науч. конф. (11 мая 2012 г.). Самара: Самарский ин-т (фил.) РГТЭУ, 2012. С. 66-67.
- Яковлев В. М., Чекушкин П. О. Об этимологической трактовке топонимов с основой S-R//Самара -Куйбышев -Самара: История. Экономика. Культура: Материалы Межвуз. науч. конф. (11 мая 2012 г.). Самара: Самарский ин-т (фил.) РГТЭУ, 2012. С. 67-68.
- Яковлев В. М. Исходные следы корневой основы праязыка и мифологических представлений евразийцев//Современные направления теоретических и прикладных исследований у2010: Сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Одесса, Одесский национальный морской ун-т, 15-26 марта 2010 г.). Т. 25. Философия и филология. Одесса: Черноморье, 2010. С. 88-94.
- Сускин И. Н., Шаврыгин Н. В., Яковлев В. М. Отражение исходного следа пращуров в восточнославянском пантеоне и корневых основах глоссария современного русского языка//Образование, наука, транспорт в ХХI веке: опыт, перспективы, инновации: Региональная науч.-практ. конф. (Оренбург, Оренбургский ин-т путей сообщения -филиал ГОУ ВПО СамГУПС, 21 апр. 2010 г.). Самара -Оренбург: СамГУПС, 2010. С. 181-183.
- Яковлев В. М., Урушина Н. А., Ламажапов Х. Д. Следы евразийского праязыка в терминологии и ономастиконе раннего буддизма//Образование, наука, транспорт в ХХI веке: опыт, перспективы, инновации: Региональная науч.-практ. конф. (Оренбург, Оренбургский ин-т путей сообщения -филиал ГОУ ВПО СамГУПС, 21 апр. 2010 г.). Самара -Оренбург: СамГУПС, 2010. С. 183-185.
- Алпатов В. М. Японская природа и японский язык//История и современность. 2007. Вып. 2. С. 219-230.