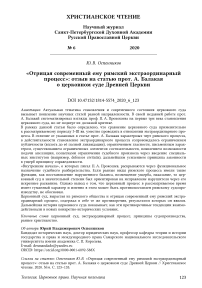«Отрицая современный ему римский экстраординарный процесс»: отзыв на статью прот. А. Балакая о церковном суде древней церкви
Автор: Оспенников Юрий Владимирович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право. Научная полемика
Статья в выпуске: 6 (95), 2020 года.
Бесплатный доступ
Актуальная тематика становления и современного состояния церковного суда вызывает появление научных статей разной направленности. В своей недавней работе прот. А. Балакай систематизировал взгляды проф. П. А. Прокошева на первые три века становления церковного суда, но не подверг их должной критике. В рамках данной статьи было определено, что сравнение церковного суда применительно к рассматриваемому периоду I-III вв. уместно проводить в отношении экстраординарного процесса. В отличие от указанных в статье прот. А. Балакая характерных черт римского процесса, в действительности становление экстраординарного процесса сопровождалось ограничением публичности (вплоть до её полной ликвидации), ограничением гласности, письменным характером, существованием ограниченных элементов состязательности, появлением возможности подачи апелляции, попытками ограничения судебного произвола через введение специальных институтов (например, defensor civitatis), дальнейшим усилением принципа законности в ущерб принципу справедливости. «Внутренние начала», о которых писал П. А. Прокошев, раскрываются через функциональное назначение судебного разбирательства. Если разные виды римского процесса имели такие функции, как восстановление нарушенного баланса, возмещение ущерба, наказание, то церковный суд в значительной степени был ориентирован на исправление нарушителя через его искреннее раскаяние. Однако вывод о том, что церковный процесс в рассматриваемое время имеет гуманный характер и именно в этом может быть противопоставлен римскому судопроизводству, не обоснован. Церковный суд, вырастая из римского общества и отрицая современный ему римский экстраординарный процесс, содержал в себе те же противоречия, результатом которых он явился. Дальнейшая история церковного суда показывает, как эти противоречивые тенденции взаимодействовали в новых конкретно-исторических условиях.
Церковный суд, экстраординарный процесс, принципы судопроизводства, раннее христианство
Короткий адрес: https://sciup.org/140250824
IDR: 140250824 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_6_123
Текст научной статьи «Отрицая современный ему римский экстраординарный процесс»: отзыв на статью прот. А. Балакая о церковном суде древней церкви
На страницах журнала «Христианское чтение» регулярно появляются материалы, в которых затрагиваются проблемы становления и характерных черт церковного суда, его соотношения со светскими судами, проблемы поиска места церковного суда в современном церковном пространстве и современном обществе в целом. Методологические позиции тоже представлены различные: за опубликованными работами видны теологические, историко-правовые, формально-юридические, общефилософские основания, на которых стоят отдельные авторы.
Среди этих материалов можно отметить статью прот. А. Балакая (Балакай, 2020, 102–108)1, которая является составной частью целой серии статей, раскрывающих особенности дискуссии о церковном суде на Всероссийском Поместном Соборе 1917– 1918 гг. В рамках данной статьи прот. А. Балакай дает обстоятельный обзор жизненного и научного пути проф. П. А. Прокошева, основательно и детально выявляет его представления относительно принципов церковного судопроизводства и относительно влияния римского права на церковный суд. При этом уважаемый прот. А. Балакай указал на связь рассматриваемого предмета с острым вопросом отделения суда от администрации.
Исследование прот. А. Балакая представляет интерес не только с точки зрения прояснения полемики, происходившей на Поместном Соборе 1917–1918 гг., оно имеет очевидное историографическое значение, давая в сжатом и систематизированном виде представление о системе взглядов П. А. Прокошева на особенности становления и принципы церковного суда.
К сожалению, обобщив и систематизировав взгляды П. А. Прокошева, прот. А. Балакай остановился на этом, не подвергнув выявленную позицию критике, в результате чего у читателя может возникнуть представление, что автор статьи разделяет и поддерживает те выводы П. А. Прокошева, которые в рамках статьи были выявлены. Уже в самой статье прот. А. Балакая предмет исследования раздваивается: им становится не только система взглядов П. А. Прокошева на становление церковного суда, но и сам церковный суд с его принципами и спорным вопросом о наличии или отсутствии римского влияния. В силу этого обстоятельства статья прот. А. Балакая оставляет ощущение незавершенности и очевидно приглашает к дискуссии.
Среди задач данной статьи можно выделить следующие основные позиции: 1) уточнить «внешние» начала церковного процесса и их соответствие принципам римского судопроизводства; 2) уточнить понятие «внутренние начала» церковного судебного процесса и их соотношение с аналогичными началами римского судопроизводства; 3) уточнить постановку проблемы римского влияния на церковный суд. В рамках статьи рассмотрение материала осуществляется с историко-правовых позиций, предполагающих диалектическую природу изучаемого предмета.
Основная часть
В рамках данной статьи я оставлю в стороне условно выделенный первый предмет (поскольку систему взглядов П. А. Прокошева уважаемый прот. А. Балакай выделил достаточно четко и убедительно, и здесь я не нахожу оснований для дискуссии), но выскажу несколько соображений по второму предмету, поскольку выводы П. А. Прокошева нуждаются в критике. При этом нужно специально оговорить, что работа П. А. Прокошева построена на фрагментарном и выборочном использовании огромного массива источников, для критики его позиции будут использоваться преимущественно те же источники, поскольку расширение источниковой базы повлечет за собой прояснение ряда источниковедческих и историографических вопросов, что невозможно сделать в рамках этой статьи.
Обобщая позицию П. А. Прокошева, прот. А. Балакай отмечает, что в течение первых трех веков существования христианства, вплоть до Миланского эдикта, основания возникновения и функционирования церковного суда имели нравственный характер — суд строился на «любви, кротости, милосердии, пастырском попечении о согрешившем» (с. 107, 108). При этом подчеркивается, что этот характер церковного суда существовал в противоположность римскому процессу, Церковь сознательно избегала заимствований из него, «учитывая его строгий, формальный, весьма тщательно разработанный уже к тому времени характер, могущий, вероятно, заслонить собой внутреннюю, духовную основу» (с. 107). Избегая заимствований по сути, Церковь неизбежно обращалась к заимствованию внешних форм римского процесса, поскольку «только римское право могло дать Церкви необходимые для ее целей строго определенные процессуальные формы» (с. 107).
Уже здесь возникает первое серьезное возражение. Описывая церковный суд, автор статьи, вслед за Прокошевым, выделяет и внутренние, и внешние основания. «Внутренние начала» (они же принципы) описываются через три позиции: 1) требование к судьям быть справедливыми и бескорыстными; 2) необходимость обращать особое внимание на религиозно-нравственную жизнь обвинителя и свидетелей; 3) требование учитывать при наложении наказания обстоятельства совершения прегрешения и душевный настрой согрешившего, а также его готовность к раскаянию (с. 106). «Внешние начала», в отличие от внутренних, заимствованы из «обыкновенного» римского судопроизводства и включают в себя публичность, устность, присутствие сторон либо же заочное решение (с. 106). Сам этот перечень принципов вызывает вопросы, но пока не будем отвлекаться. Получается, что «внешние начала» римского «обыкновенного судопроизводства» и церковного процесса полностью тождественны (Церковь заимствовала «внешние начала» как наиболее совершенные образцы тогдашнего времени), а «внутренние начала» раскрыты только в отношении церковного суда. Какие же «внутренние принципы» были у римского процесса и в чем они отличались от церковного аналога? На этот вопрос, к сожалению, в статье ответа нет. И не может быть, потому что никакие «внутренние начала» или «внутренние принципы» в римском процессе, как и вообще в судебном процессе, выделить невозможно. И в связи с этим ряд вопросов возникает и к конкретным «внутренним принципам», выделяемым в концепции Прокошева. Уже первое требование «быть справедливыми и бескорыстными» обращено не на сам суд, а к конкретным лицам, выполняющим судебные функции, что сразу низводит это требование с уровня принципа до уровня конкретных требований. С другой стороны, разве не требовались, не подразумевались ли эти же качества в рамках римского судопроизводства к римским судьям? В отношении второго требования опять возникает тот же вопрос: разве в римском судопроизводстве стороны не приводили свидетелей, которые прежде всего характеризовали личность соответствующей стороны? Третье требование трудно проследить в римском судопроизводстве, поскольку оно не было формализовано, но здравый смысл, к которому постоянно обращалось римское право, подсказывает необходимость учитывать отмеченные в третьем пункте обстоятельства.
Единственный элемент из всех «внутренних начал», выделяемых Прокошевым, который действительно составлял своеобразие церковного суда — это особый акцент на идее раскаяния, теоретическая проработка этого понятия и выработка системы воздействия на правонарушителя с учетом этой концепции. Но в той модели взглядов П. А. Прокошева, которую выявил прот. А. Балакай, не этот элемент представлен в качестве своеобразия церковного суда, а другие элементы, свойственные в том числе и римскому процессу.
И здесь, наверное, уже невозможно дальше откладывать еще один важный вопрос к той концепции становления церковного суда, которая изложена в статье прот. А. Балакая. О каком именно римском процессе мы говорим? Первые три века существования христианства — это весьма сложный и интересный период в истории римского общества. В это время происходит постепенное вытеснение формулярного процесса, официально завершившееся к 342 г., когда после конституции Констанция и Клемента формулы окончательно перестали составляться [Гарридо, 2005, 209–217].
Для подробного обзора становления экстраординарного процесса можно отослать читателя к работе И. А. Покровского [Покровский, 2002], созданной в то же время, когда П. А. Прокошев формировал свою концепцию (при этом нужно заметить, что выводы Покровского относительно экстраординарного процесса не устарели и современные исследования во многом поддерживают те же принципиальные основания) [Крицкая, Субботин, 2012, 201–208]. И. А. Покровский показывает, как уже в рамках принципата растет юрисдикционная роль императорских чиновников, которые, «как делегаты императора», все чаще и чаще разбирают дела от начала до конца [Покровский, 2002, 202]. Уже при Диоклетиане формулярный процесс не применялся, судебная власть в самом Риме полностью перешла в руки prefectus urbi, а различия между сенатскими и императорскими провинциями исчезли с распространением экстраординарного процесса как господствующей формы по всей территории империи. В 294 г. Диоклетианом был издан указ, согласно которому правители провинций должны были сами решать дела, а extraordinaria cognitio представала как общая и единственная форма процесса [Покровский, 2002, 203]. В рамках отсылок прот. А. Балакая к дискуссии относительно отделения суда от администрации замечу, что здесь мы видим такое же соединение в одних руках административной и судебной власти, которое найдет отражение и в особенностях церковного святительского суда.
Таким образом, в рассматриваемый период, говоря о «римском процессе», мы можем рассматривать как отмирающий формулярный процесс, так и активно замещающий его экстраординарный. Кроме того, некоторые авторы отстаивают точку зрения, что в это время происходила ранняя стадия становления так называемого «инквизиционного процесса» [Вишневский, 2012, 11–14]. В зависимости от того, о каком все-таки виде процесса мы говорим, это будет различный набор принципов и характерных черт.
Надо полагать, что применительно к рассматриваемому периоду первых трех веков от Р. Х., говоря о римском процессе, все-таки правильнее иметь в виду экстраординарный процесс с его набором принципов и характерных черт (особенно в вопросе о возможном воздействии на становление церковного суда, поскольку именно extraordinaria cognitio в общественном сознании было неразрывно соединено с властью римских чиновников и римского государственного аппарата, от которых исходили гонения на раннехристианские общины). Сразу нужно оговорить, что в этой статье изложение исходит из признания сильного преобладающего общинного элемента в устройстве ранней Церкви, хотя в научной литературе высказывается и другая позиция, согласно которой Церковь изначально формируется как не потестарный институт, не существующий вне письменной культуры [Костромин, 2017, 96].
Можно было бы предположить, что различия между разными видами римского процесса незначительны, поэтому, противопоставляя его церковному суду, можно говорить в целом, имея в виду собирательное представление о римском «обыкновенном судопроизводстве». Но точно так же, как в свое время переход к формулярному процессу привел к существенным изменениям набора характерных черт судопроизводства, переход к экстраординарному процессу тоже означал существенные изменения.
В статье прот. А. Балакая упоминается несколько принципов, которые характеризуют церковный суд с «внешней стороны»: публичность, устность, присутствие сторон либо же заочное решение (с. 106). Логичным и необходимым представляется задаться вопросом, насколько эти принципы были отражены, и если да, то как они изменились с переходом к экстраординарному процессу.
О публичности, т. е. об участии общества в осуществлении судебной власти, можно говорить применительно к тем временам, когда судья выбирался из граждан по соглашению самих сторон; в рассматриваемый период можно говорить только о косвенной публичности (хотя и это чрезвычайно спорный тезис). При переходе к экстраординарному процессу продолжается начавшееся еще раньше ограничение принципа публичности. Судебная власть окончательно передается в руки государственных чиновников, как пишет И. А. Покровский, «весь процесс построен на начале власти (imperium)» [Покровский, 2002, 203]. На отказ от принципа публичности указывает и новое значение литисконтестации, которая в новых условиях сводится к признанию сторонами полномочий магистрата [Крицкая, Субботин, 2012, 201–208]. Ограничение принципа публичности в данном случае тесным образом связано с не-разделенностью административной и судебной функций2, которую можно выделить как характерное основание и для римского процесса этого периода, и для церковного суда в том его виде, когда он осуществлялся епископами.
Тесно связан с публичностью (с которой его часто смешивают) принцип гласности, не упомянутый в рассматриваемой статье. Не только участие общества в осуществлении правосудия (публичность), но и доступ к процедурам и результатам судебного разбирательства в данный период ограничиваются. Заседания суда проводятся в закрытом режиме, регламентируется список лиц, допускаемых на заседание. Кроме того, ограничению гласности способствует письменный характер судопроизводства: вызов в суд, ведение протокола, судебное решение, — все оформляется письменно, в противоположность прежним порядкам, когда любое судебное заседание фиксировалось прежде всего в памяти сограждан по общине, теперь сопровождающие дело документы составляются для узкого круга заинтересованных лиц. В этом смысле можно оспорить утверждение, что принципом судопроизводства являлась устность.
Некоторые авторы говорят о состязательности экстраординарного процесса [Крицкая, Субботин, 2012, 207], хотя, конечно, корректнее говорить об элементах состязательности. Состязательный характер остался в прошлом, как только появилось противопоставление сторон как истца и ответчика. Однако элементы состязательности в экстраординарном процессе имелись: возбуждение дела только по жалобе истца, суд не мог превысить в своем постановлении исковое требование и др.
Еще одной важной особенностью экстраординарного процесса явилась возможность подачи апелляции, как верно отметил И. А. Покровский, «ибо все чиновники представляют собой одну иерархическую лестницу» [Покровский, 2002, 204]. Строгую иерархическую лестницу и возможность апелляции мы позднее находим и в церковном суде.
Еще одна интересная особенность появляется на этом этапе в римском процессе. Ограничение публичности неизбежно приводило к усилению субъективного фактора в принятии решения, к усилению произвола. С целью хоть как-то ограничить нарастающий судебный произвол, в систему органов власти была введена должность defensor civitatis. Эта должность интересна в плане обсуждаемого вопроса о наличии влияния системы римского судопроизводства на подсистему церковного суда. Дальнейшая эволюция института defensor civitatis показала его возрастающее значение на фоне разрушения выстроенной римлянами вертикали в раннефеодальных варварских королевствах. Например, в вестготской Испании в избрании defensor civitatis все активнее стали участвовать местные епископы, а потом функции «дефенсора города» окончательно влились в компетенцию епископской власти, так что епископы заняли место этой категории магистратов [Вестготская правда, 2012, 62].
В процессе прояснения вопроса о том, о какой разновидности римского процесса следует вести речь, какие принципы этого процесса можно выделять в рассматриваемый период, уже были сделаны замечания относительно проблемы римского влияния на становление церковного суда. С одной стороны, в своей статье прот. А. Балакай специально и совершенно справедливо выделяет идею Прокошева, что церковный суд неизбежно испытывал тенденцию формализации, и в этом смысле обратился за заимствованиями к наиболее совершенной с формальной стороны системе судопроизводства — к римскому процессу (с. 106). С другой стороны, в выводах утверждается, что Церковь избегала заимствований из римского процесса, при этом имеется в виду некое его «внутреннее содержание», которое в самой статье, однако, никак не определено.
Подразумевается, что римское «обыкновенное судопроизводство» в своем внутреннем содержании принципиально отличалось от церковного суда. Но разве в основе римского процесса не лежало то же стремление к справедливости? Один из ведущих современных исследователей римского права Л. Л. Кофанов отстаивает точку зрения, что Церковь восприняла основное в римском подходе к «праведному суду», заимствовав у римлян представление о ius naturale как главном источнике всех законов и права в целом [Кофанов, 2015, 168].
Здесь также нужно заметить, что исследователи ранней Римской империи отмечают широко распространенный в римском обществе запрос на справедливый суд. В духовной сфере этот запрос нашел отражение в поисках новых богов, «внемлющих и справедливых» [Свенцицкая, 1987, 41]. Среди других ответов на этот запрос оказалось и христианство, нашедшее в итоге отклик в сердцах огромного количества жителей Римской империи. В одном из апокрифических текстов эта идея о справедливом боге замечательно отражена в ответе на просьбу Иисуса Христа сказать, на кого Он похож, когда Симон Петр ответил: «Ты похож на ангела справедливого» [Евангелие от Фомы, 1989, 251]. Позднее, уже в христианских раннефеодальных государственных образованиях, эта идея справедливого Бога подчеркивалась в различных правовых актах. Например, в главе Вестготской правды о наказании епископов, составленной при короле Вамбе, эта идея подчеркнута несколько раз и с разных сторон: «Бог — справедливый судья, благоволит вечному правосудию… Сам Бог есть справедливость… любой верующий, служа справедливости, укрепляет свои обеты, и служит [тем самым] Богу, Который справедлив» [Вестготская правда, 2012, 601–602].
Таким образом, с одной стороны, раннехристианские общины возникали и развивались на территории Римской империи, в рамках римского общества. Уже по этой причине немыслимо говорить об отсутствии «римского влияния» на какие-то сферы жизни раннехристианских общин. Другое дело, что в становлении церковного суда отразились противоречия, присущие римскому обществу в этот период, отсюда и противопоставление светского государственного управления и суда, сферы «цезаря», духовному пространству раннехристианской общины с ее церковным судом. Об этом разделении говорят разные источники, нагляднее всего, наверное, — известный евангельский сюжет о необходимости отдать цезарю цезарево: «итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу!» (Лк 20:25). Как полагают исследователи раннего христианства, даже самоназвание первых общин («экклесии») имело в виду противопоставление: «Христиане как бы противопоставляли свое собрание — экклесию верующих, истинное собрание — экклесии земной, потерявшей уже всякий смысл, град Божий — граду (полису) земному…» [Свенцицкая, 1987, 101].
Учитывая, насколько полно римские власти контролировали официальное публичное пространство (вплоть до того, что вопросы о строительстве общественных бань или переносе храма из одного места в другое в обязательном порядке согласовывались с римской администрацией) [Свенцицкая, 1987, 24], неудивительно, что христианские общины создавали параллельные структуры, в том числе и систему регулирования отношений внутри общины. Становление раннехристианских общин и церковного суда происходило в условиях идейного и организационного противостояния с римской администрацией, поэтому процесс становления во многом носил негативный характер, отталкиваясь от шаблонного восприятия римской административно-судебной системы.
При этом нужно учитывать, что далеко не все принципы или характерные черты судопроизводства, известные нам также по современному римскому процессу, обязательно будут являться заимствованиями. Они вполне могут быть продуктом соответствующего внутреннего развития раннехристианских общин.
И в этом отношении большой интерес представляет разбор П. А. Прокошевым евангельского текста (Мф 18:15–18), на основании которого он приходит к выводу, что для церковного процесса в рассматриваемый период были свойственны публичность, «открытость» (то есть гласность), необходимость доказательства обвинения свидетельскими показаниями, но главное — подчеркивается, что церковному суду «должно предшествовать братское увещание склонить согрешившего к раскаянию» [Прокошев, 1900, 11–12].
Не затрагивая теологические аспекты толкования этого текста, хочу обратить внимание на очевидные с историко-правовых позиций особенности типичного общинного правосознания: сначала предполагается возможность восстановления нарушенного баланса через неформальное воздействие на нарушителя, особое значение свидетельских показаний соседей по общине, высшая мера воздействия на нарушителя — изгнание из общины (в данном случае из общины верующих: «да будет он тебе, как язычник и мытарь»). Еще более очевидно указание на изгнание из общины как высшую меру наказания содержится в 1-м послании Павла к Коринфянам (1 Кор 5:9–13).
Указания на изгнание из общины как меру наказания особенно важны в контексте декларируемого П. А. Прокошевым «духа кротости и милосердия». В раннехристианских текстах достаточно явно, наряду с проповедью милосердия и прощения, проходит идея неприятия иноверцев, доходящая до крайних форм [Свенцицкая, 1987, 94]. Учитывая, что в рассмотренном тексте воспроизводится общинное правосознание, крайне трудно установить, являются ли какие-то элементы свойственного данной общине судопроизводства заимствованиями из древнееврейского или римского права, или являются результатом эволюции внутриобщинных отношений.
Как было отмечено выше, главным запросом в римском обществе рассматриваемого периода являлся запрос на социальную справедливость, предполагавший в т. ч. изменение судопроизводства, поскольку действующая модель очевидно дискредитировала себя в глазах широких народных масс. Отталкиваясь от действующей модели, предполагающей ограничение публичности, поиски новой модели закономерно приводили к другому виду судопроизводства, основанному на широком участии общества. В рамках раннехристианских общин — к возрождению суда с широким участием общины верующих.
И эта идея, как мне кажется, явно отражена в разбиравшемся П. А. Прокошевым евангельском тексте, в нем содержится указание на суд общины верующих, который только в более позднее время стал вытесняться епископским судом.
Но даже этот суд общины верующих в рассматриваемый период имел слабые основания, а его наличие подвергается сомнению. Так, И. С. Свенцицкая аргументированно доказывает, что в условиях «полной добровольности христианских объединений никаких дисциплинарных мер разработано еще не было», не было даже представления о «собственно христианском суде», чаще всего полагались на Божественное наказание [Свенцицкая, 1987, 109]. Собственно, на эту особенность правосознания есть прямое указание в 1-м послании к Коринфянам Павла: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор 4:5). Даже исследователи более поздних периодов указывают на то, что в идеале церковный суд «должен был отражать Божественное волеизъявление», при этом П. И. Гайденко приводит яркий пример из «Деяний апостолов», когда приговор над виновными был вынесен и приведен в исполнение самим Святым Духом [Гайденко, 2017, 10].
С другой стороны, в том же 1-м Послании Павел призывает верующих не обращаться к обычным судебным органам, а организовать суд общины для разбора спорных дел: «…неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными» (1 Кор 6:5–6). В этом же Послании отражена и тенденция вытеснения суда общины верующих судом епископов, поскольку акцент сделан на том, что «святые будут судить мир» и для разбора тяжб следует поставлять судьями людей, «значащих в Церкви».
Здесь мы вплотную подходим к чрезвычайно сложному вопросу выявления разновидностей церковного суда, но совершенно очевидно, что никакого «церковного суда» вообще (как и римского «обыкновенного судопроизводства») в рассматриваемое время, конечно, не было.
Акцент на том, что церковному суду должна предшествовать (скорее, первой мерой, которая предписывается в рамках осуществления правосудия к нарушителю) попытка увещевания и пробуждения раскаяния, указывает на то, что можно считать «внутренним содержанием» церковного судопроизводства — функциональную направленность. В таком случае, в отличие от разновидностей светского суда рассматриваемого периода (которые могли иметь такие функции, как восстановление нарушенного баланса, возмещение ущерба, наказание), церковный суд изначально имел выраженную специфику, имея в качестве одной из целей (а на раннем этапе, видимо, важнейшую) исправление нарушителя через его раскаяние.
Надо сказать, что отчасти эту своеобразную функциональную направленность церковный суд пронес сквозь века, сохранив до нашего времени. Полагаю, что Ю. В. Ерохина, убедительно доказавшая, что церковным судом применяется «дисциплинарный вид юридической ответственности» [Ерохина, 2020, 326], другими словами обозначает именно эту особенность, поскольку дисциплинарный характер взысканий, систематизированных ею, говорит о стремлении исправить нарушителя.
П. А. Прокошев вместо раскрытия функциональной направленности церковного судопроизводства в сравнении с аналогичной направленностью римского экстраординарного процесса пошел по другому пути. Исходя из выявленной цели — достижения раскаяния правонарушителя, он сделал вывод, что весь церковный процесс a priori имеет гуманный характер и именно в этом отношении должен быть противопоставлен римскому судопроизводству.
При этом П. А. Прокошев сразу же оговаривается, приводя примеры применения насильственных мер и в церковном судопроизводстве, но трактует их как отклонения, поскольку такая практика осуждалась лучшими представителями Церкви [Прокошев, 1900, 208]. Сомнительный аргумент: в том же римском праве разве лучшие представители римской юриспруденции не осуждали, например, рабовладение, что не мешало римскому праву иметь рабовладельческий характер и действовать в интересах рабовладельцев?
Дальше по тексту, обосновывая противопоставление «гуманный церковный суд — негуманный римский процесс», П. А. Прокошев видит отличие римского судопроизводства в том, что суд, даже при очевидном раскаянии подсудимого, не мог освободить его от наказания, разве только несколько смягчить меру воздействия [Прокошев, 1900, 212]. Здесь речь идет о принципе законности, который по мере становления римской государственности вытеснил принцип справедливости.
Раннехристианские общины могли сохранять преобладание принципа справедливости, как это свойственно общинному правосознанию. Но как только церковная иерархия стала оформляться как самостоятельная сила (это видно уже в 1-м Послании к Тимофею), а затем и срастаться с государственным аппаратом, неизбежно возникает противоречие между декларируемым принципом справедливости и реально осуществляемым на практике преобладанием принципа законности. Поэтому, когда дальше П. А. Прокошев говорит о том, что в этом сказалась «верность Церкви основным началам своего судопроизводства», он вольно или невольно вводит читателя в заблуждение. Понятно желание П. А. Прокошева и в дальнейшей истории Церкви продолжать видеть те же особенности, которые были характерны для ранней стадии ее становления, но это желание привело его к неверным выводам.
Заключение
Таким образом, при ознакомлении со статьей прот. А. Балакая возникает вопрос, о каком виде римского процесса идет речь. Уточнение этого вопроса имеет принципиальное значение, поскольку разные виды римского процесса имели отличия в наборе принципов и характерных черт. Наиболее логичным будет являться сравнение церковного суда с экстраординарным римским процессом (extraordinaria cognitio).
Характерные свойства экстраординарного процесса отличаются от тех «внешних начал», которые, согласно статье прот. А. Балакая, церковный суд заимствовал из римского судопроизводства. В действительности становление экстраординарного процесса сопровождалось ограничением публичности (вплоть до ее полной ликвидации), ограничением гласности, письменным характером, существованием ограниченных элементов состязательности, появлением возможности подачи апелляции, попытками ограничения судебного произвола через введение специальных институтов (например, defensor civitatis), дальнейшим усилением принципа законности в ущерб принципу справедливости.
Под «внутренними началами», видимо, следует иметь в виду функциональное назначение судебного разбирательства. Если разные виды римского процесса имели такие функции, как восстановление нарушенного баланса, возмещение ущерба, наказание, то церковный суд имеет очевидное своеобразие, ставя своей целью в том числе исправление нарушителя через его искреннее раскаяние. П. А. Прокошев, выявив эту функцию, сделал необоснованный вывод, что весь церковный процесс a priori имеет гуманный характер и именно в этом может быть противопоставлен римскому судопроизводству.
Более того, хронологические рамки, которые предлагает П. А. Прокошев, включают в себя противодействующие тенденции внутри процесса становления церковного суда. Уже во II–III вв. отчетливо проявляется тенденция к становлению епископского суда, который и организационно, и содержательно имел существенные отличия от взглядов на разрешение споров внутри иудео-христианских и раннехристианских общин I–II вв. Поэтому попытки выявить некие «неизменные» основания церковного суда, которые якобы оформляются в это время, представляются некорректными.
При постановке вопроса о наличии римского влияния на становление церковного суда необходимо учитывать диалектический характер этого процесса: церковный суд вырастал из римского общества и известных ему представлений о суде, являясь непосредственным развитием этих представлений, но в то же время будучи направлен на отрицание римского судопроизводства. При таком подходе отпадает необходимость отвечать на вопрос о наличии влияния, речь должна идти о конкретных принципах и характерных чертах, которые церковный суд заимствовал напрямую или через отрицание. Церковный суд, вырастая из римского общества и отрицая современный ему римский экстраординарный процесс, содержал в себе те же противоречия, результатом которых он явился. Дальнейшая история церковного суда показывает, как эти противоречивые тенденции взаимодействовали в новых конкретно-исторических условиях.
Список литературы «Отрицая современный ему римский экстраординарный процесс»: отзыв на статью прот. А. Балакая о церковном суде древней церкви
- Балакай (2020) - Балакай А., прот. "Без всякого влияния со стороны римского права": участник Поместного Собора 1917-18 гг. проф. П. А. Прокошев о церковном суде Древней Церкви // Христианское чтение. 2020. № 4. С. 102-108.
- Вестготская правда (2012) - Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. 944 с.
- Вишневский (2012) - Вишневский В. Г. Инквизиционный процесс Древнего Рима // Проблемы современного российского законодательства. М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2012. С. 11-14.
- Гайденко (2017) - Гайденко П. И. Церковные суды и судопроизводство в домонгольской Руси (особенности организации и функционирования) // Studia Historica Europae Orientalis. Исследования по истории Восточной Европы. 2017. № 10. С. 9-33.
- Гарридо (2005) - Гарридо М. Х. Г. Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. 812 с.
- Евангелие от Фомы (1989) - Евангелие от Фомы // Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии. М.: Мысль, 1989. С. 250-262.
- Ерохина (2020) - Ерохина Ю. В. Церковный суд в России: взгляд правоведа // Вопросы теологии. 2020. Т. 2. № 2. С. 315-340.
- Костромин (2017) - Костромин К. А. Потестарность и христианизация Руси // Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2017. № 7. С. 93-101.
- Кофанов (2015) - Кофанов Л. Л. Внешняя система римского права: право природы, право народов и коммерческое право в юридической мысли античности. М.: Статут, 2015. 192 с.
- Крицкая, Субботин (2012) - Крицкая С. Ю., Субботин Ю. В. Становление экстраординарного процесса в римском праве // Административная юстиция: международный опыт и перспективы развития в России. Сб. ст. по материал Международной научно-практической конференции. СПб., 2012. С. 201-208.
- Покровский (2002) - Покровский И. А. История римского права. Мн.: Харвест, 2002. 528 с.
- Прокошев (1900) - Прокошев П. А. Церковное судопроизводство в период Вселенских соборов (Accusatio) и влияние на него римско-византийского процессуального права. Казань, 1900. 218 с.
- Свенцицкая (1987) - Свенцицкая И. С. Раннее христианство: страницы истории. М.: Политиздат, 1987. 336 с.