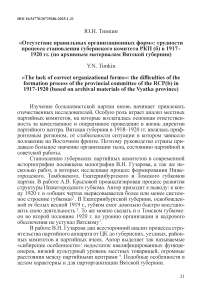«Отсутствие правильных организационных форм»: трудности процесса становления Губернского комитета РКП(б) в 1917–1920 гг. (по архивным материалам Вятской губернии)
Автор: Тимкин Ю.Н.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Российская государственность
Статья в выпуске: 1 (83), 2025 года.
Бесплатный доступ
В последнее время среди исследователей истории большевистской партии возрос интерес к партии как к социальной системе, имеющей свою структуру и организацию. Опубликовано несколько работ по истории Нижегородского, Томского и Екатеринбургского губернских комитетов, а также обобщающая монография В. Н. Гузарова. Данная статья посвящена возникновению и становлению Вятского губернского комитета РКП(б) в 1917-1920 годах. Целью статьи является анализ процесса формирования Общегубернского комитета РКП(б) в 1917-1920 годах. партийный центр, развитие его структуры, персональный состав, штатное расписание, функции, формирование аппарата губернского комитета. Автор руководствуется принципами историзма, объективности и последовательности, а также историко генетическим методом и методом контент анализа . Статья написана в основном на основе неопубликованных материалов из Центрального государственного архива Кировской области. В статье анализируется предыстория образования губернского комитета - деятельность губернского бюро (октябрь 1917 - январь 1918 гг.) и Вятского городской комитет, взявший на себя функции провинциального партийного центра. Была предпринята попытка воссоздать клику «Михаила Попова» , игравшую важную роль в партийной и советской жизни в конце 1917-1918 годов. Мы исследуем историю становления Вятского губернского комитета РКП(б), который был высшим партийным органом на территории Вятской губернии в период с лета 1918 по конец 1920 года, и раскрываем его специфические черты. Устанавливается его персональный состав и особенности руководящих кадров. То проведен анализ проблемы кадрового «голода» и путей ее преодоления. Комплексно исследован аппарат партийного комитета, раскрыты изменения в его структуре. Раскрыты функции и основные формы работы провинциального партийного комитета . Анализ показал, что партийное строительство в регионе характеризовалось: медленным процессом развития, крайней узостью социальной поддержки, выраженным кадровым «голодом», наличием внутрипартийного соперничества и клики «поповцев», для которых партийная работа была на первом месте. второе место. Осенью 1918 года провинция стала прифронтовой, что привело к усилению ее стратегического положения. Желание Центрального Задача комитета партии обеспечить надлежащее политическое руководство в крае, укрепить партийные и советские организации становится очевидной. Прибытие значительного числа большевиков с Урала, а также представителей Центрального комитета партии ускорило формирование губернского комитета осенью 1918 года. Последующее развитие губернского комитета зависело от наличия необходимых ресурсов. ответственные партийные кадры. Летом и осенью 1919 года, после отъезда «уральцев», процесс развития структуры и аппарата губернского комитета практически остановился.
Клика "поповцев", вятский губернский комитет ркп(б), структура, функции, штатное расписание, кадровый "голод"
Короткий адрес: https://sciup.org/149147707
IDR: 149147707 | DOI: 10.54770/20729286-2025-1-21
Текст научной статьи «Отсутствие правильных организационных форм»: трудности процесса становления Губернского комитета РКП(б) в 1917–1920 гг. (по архивным материалам Вятской губернии)
Изучение большевистской партии вновь начинает привлекать отечественных исследователей. Особую роль играет анализ местных партийных комитетов, на которые возлагалась основная ответственность за качественное и оперативное проведение в жизнь директив партийного центра. Вятская губерния в 1918–1920 гг. являлась прифронтовым регионом, от стабильности ситуации в котором зависело положение на Восточном фронте. Поэтому руководство страны придавало большое значение организации тыла, состоянию партийной и советской работы.
Становлению губернских партийных комитетов в современной историографии посвящена монография В.Н. Гузарова, а так же несколько работ, в которых исследован процесс формирования Нижегородского, Тамбовского, Екатеринбургского и Томского губкомов партии. В работе А.В. Крыловой проанализирован процесс развития структуры Нижегородского губкома. Автор приходит к выводу: к концу 1920 г. в «общих чертах вырисовывается более или менее системное строение губкома»1. В Екатеринбургской губернии, освобожденной от белых весной 1919 г., губком смог довольно быстро восстановить свою деятельность 2. То же можно сказать и о Томском губкоме: он во второй половине 1920 г. по уровню организации и кадрового обеспечения не уступал Вятскому3.
В работе В.Н. Гузарова дан всесторонний анализ процесса строительства партийного аппарата от ЦК до губернских, уездных, районных комитетов и партийных ячеек. Автор выделяет так называемые «сибирские особенности»: недостаток квалифицированных функционеров, низкий культурный уровень местных товарищей, огромные расстояния между партийными центрами 4. Подобные особенности в целом характерны и для парторганизации Вятской губернии.
Партийное строительство в местном крае давно привлекало наше внимание, и итогом стала публикация ряда статей5. В местной историографии анализу процесса становления партийно-советской системы управления в конце 1917–1920 гг. посвящены статьи А.Н. Коробец и В.И. Бакулина, а так же коллективная монография с участием автора этих строк6.
Цель данной статьи – анализ возникновения и становления, структуры, штатного состава, функций Вятского губернского комитета РКП (б) в 1918–1920 гг.
* * *
Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) в октябре 1917 г. стала правящей, и по замыслу ее идеологов приступила к строительству новой государственности. Конституция 1918 г. место партии в системе органов советской власти юридически никак не определила. Первая программа и устав к тому времени нуждались в серьезном обновлении. Однако, до принятия второй программы партии и Устава 1919 г. цели, задачи, структура и функции партии не получили институционального закрепления.
Устав, принятый в декабре 1919 г., определил структуру партийных организаций – от волостной до Центрального Комитета; основой партии стала партийная ячейка. Для вновь вступающих в партию устанавливался кандидатский стаж. Бюджет партийной организации формировался из членских взносов, «субсидий высших партийных организаций и других поступлений»7. Подобная неопределенная формулировка не позволяла определить все источники финансирования, их объем, и соотнести их с решаемыми задачами. Если учесть, что в стране, согласно уставу, формировалась разветвленная структура партийных органов, а в качестве цели партия ставила строительство нового общества, то требовались огромные ресурсы – членских взносов и субсидий было явно недостаточно. В условиях гражданской войны и вовсе следовать уставным положениям стало затруднительно8.
Партийное строительство в Вятской губернии в 1917–1920 гг. проходило под влиянием двух факторов. С одной стороны, аграрный характер губернии, «мещанский» облик городов, катастрофическая нехватка партийных кадров обусловили медленные темпы и противоречивые результаты процесса партийного строительства. Об этом свидетельствует численность и качественный состав парторганизации. Так, в апреле 1920 г. губернская парторганизация насчитывала 9779 членов и кандидатов9. Из них лишь 1377 человек (14 %) состояли в деревенских ячейках10. А между тем, доля крестьян превышала 96 % от общей численности населения11. Вятские уездные города являлись административными, а не пролетарскими центрами. Абсолютное большинство партийцев состояло в городских организациях, занимая, как правило, различные советские (государственные) должности. В этой связи партийную организацию губернии можно назвать «служилой». С другой стороны, превращение Вятки в прифронтовую губернию придало значительный импульс партийному строительству. После освобождения Урала и отъезда большого числа «уральцев», процесс становление губкома замедлился и, в какой-то момент, даже приостановился.
В истории формирования партийной организации как институции можно выделить 3 периода. Первый – с осени 1917 по осень 1918 г. – «комитетский», когда в губернии существовала сеть партийных комитетов, слабо связанных друг с другом, при отсутствии единого центра. Во течение второго периода – осень 1918 – лето 1919 г. – происходит формирование единого партийного центра, между комитетами укрепляются связи, появляются первые специализированные органы в структуре комитетов. Третий период – осень 1919 – конец 1920 г – структура, функции и задачи начинают приводиться в соответствие с уставными требованиями.
Первый опыт создания и функционирования губернского партийного органа связан с деятельностью Вятского губернского бюро РСДРП (б), избранного 2–4 октября 1917 г. на I Вятской губернской партконференции. Бюро располагалось в уездном Глазове, где в то время действовала одна из наиболее сильных партийных организаций. В его состав входили «глазовцы» И.В. Попов, М.В. Драгунов, А.Н. Злобин и в качестве кандидатов – Н.А. Аммосов и И.Я. Шубин. Бюро занималось налаживанием связи со всеми парторганизациями, учётом членов, распространением литературы. Главное направление его деятельности – организация партийных сил и подготовка к выборам в Учредительное собрание. После проведения выборов в деятельности губбюро наступило некоторое затишье, вызванное событиями октябрьской революции. К тому же некоторые его члены, как, например Михаил Драгунов, покинули Вятку.
Губбюро не прекращало оказывать определенного влияния на партийную жизнь в губернии, подготовив созыв февральской партийной конференции 1918 г. Материалы конференции не сохранились. О повестке дня, ходе и решениях конференции мы узнаем из статьи А. Новосёлова в сборнике 1927 г.12 На конференцию, открывшуюся 15 (28) февраля, прибыло 23 делегата от организаций и групп Вятки, Яранска, Нолинска, города Слободского и волостей уезда, Ижевска и Воткинска. Тон в работе конференции задавала делегация партийцев Ижевска, представители которой – Иван Рогалев, Н. Туранов и Гладких – заняли весь президиум13. Парторганизацию Вятки представляли известные, но второстепенные политики – Н.П. Мышкин, П.Г. Фалалеев и Д. Зобнин. Примечательно отсутствие почти всего актива Вятской организации во главе с Михаилом Поповым, Иваном Поповым, Петром Капустиным. О деятельности избранного на конференции губбюро нам ничего не известно. Не сохранились и протоколы Вятского городского комитета первой половины 1918 г. По словам его председателя, Николая Мышкина, «архив комитета исчез, но он был передан новому составу комитета», который после реформирования партийной организации возглавил Михаил Попов. О роли Вятского городского комитета весной 1918 г. свидетельствует тот факт, что когда 20 мая председатель горсовета Михаил Попов попросился в отпуск, ему нужно было получить согласие партийного органа14. Мышкин был «склонен думать, что многое было изъято и уничтожено теми, кого это касалось» 15.
По текущему моменту делегаты конференции поддержали резолюцию о неприятии Брестского мира. В итоге Вятская городская парторганизация раскололась: отсутствовавшие на конференции активисты во главе с Михаилом Поповым поддержали Ленина, а председатель городского парткома Николай Мышкин встал на сторону «левых коммунистов». После завершения февральской конференции в Вятке возникла непростая ситуация: в городе и прилегающих к нему заводах действовала почти самостоятельная парторганизация, лидером которой являлся Михаил Попов. В Ижевске и Воткинске находился практически независимый центр партийной жизни. Все активные партработники губернского города ушли в Советы и исполкомы, заняв там руководящие должности. Будучи чрезвычайно перегружены, они не имели ни времени, ни сил на организацию внутрипартийной работы.
Объединению партийных сил препятствовали личные амбиции лидера большевиков Вятки Михаила Попова, проявившиеся осенью 1917 – летом 1918 гг.16 Михаил Попов, безусловно, обладал хорошими лидерскими качествами, и, по словам Ивана Попова, мог «… всегда правильным большевистским анализом» оценивать «с каждым днём менявшуюся политическую обстановку»17. Вокруг Попова формируется группировка (клика18) «поповцев», в составе П.П. Капустина, В.И. Лалетина, И.Д. Груздева, А.С. Трубинского, П.Г. Фалалеева и некоторых других. Она контролировала горисполком Вятки, а с января 1918 г. – губернский исполком Советов, имела финансовые средства и пыталась диктовать свою волю губбюро. Со своим оппонентами в Вятском городском комитете партии, Михаил Попов предпочитал общаться на языке угроз: «Если будете разговаривать, то пустим в рас-ход»19. По словам Николая Мышкина, «тов. М.М. Попов, Капустин и другие были дельными работниками, но не переварившимися в про- летарском котле, не жившие с массой и недостаточно укрепленные идеями марксизма-ленинизма»20. Внутри группировки «поповцев» существовали довольно тесные связи, совместные «попойки». О «неумеренном употреблении спиртных напитков» председателем губис-полкома Михаилом Поповым с группой своих сторонников говорил на II губернском съезде Советов 10 апреля 1918 г. А.Г. Белобородов 21. Внутри группировки существовали родственные связи. Так, родной брат Михаила Попова – Леонид Михайлович Попов состоял секретарём Вятского горсовета в 1918 г., а земляк братьев Поповых – Пантелеймон Попов возглавлял Вятский горисполком в 1920 г.22.
К началу 1918 г. в губернии действовали практически самостоятельные партийные центры в губернской Вятке, уездном Глазове, рабочем Ижевске. В связи с начавшейся гражданской войной внимание к партийной работе ослабло. В этих условиях ЦК РКП (б) в циркулярном письме (май 1918 г.) констатировал критическое состояние внутрипартийной работы и предложил «несколько передвинуть центр тяжести нашей деятельности на партийное строительство...»23. В конкретных условиях Вятской губернии выполнение данной рекомендации осложнялось не только слабостью партийной организации губернского центра и идеологическими разногласиями, но и стремлением «поповцев» установить свое господство в городском Совете и в партийной организации Вятки. Под предлогом чистки организации от «левых коммунистов» и «всех примазавшихся» Михаил Попов добился вначале роспуска партийного комитета, а затем и всей партийной организации24. При этом Попов заручился поддержкой ЦК РКП (б), который направил для восстановления партийной работы А. Стругацкого, Ориона Алексакиса и Якова Урановского, отличавшихся молодостью, жизненной неопытностью и радикализмом. Опытный Михаил Попов весьма искусно использовал их для укрепления своих позиций в Вятской парторганизации. По словам местного большевика Николая Мышкина, Михаил Попов их проинформировал таким образом, чтобы скомпрометировать и губбюро, и горком Вятки, фактически оттеснив их от руководства партийными организациями города и губернии25. «Поповцы» были «опьянены властью» и после приезда представителей ЦК партии «заплясали». И «первым, разумеется, заплясал М.М. Попов»26. В партийной организации Вятки фактически произошёл раскол. О расколе пишет и В.М. Сюткин 27.
Летом 1918 г. в Вятку прибыл представитель ЦК РКП (б) Яков Ровинский, и стал, как тогда говорили, «сколачивать» партийный аппарат. Михаилу Попову и его сторонникам «чужак» явно не понравился. В письме в ЦК партии Ровинский сообщал: «До последнего времени на Вятке почти никакой партийной работы не велось... С прибытием активных партийных работников, посланных из проле- тарских городов и центра, положение начало меняться. Начали организовывать партийный аппарат и проводить пролетарскую диктатуру». Ему с большим трудом удалось «почти наполовину поставить правильно функционирующий партийный аппарат». Несмотря на это, «впереди работа предстоит еще большая». Докладывая в ЦК, Я. Ровинский просил прислать 5–6 самостоятельных и ответственных партийных работников и несколько рядовых. Он особо подчеркивал: «Для того чтобы не выпускать из рук тутошних коммунистов, надо иметь палку при себе, надо обладать здесь большими полномочия-ми...»28. 27 октября в «Правде» появилась статья Якова Ровинского, в которой он подверг резкой критике вятских большевиков, назвав их «болотом» и «партийными обывателями»29.
Оформление общепартийного губернского центра произошло на II губернской партконференции 30 июля – 3 августа 1918 г. Конференция проходила в тревожной атмосфере – по всей губернии ширилось недовольство властью, прежде всего, проводимой ею продовольственной политикой. Анализ представительства на конференции показывает, что уездных партийных организаций не существовало. Вместо них действовали более или менее самостоятельные городские, заводские и волостные ячейки. Численность последних не превышала 20 человек. Заводские и городские организации насчитывали до 100–270 человек30. Делегаты конференции поддержали выработанные «поповцами» правила приема новых членов в партию. В первый состав губкома вошли: Михаил Попов, «глазовцы» Иван Попов и Сергей Шубин, представитель Уржума Николай Елкин и некоторые другие31. Не были представлены организации Ижевска, Воткинска, а также Сарапула и Елабуги.
-
8 августа вспыхнули антибольшевистские восстания в Ижевске, Воткинске, Малмыже и других районах, многие члены комитета разъехались по своим организациям. Для Михаила Попова представилась возможность на вполне законных основаниях кооптировать в новый состав губкома своих людей и тем самым закрепить контроль над ним. 11 августа 1918 г. по инициативе Михаила Попова происходит слияние Вятского горкома и губкома, а последний пополняется «поповцами» Казимиром Петкевичем, Белых, Ароном Рахлиным32 и казначеем Першиным. А.И. Рахлин осенью 1918 г. руководил губернским ревтрибуналом, а его предшественником был Михаил Попов. 13 августа, «ввиду выбытия И. Попова и Белых», к ним были «добавлены» Коровкин и Ф. Шилкин. Как выяснил А.В. Мамаев, Казимир Петкевич, 25-летний уроженец Белоруссии, будучи заведующим экономического отдела Вятского городского Совета, пытался реализовать очень радикальную, и, как показала практика, провальную попытку реформировать городское хозяйство Вятки. Пытаясь
запретить частную торговлю, он вызвал недовольство населения, что на фоне антибольшевистских восстаний в губернии было чревато ка-тастрофой33.
В ЦК партии достаточно оперативно отреагировали на события, отправив в Вятку члена ВСНХ Плотникова и члена ЦК РКП (б) Григория Сокольникова.13 сентября 1918 г. состоялось заседание губкома РКП (б), на котором кроме Михаила Попова, Ивана Попова и Николая Елкина из первого состава никого не было. Прибывшие из Москвы товарищи поставили вопрос о перевыборах губкома. По словам Сокольникова, внутрипартийная работа проводилась очень слабо, в организации много «присосавшихся», слаба дисциплина, среди железнодорожных рабочих нет партийных организаций. Его поддержал представитель Елабуги, комиссар снабжения Красной армии Иван Акулов, указав на «полное отсутствие работы среди ижевских и воткинских рабочих». Губком, не организовав секретариат, не наладив «связь с местными партийными организациями» и не имея представления об их деятельности, не обеспечил строгого учёта, организации и руководства партийными силами34. В итоге – мощное антибольшевистское восстание в Ижевске и Воткинске, обострившее ситуацию на Восточном фронте.
Во время перевыборов возникла полемика о социальном составе кандидатов, отразившая расстановку сил в губкоме. Орион Алексакис ратовал за пролетарский состав, но его предложение не было поддержано. Сказалось нежелание «поповцев» допустить в губком представителей Ижевска и Воткинска. Большинство приняло компромиссное решение: 6 чел. избирать «по районам» (местным парторганизациям?), 5 – от «общего собрания партии (вероятно, губернской партийной конференции)». Когда вопрос был практически решен, Сокольников высказался за то, чтобы отложить перевыборы. Неожиданно для многих, Михаил Попов, пытаясь изменить ситуацию, заявил об отставке. В итоге по предложению Сокольникова, перевыборы губ-кома решили отложить, а отставку Попова не принимать. Впрочем, к перевыборам вернулись только в октябре. На заседании губкома, состоявшемся между 15 октября и 1 ноября, председателем президиума единогласно избирается Иван Акулов, формально представлявший южные уезды, но фактически – ЦК партии. Когда стали рассматривать кандидатуры в члены президиума, выяснилось, что многие «завалены работой». В ответ Акулов заявил, что «с мёртвыми душами работать не будет». Начались прения, завершившиеся достижением компромисса. В состав президиума губкома вошли как приезжие, так и «поповцы»: Иван Акулов, Михаил Попов, будущий видный троцкист Виктор Эльцин, Матвеев. Членами губкома стали Жилин, С. Шубин, Иван Попов, Плотников, Ф. Шилкин, Василий Лалетин35.
На III губернской конференции РКП (б) (13–18 декабря 1918 г.) в губкоме партии сложился баланс между приезжими и «поповцами»: С.А. Новосёлов (председатель), Л.Н. Сталь, П.П. Капустин, М.М. Попов. В структуре комитета предполагалось создать отделы, но какой-либо конкретной информации об их организации и функционировании, кроме женотдела, в конце 1918 г. нам найти не удалось. Большую роль в создании партийной женской организации сыграла Людмила Сталь (Лея Заславская), командированная ЦК партии в сентябре 1918 г. в Вятку. В течение осени 1918–осени 1920 г. она становится членом губкома партии, руководителем губернского бюро работниц и губернским женотделом, входит в редакцию местных газет «Известия Вятского губисполкома», «Деревенский коммунист», «Вятская правда». Одним из самых её известных произведений стала брошюра «Когда освободится женщина», изданная в Вятке в 1920 г.
Процесс оформления уездных парторганизаций затянулся на целый год, что объясняется слабостью аппарата губкома. Формально губкому подчинялись 12 уездных, 1 окружной и 2 городских комитетов.
Таким образом, процесс консолидации партийных сил в единую организацию завершился в конце 1918 г. Главную роль в объединении сыграли партийные организаторы, присланные ЦК партии. Влияние «поповцев» с августа 1918 г. значительно снизилось.
Военные действия на территории края в конце 1918 – первой половине 1919 гг. оказали большое влияние на деятельность губкома. В январе 1919 г. вся полнота власти в губернии перешла в руки военно-революционного комитета, и, по словам Петра Капустина, «вся работа губкома в агитационной ее части проходила под углом зрения решения военных задач». Деятельность губкома свелась к посылке на места ответственных работников, что дало «вполне благоприятные результаты». Работа советских и партийных органов так переплелась, что «нужно было постоянно вносить ясность»36.
В Вятку эвакуировалось много уральских и пермских коммунистов, что позволило несколько смягчить дефицит партийных кадров. Осенью 1918 г. губком неоднократно извещал губернские и уездные партийные комитеты о прибывших коммунистах: «…в настоящее время имеются партийные работники,… которые могут занять любые должности в партийных, так и в советских органах»37. В это время в партийных комитетах наблюдалось «засилье» уральцев. Павел Шиханов на пленуме Вятского губкома 1 сентября 1919 г. сокрушался: «... весь состав губкома вплоть до журналиста состоял из уральцев»38.
На IV губернской партконференции (1–4 марта 1919 г.) в состав губкома вошли С.А. Новоселов (председатель), «уралец» В.Ф. Сивков, И.В. Попов, Л.Н. Сталь, П.П. Капустин, М.Н. Коковихин и 28
некоторые другие. В губкоме также были представлены все крупные уездные и заводские партийные организации39. На конференции в структуре губкома впервые создается бюро в составе председателя, товарища председателя, секретаря и двух членов бюро40.
Требовалось перестроить партийную работу в соответствии с принятой VIII съездом (март 1919 г.) новой программой партии. Перед партийцами была поставлена задача – «создать в каждом месте свои партийные организации и ячейки. Во все уездные города надлежало послать подотчетных губкому работников, создать кадр опытных разъездных инструкторов, открыть партийную школу». Несмотря на принятые решения, институт разъездных инструкторов в 1919 г. так и не был создан. Секретариат губкома, образованный в марте 1919 г.41, и организационный отдел все еще находились в стадии становления. Весной 1919 г. Секретариат ЦК партии предложил всем губернским и уездным парторганизациям «обеспечить присылку сведений о партийной работе...»42. С этой целью в мае 1919 г. губком предложил уездным комитетам создать информационные бюро, которые должны были «следить за правильным поступлением всех материалов, касающихся партийной жизни», а так же вести список исключённых из партии, разрабатывать ежемесячные отчеты и исполнять задания губ-кома. На заседании губкома 6 марта 1919 г. решено выработать анкету для учёта всех партийных работников, состоящих на советской работе в губернии. Вероятно, работа этим и ограничилась, так как осенью 1919 г. ЦК РКП (б) был вынужден констатировать «почти полное отсутствие материалов о деятельности партийных организаций по Вятской губернии, полную не налаженность информационного аппарата губкома и местных организаций...»43.
На V губернской партконференции (3–5 июля 1919 г.) в состав губкома были избраны: «уралец» П.И. Шиханов (председатель), И.В. Попов, Сталь, А.С. Целищев, И.Г. Волков. «Новички» в губкоме проявят себя по-разному. Павел Шиханов, имевший к этому времени большой опыт партийной и советской работы44, останется в составе губко-ма до конца 1920 г. И. Волков хорошо проявит себя в роли секретаря губкома и останется его членом до конца января 1920 г. Александр Целищев, как выяснится позднее, «особого интереса к партийной работе не покажет» 45, но в следующий состав губкома всё-таки войдет. На конференции было принято решение о создании в губкоме отдела политического воспитания, национального бюро, а так же редакционной коллегии и ревизионной комиссии. В апреле 1919 г. впервые состоялся пленум губкома для обсуждения вопросов, связанных с выполнением постановлений VIII съезда РКП (б)46.
Летом 1919 г. по словам Павла Шиханова, «после удаления фронта возник большой недостаток партийных сил, так как «ураль- цы» выбыли из Вятки»47. Губернский комитет «не мог вести широкой партийной работы за неимением в своем распоряжении достаточного количества сил и средств, из-за падения повсеместно дисциплины, пьянства среди ответственных партийных работников»48. В связи с наступлением Деникина, в Вятку осенью 1919 г. прибыла группа партработников, в том числе Израиль Вейцер, Тарас Харечко, Ефим Майзлин и другие. Их сразу отправили на ответственные участки работы. Так, 2 ноября 1919 г. бюро губкома, заслушав отношение ЦК партии о только что прибывшем с Украины Тарасе Харечко, приняло решение назначить его заведующим отделом по работе в деревне.
VI губернская партконференция (23–25 ноября 1919 г.) проходила в условиях завершения военных действий на территории губернии. Но вся повестка дня конференции свидетельствовала, что вопросы фронта, помощи семьям красноармейцев продолжали находиться в центре внимания. Новый состав губкома изменился незначительно. Его деятельность была направлена на приведение структуры и штатов губернской организации в соответствие с уставными требованиями, определенными на VIII Всероссийской конференции РКП (б) (2–4 декабря 1919 г.). В Уставе партии отмечалось, что губком «организует различные учреждения партии в пределах губернии, руководит их деятельностью, распределяет в пределах губернии силы и средства, направляет работу советских, профсоюзных, кооперативных объединений через свои фракции…»49.
В конце 1919 и первой половине 1920 г. в составе парткомов губернии создаются отделы по работе в деревне и среди женщин, а также военный, агитпроп, информационно-учетно-статистический.
На VII губернской конференции (18–20 марта 1920 г.) происходит значительное обновление состава губкома. В него вошли: И.Я. Вейцер (председатель), Д.Е. Брусин, Капустин, Шиханов, М.Н. Коковихин. Кандидатами в члены губкома стали С.П. Барышников и И.Я. Шубин. Радикальное изменение состава партийного органа дало основание В.И. Бакулину предположить, что «очевидно, между Вейцером и Шихановым … существовало негласное соперничество»50. И в качестве доказательства приводится решение фракции губисполкома вначале отказать Вейцеру в рекомендации возглавить губисполком, а затем просить его об этом. В итоге к Вейцеру перешло руководство и губисполкомом, и губкомом. Губком поддержал как первое предложение фракции губисполкома, так и второе. Думается, что аргумент очень слабый. Шиханов неоднократно просил отпустить его на Урал, но каждый раз его просьба отклонялась. Вейцер же имел значительный опыт работы в советских хозяйственных учреждениях, что в условиях перехода к мирному строительству имело первостепенное значение. Наличие же соперничества между ними вполне возможно, как, впрочем, и между другими членами губкома.
На наш взгляд, главная причина обновления состояла в том, что накопилось множество нерешенных проблем51. Приходилось набирать технических служащих «из случайных и неопытных элементов». Члены губкома, назначенные на первом же заседании ответственными руководителями отделов из-за перегруженности советской работой не могли «серьезно выполнять свои обязанности и отделы оставались без руководителей». Всю организационную и руководящую работу в отделах приходилось брать на себя президиуму, но это «не могло дать особенных результатов».
В мае 1920 г. представитель ЦК партии Матвей Муранов провел обследование работы губкома, о результатах которого сообщил на заседании 17 мая. В докладе отмечалось «ряд дефектов: бессистемность работы канцелярии, отсутствие правильного проведения фактического контроля деятельности советских учреждений и т.д.». Для налаживания правильной работы уездных комитетов он предложил создать кадр разъездных инструкторов. Выступившие затем члены губкома Вейцер и Брусин отметили «отсутствие не только активных, но и технических (!) работников в губкоме». Члены губкома решили обратиться в ЦК партии с просьбой прислать двух партработников и освободить Михаила Коковихина от всех обязанностей для ведения чисто партийной работы52. 5 июня 1920 г. губком поручил «т. Сталь, едущей в Москву, ходатайствовать перед ЦК партии об освобождения Вятской губернии от дальнейших мобилизаций ввиду абсолютного отсутствия работников...»53.
По словам ответственного секретаря Израиля Вейцера, ко времени сентябрьского (1920 г.) пленума весьма актуальной стояла задача «перейти от бессистемного ведения партийной работы к работе систематической, плановой, продуманной...»54. Яркой иллюстрацией отсутствия системности в работе губкома служит следующий факт. До приезда Харечко отдел по работе в деревне фактически не функционировал. Харечко развернул активную деятельность: формируется аппарат отдела, организуется работа в уездах, проводятся совещания. После того, как Харечко перевели из Вятки (январь 1920 г.) на другую работу, деятельность отдела по работе в деревне замерла.
Ценой огромных усилий губкому в 1920 г. удалось создать «кой-какой технический аппарат», с которым можно было работать. Были образованы отделы, из которых информационно-организационный, общий и отдел по работе в деревне «работали довольно удовлетворительно, агитпроп – менее удовлетворительно, женотдел – слабо». В конце года в губернском партийном аппарате чувствовалась острая нужда в «значительных силах технических и ответственных работников».
На VIII губернской партконференции (13–14 декабря 1920 г.) изменился способ формирования губкома: 7 человек избирались делегатами непосредственно на конференции, а 13 – уездными и районными партийными организациями. В состав губкома на конференции были избраны: Вейцер, П.Ф. Костерин, И.В. Попов, А.Н. Злобин, Барышников и ряд других. Его новыми членами стали Павел Костерин, руководивший ранее Яранским укомом, и А.Н. Зыков. В структуре губкома произошли некоторые изменения, и он стал включать отделы: общий, организационно-информационно-инструкторский, агитпроп с секциями по работе среди женщин, по работе в деревне, по работе с национальными меньшинствами, издательский, по работе среди молодёжи, военный, воскресников, а так же контрольную комиссию. Деятельностью комитета руководил секретариат во главе с ответственным секретарём55. Должность председателя упразднялась. Все руководство деятельностью губкома, бюро и пленума переходило к ответственному секретарю, который обеспечивал согласованную работу всех отделов губкома.
* * *
В течение 1918–1920 гг. губком постепенно стал превращаться в руководящий политический орган в губернии, выполняющий решения ЦК партии. Возросла интенсивность работы губернского комитета. Если в 1918 г. состоялось 32 заседания губкома, то в 1919 г. – 55, в 1920 – 143. В течение этого времени губком возглавляли преимущественно назначенцы ЦК партии, что отражало технологии руководства провинциями ЦК РКП (б), описанные В.Н. Гузаровым56.
Одним из важных направлений деятельности губкома являлось руководство местными партийными комитетами. Во второй половине 1918 г. стояла задача установления элементарной связи между губернским центром и местными организациями. О том, как оценивалась такая связь, свидетельствует доклад делегата Слободской организации РКП (б) Муравкина, побывавшего на III губернской партконференции: губком «не имел почти никакой связи с уездами, его работа была малопродуктивна, так как он всё время был занят разрешением конфликтов, возникших между членами партии. К тому же члены партии были заняты советской работой». Между губкомом и губис-полкомом «идёт грызня, достигшая высшей степени напряжения в последнее время…»57. В марте и августе 1918 г. между губкомом (в марте – парткомом Вятки) и губисполкомом едва не вспыхнули вооруженные столкновения. И только вмешательство уральских больше- виков позволило избежать кровопролития. В 1920 г. еще не сложилась система плановой проверки работы местных парторганизаций, а члены губкома совершали поездки по уездам в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
Значительное место в деятельности губкома занимали вопросы взаимоотношения между различными звеньями партийного и советского аппарата. Частыми стали конфликты, вызванные тем, что полномочия как советских, так и партийных органов не были точно определены. Так, 24 января 1919 г. на заседании губкома рассматривался конфликт в Котельничской организации РКП (б)58. 30 октября 1920 г. была заслушана информация о конфликте в Зуевской волостной организации РКП (б)59. 8 и 18 декабря 1920 г. – о конфликте в Сарапульской уездной парторганизации60. 18 декабря – о конфликте между заводоуправлением Ижевска и райкомом партии61. Обычно технология разрешения конфликтов сводилась к отправке комиссии для выяснения причин, обсуждения материалов комиссии на заседании бюро, губкоме или пленуме с вызовом виновных «на ковёр» и принятия решения. Наиболее эффективным способом преодоления конфликтов являлась замена его наиболее активных участников.
Что касается круга вопросов, связанных с руководством Советами и другими органами, то на первом месте стояли кадровые назначения, определение структуры, принципов формирования губисполко-ма и заслушивание докладов его отделов.
В 1918–1920 гг. подбор и расстановка кадров становятся приоритетными направлениями деятельности губкома. В то же время, кадровый «голод», отсутствие налаженной системы учета партийцев затрудняли принятие квалифицированных решений. Так, бюро губ-кома 14 сентября 1919 г. назначило руководителем отдела по работе в деревне Михаила Коковихина. Он хотя и родился в крестьянской семье на Вятке, но вырос на Урале, работал на золотых приисках, заводах и давно утерял связь с крестьянской средой. Спустя некоторое время его перебрасывают на другую работу. 22 марта 1920 г. губком партии назначил его руководителем губернского женотдела. Чем руководствовался губком, осталось не выясненным. Очевидно, что опыта работы в организациях женщин он не имел. 2 ноября 1919 г. бюро губкома, заслушав отношение ЦК партии о только что прибывшем с Украины Тарасе Харечко, приняло решение назначить его заведующим отделом по работе в деревне. Странное решение, ведь Харечко абсолютно не знаком со спецификой региона, а губком не дал ему времени для ознакомления.
Одна из самых острых проблем в деятельности губкома – кадровый «голод». Общую ситуацию в управленческой сфере Вятской губернии в период с конца 1917 до конца 1920 г. достаточно подробно проанализировали А.С. Коробец и В.И. Бакулин. Согласно А.С. Коро-бец, «в ноябре 1917 – декабре 1918 г. дефицит кадров в управленческой сфере носил характер, близкий к катастрофе». С конца 1919 до конца 1920 г. «произошла относительная стабилизация положения в области кадров. Но и на этом этапе исследуемая проблема в губернии не потеряла своей актуальности»62. С данным выводом можно согласиться в целом, когда речь идет о советских учреждениях. Что касается кадрового обеспечения партийных органов, то ни А.С. Коробец, ни В.И. Бакулин их не проанализировали. Нам представляется, что применительно к партийным органам следует говорить не столько о кадровом «голоде», сколько о совмещении партийными работниками должностей в советских учреждениях. Зимой 1920–1921 г. в губкоме сложилась катастрофическая ситуация: «фактически партийная работа лежала на одном ответственном секретаре, который совмещал в своем лице работу всех отделов губкома...»63. Между тем, Уставом партии 1919 г. предусматривалось создание президиума губернского комитета из 5 чел., призванного руководить «текущей работой»64.
Губком пытался решить каровый вопрос несколькими способами. Нередко приходилось «переставлять фигуры, то есть одного ставить на место другого»65. «Переброски» партийцев несколько оживляли партийную работу, препятствовали созданию группировок на местах. В то же время они вызывали напряженность в местных партийных организациях, так как перебрасываемые партийцы нередко были больными людьми, обремененные семьями и хозяйством. В годы гражданской войны ЦК партии позволил губкому использовать часть мобилизованных коммунистов для замещения вакантных советских и партийных должностей, что «окончательно подорвало работу в уездах»66. В начале 1920 г. Тарас Харечко предлагал «хотя бы временно, до подготовки новых сил, снять опытных партийных работников с советской работы» и направить их на партийную67. Он заявил об этом на пленуме губкома в январе 1920 г., и его предложение было поддержано68. Однако о принятых мерах нам ничего не известно. Постепенно пришло понимание того, что нужно самим «ковать» кадры, создавая соответствующие образовательные учреждения. 24 августа 1919 г. на заседании бюро губкома было принято решение открыть в Вятке партийную школу. Укомам предлагалось «откомандировать в школу по 3 человека»69.
Проблема формирования губернского комитета обусловлена не только дефицитом партийных кадров, но и отсутствием понимания необходимости в создании мощного партийного аппарата. В тот период партработники широко использовали советские органы для агитационной и организационной работы – агитпросветы при военных комиссариатах, культпросветы при исполкомах Советов и т.д. Так, созданные осенью 1919 г. в губкоме и местных комитетах отделы по работе в деревне в своей деятельности использовали аппарат исполкомов Советов70.
Проследить процесс складывания аппарата губкома довольно сложно, что обусловлено как динамикой политических процессов, проходивших в стране, так и кадровой проблемой. В 1919–1920 гг. Вятский губком ни разу не обсуждал положение о штате сотрудников, и у нас сложилось впечатление, что его и не было. Штат формировался стихийно, исходя из потребностей председателя комитета и руководителей отделов.
Нам удалось определить штат ответственных сотрудников губкома, работавших в 1919 г. Если судить по ведомостям выдачи заработной платы в конце 1918 и в 1919 гг., то в штате губкома состояли: председатель губкома (декабрь 1918 г., январь 1919 г.), секретарь (в течение всего года), заведующий агитотделом (февраль – первая половина июля, середина августа – середина октября 1919 г.), инструктор агитационно-информационного отдела (с 9 по 15 октября), заведующий отделом информации (первая половина ноября – конец декабря 1919 г.), заведующий отделом по работе в деревне (первая половина ноября – конец декабря 1919 г. Иначе говоря, в губкоме на постоянной основе в течение всего 1919 г. работал лишь один секретарь71. Штат служащих канцелярии губкома состоял из делопроизводителя и его помощника, регистратора, двух машинисток, библиотекаря и двух рассыль-ных72.
В 1920 г. аппарат возглавлял секретарь, бывший одновременно членом президиума губкома. Всего аппарат губкома насчитывал 28 работников, из них 15 ответственных и 13 технических73. Все отделы возглавлялись заведующими, но руководители отделов часто совмещали должности, либо на тот момент отсутство-вали74. В течение 1920 г. штатное расписание менялось незначительно, а должности были замещены не всегда. Зимой 1920–1921 гг., как мы уже отметили выше, в губкоме на постоянной основе работал только один ответственный секретарь.
Источниками финансирования деятельности РКП (б) «выступали государственное финансирование, членскими взносами было невозможно покрыть все расходы партии»75. По официальным данным государственное финансирование правящей партии на 1 марта 1920 г. составляло более 85 % поступлений в партийную кассу76. Губком выступал в роли распределителя средств. Так, на заседаниях губкома 2 апреля и 17 сентября 1920 г. обсуждалось распределение соответственно 4 и 10 млн. млн. руб. между уездными и районными организациями77.
-
1 июня 1920 г. ВЦИК РСФСР постановил ввести тарифные ставки для политработников, которые в том же году были распространены и на партийных работников. Согласно циркуляру ЦК ответственные партийные работники были разделены на 5 разрядов, на основании которых и начислялась заработная плата78.
Итак, проведенный анализ процесса возникновения и развития губернского партийного центра в Вятской губернии в 1917–1920 гг. позволяет сделать несколько выводов. Несмотря на то, что с октября 1917 г. РКП (б) стала правящей партией, ее правовое положение не было определено: в Конституции 1918 г. о партии ничего не говорилось. Развитие партийной организации в целом происходило в соответствие с Уставом партии. Единый для губернии партийный орган сложился довольно поздно – осенью 1918 г., что обусловлено как непролетарским составом населения губернии и слабостью местных партийных организаций, так и состоянием транспортной инфраструктуры и системы коммуникаций. Серьезным препятствием на пути образование губкома стала деятельность группировки «поповцев», члены которой тяготились партийной работой.
Процесс становления губкома был ускорен событиями гражданской войны, когда Вятская губерния приобрела стратегическое значение. Приезд представителей ЦК партии, а так же большой группы уральских большевиков привел к тому, что «поповцы» были постепенно оттеснены от руководства. Завершение военных действий и отъезд большого числа партийных функционеров замедлили процесс партийного строительства, и к началу 1920 г. в аппарате губкома вновь катастрофически не хватало как ответственных, так и технических сотрудников. Отделы порой существовали формально, ответственные партработники занимали различные советские должности. При общем кризисе сельских и волостных крестьянских ячеек во второй половине 1919–1920 гг. «ковать» местные партийные кадры оказалось весьма проблематично.
Приведение структуры партийных организаций к уставным требованиям происходило медленно и до конца 1920 г. так окончательно и не произошло. Объясняется это не только тем, что в партии в годы гражданской войны не было особого желания следовать нормам Устава, но и катастрофической нехваткой партийных кадров. Поэтому те или иные решения часто оставались на бумаге, так как заместить создаваемые должности было некому.