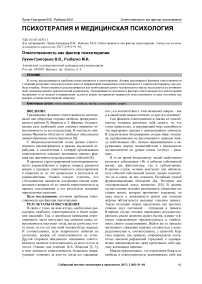Ответственность как фактор психотерапии
Автор: Лукин-Григорьев Виктор Владимирович, Рыбалко Михаил Иванович
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Психотерапия и медицинская психология
Статья в выпуске: 2 (95), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема ответственности в психотерапии. Авторы анализируют феномен ответственности с позиций различных психологических школ и направлений; взаимосвязь ответственности с такими категориями, как свобода и выбор. Ответственность рассматривается как необходимый аспект человеческого опыта; исследуются ее когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Подчеркивается значимость фактора ответственности в психотерапии независимо от ее модели и направления; делается акцент на принятии пациентом ответственности за свое состояние как важном условии психотерапии неврозов.
Ответственность, свобода, выбор, психотерапевт, невроз
Короткий адрес: https://sciup.org/14295998
IDR: 14295998 | УДК: 615.851:070.11
Текст научной статьи Ответственность как фактор психотерапии
Традиционно феномен ответственности исследовался как оборотная сторона свободы преимущественно в работах В. Франкла и Э. Фромма. Осуществление акта свободной воли означает принятие ответственности за его последствия. В частности описанное Фроммом «бегство от свободы» обусловлено именно бременем ответственности [8].
С общепсихологической точки зрения ответственность рассматривается в рамках каузальной атрибуции, в соответствии с которой приписывание ответственности означает понимание некоего фактора как причинности происходящих событий [6].
В процессе структурирования психотерапевтического взаимодействия в первую очередь решается вопрос о границах ответственности психотерапевта и пациента за то, что происходит в результате их взаимодействия. Однако следует отметить, что у большинства пациентов постановка вполне справедливого вопроса об их личной ответственности за процесс психотерапии и его результаты вызывает определенное смятение.
Цель исследования: изучение проблемы ответственности как фактора психотерапии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо рассмотреть проблему ответственности в более широком масштабе. Так, в житейском понимании ответственность часто выступает как синоним вины; ответственность наступает тогда, когда случилось что-то такое, за что тот или иной человек будет наказан. И соответственно, если неприятного события не случилось, вопрос об ответственности не стоит. Другой стороной обыденного понимания ответственности является ответственность за кого-то или за что-то. Однако, как отмечает Д.А. Леонтьев [2, 3], в этом контексте ответственность буквально подразумевает «отвечать за кого-то, когда его спрашива- ют»; и в соответствии с этим возникает вопрос – как и в какой мере можно отвечать за другого человека?
Сам феномен ответственности связан со способностью человека различать себя самого, то, что с ним происходит, и окружающий мир; способность эта неразрывно связана с самосознанием личности. В классическом бихевиоризме создан образ человека, принципиально не различающего границы между собственным «Я», своими переживаниями и окружающим миром; взаимодействие с реальностью осуществляется на уровне схемы «стимул – реакция».
В то же время большинству людей свойственно различать собственное «Я» и события собственной жизни, как фактуальные, так и субъективные. В данном случае человек выступает как наблюдатель событий собственной жизни; однако полагает, что не в силах на них повлиять Подобный способ функционирования обозначен Дж. Роттером как «экстернальный локус контроля» [10]. В данном случае человек осознает возможность изменения тех сторон жизни, которые причиняют страдание, но сама мысль о возможности жизни вне позиции жертвы обстоятельств вызывает сильную тревогу. Такую ситуацию можно представить как противостояние двух состояний – страдания и тревоги. В первом случае человек переживает неудовлетворенность рядом аспектов своего бытия, однако чувствует определенную предсказуемость и стабильность своего существования. Выйти же за приделы жизненного страдания означает столкнуться с неопределенностью и, соответственно, с тревогой. Картина невроза, как правило, сопровождается достаточно высокой рефлексией страданий и одновременно невозможностью даже представить себе картину возможных перемен.
Можно предположить, что стремление бежать от свободы и ответственности, воспринимать себя как жертву обстоятельств является достаточно привлекательным для большинства людей. Такой подход к жизни дает возможность бесконечного самооправдания и, как следствие, спасения от экзистенциальной тревоги.
Если говорить о целях психотерапии, то они могут быть представлены континуумом, на одном полюсе которого находится личность, умеющая эффективно использовать защитные стратегии типа «если не можешь решить проблему, то измени к ней отношение», тем самым избегая свободы и ответственности; благо, когнитивный аппарат современного человека способен найти удовлетворяющее объяснение чему угодно. На другом полюсе находится личность, в полной мере являющаяся автором собственной жизни. С известной долей уверенности можно сказать, что большинство современных психотерапевтических технологий тяготеют к первому полюсу. Это подтверждается наблюдением, согласно которому пациенты, достигшие более или менее значимого улучшения своего душевного состояния, приписывают эффект либо харизме психотерапевта, либо используемому методу, либо и тому, и другому.
Если говорить об ответственности как психотерапевтическом факторе, то «Я» пациента не только рефлексивно отделяется от собственных переживаний (согласно терминологии Н. Мак-Вильямс – «эго-дистонных переживаний» [4] или в «осознании» в гештальттерапии [12]), но и возникает возможность совершать поступки, меняющие жизнь пациента.
Следует отметить, что рефлексия своих переживаний сама по себе не является динамическим актом, приводящим к изменениям, но выступает как необходимое условие для того, чтобы они произошли. Переход к собственно динамическому акту, а именно поступку, безусловно, опирается на рефлексию происходящего, но осуществляется за пределами причинно-следственных объяснений того, почему я делаю (или не делаю) те или иные вещи. Известная притча о Буридановом осле говорит о том, что объяснить, почему ослу нужно выбрать именно этот стог сена, а не другой (хотя оба они одинаково доступны и не различаются по качеству), в принципе невозможно; однако выбрать следует, дабы не умереть с голоду.
Таким образом возникает ситуация личного вмешательства в события, происходящие в жизни человека; совершаемое вмешательство может быть определено как выбор. Иными словами, человек сам включается в свою жизнь как причинный фактор. Однако, согласно точке зрения Р. Мэя, выбору предшествует особая ситуация, которую он определил как природу свободы, сущность которой состоит в паузе между стимулом и реакцией; между сиюминутным внешним побуждением и последующим действием [1, 5]. Именно в этом интервале и возникают различные возможности и альтернативные решения.
Во многих направлениях современной психотерапии свобода и ответственность выступают как неразрывно связанные между собой части. В частности Э. Фромм отмечал, что свобода возможна только в контексте ответственности [8]. Но в то же время свобода и ответственность могут формировать различные констелляции. Так, И. Ялом отмечает, что ни один человек не может быть тотально ответственным за события собственной жизни – в каких-то ее областях он готов признавать свое авторство и иметь дело с последствиями, а в каких-то – в полной мере перекладывать ответственность на других людей или обстоятельства [11]. Кроме того, очевидно, существует импульсивная квазисвобода вне принятия ответственности, во многом свойственная подросткам, а также взрослым с недостаточным уровнем личной зрелости. В структуре детско-родительских, а также зависимых отношений часто присутствует симбиотическая ответственность за жизнь близкого человека при полном отсутствии свободы и ответственности за свою собственную жизнь.
Закономерно возникает вопрос – а является ли конформизм способом полного отказа и от свободы, и от ответственности? Если человек ведет себя несвободно, но при этом осознает, что это поведение является результатом его собственного выбора и не списывает свое поведение на внешние обстоятельства – очевидно, что речь идет о свободном выборе и принятии на себя его авторства [7].
Таким образом, прослеживается неразрывная психологическая связь между готовностью быть причиной поступков и готовностью за них отвечать.
Если рассматривать невроз как личностно-обусловленное пограничное расстройство, то для него характерна утрата способности различения ситуаций и контекстов, где возможен выбор, и принятие и тех, где это в принципе невозможно. Оставляя без внимания сферу своего потенциального контроля, пациент начинает заниматься вещами, с которыми в принципе не может справиться самостоятельно. Из описываемых в экзистенциальной литературе «невозможностей» человека в частности выделяются например, такие как жить вечно, быть любимым, жить в предсказуемом и понятном мире и иметь безграничную потенциальность, которую можно осуществить в любой момент [9, 11]. К этому списку с уверенностью можно добавить и принципиальную невозможность изменить в соответствии со своими желаниями другого человека. Как правило, большинство пациентов психотерапевтов буквально одержимы стремлениями быть любимыми, держать всё под контролем, а особенно желанием изменять других людей в соответствии с представлениями о собственных идеальных образах, не принимая факта их абсолютной невозможности. При этом они совершенно упускают из виду реальные жизненные обстоятельства и отношения, жертвами которых они представляются, но которые на самом деле и выступают как область их свободы и ответственности.
Каким же образом можно понять феномен ответственности в контексте опыта человека? Если использовать для этой цели ставшую традиционной для психологии трехкомпонентную схему разделения опыта на когнитивный, эмоциональный и поведенческий (действенный) компоненты, то ответственность в них может занять вполне определенное место.
Со стороны когнитивного компонента ответственность представляется как субъективная причинность; иными словами, человек осознает себя как причину происходящих с ним состояний и событий.
Эмоциональная сторона ответственности может быть выражена в определенной устойчивости к переживанию ситуаций неопределенности, а именно – к состоянию тревоги, которую порождают эти ситуации.
Поведенческий компонент ответственности фактически представлен осуществлением (или неосуществлением) тех или иных поступков на основе сделанного выбора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Очевидно, что эти три компонента (когнитивный, эмоциональный, поведенческий) не существуют сами по себе, изолированно, а представляют собой некую целостность. Но, как известно, различные направления психотерапии ориентированы, как правило, на один, а максимально на два из этих компонентов опыта. Но ни одно направление не создало технологии, благодаря которой можно было бы повлиять на поступок, который изменяет действительность пациента. Представители поведенческой психотерапии могли бы возразить – модификация поведения, как правило, приводит к значимым положительным изменениям в жизни пациента. Безусловно, приводит, однако не распространяется на поступки, имеющее важное жизненное значение. Скорее, любая психотерапия призвана лишь подготовить пациента к тому, чтобы он совершил три вещи – принял на себя ответственность за происходящее, осущест- вил выбор (и на его основе либо совершил поступок, либо принял происходящее таким, какое оно есть) и, наконец, был бы готов принять ответственность за последствия своего выбора.
Список литературы Ответственность как фактор психотерапии
- Комлев А.А. Жизненный выбор человека: виды и факторы влияния в аспекте возможностей. Мир психологии. 2004; 4: 41-51.
- Леонтьев Д.А. Феномен ответственности: между недержанием и гиперконтролем. Экзистенциальное измерение в консультировании и психотерапии. Т. 2. Бирштонас, Вильнюс: ВЕАЭТ, 2005: 5-23.
- Леонтьев Д.А. Дискурс свободы и ответственности (доклад с обсуждением). Вестник Московского ун-та. Серия 7. Философия. 2006; 5: 56-72.
- Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе/Пер. с англ. М.: Независимая фирма «Класс», 2001: 326.
- Мещеряков В.А. Выбор как научная категория. Вестник Оренбургского государственного университета. 2012; 3 (128): 142-148.
- Муздыбаев К. Психология ответственности. Л.: Наука, 1983: 240.
- Мэй Р. Искусство психологического консультирования/Пер. с англ. Т.К. Кругловой. М.: Независимая фирма «Класс», 1998: 278.
- Фромм Э. Бегство от свободы. М.: АСТ, 2012: 286.
- Хайдеггер М. Бытие и время/Пер. с нем. и предисл. Г. Тевзадзе. Тбилиси, 1989: 261.
- Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (Основные положения, исследования и применение). СПб.: Питер Пресс, 1997: 608.
- Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Класс, 2015: 576.
- Энрайт Дж. Гештальт, ведущий к просветлению/Пер. с англ. М. Папуша. М.: Апрель Пресс; ЭКСМО, 2002: 293.