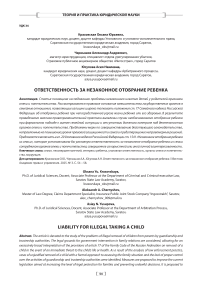Ответственность за незаконное отобрание ребенка
Автор: Красовская О.Ю., Чернышов А.А., Юсупова А.Н.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 3 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию проблемы незаконного изъятия детей у родителей органами опеки и попечительства. Рассматриваются правовые основания вмешательства государственных органов в семейные отношения, позволяющие излишне широко толковать положения ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации об отобрании ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. В результате проведенного анализа правоприменительной практики выявлены случаи необоснованного отобрания ребенка при формальном подходе к оценке семейной ситуации и отсутствии должного контроля над деятельностью органов опеки и попечительства. Предложены меры по совершенствованию действующего законодательства, направленные на повышение уровня правовой защищенности семей и предотвращение неправомерных решений. Предлагается включить в гл. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации ст. 1541 «Незаконное отобрание ребенка из семьи», которая устанавливала бы уголовную ответственность за незаконное отобрание ребенка из семьи сотрудником органов опеки и попечительства, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.
Семья, несовершеннолетний, интересы ребенка, уголовная ответственность, органы опеки и попечительства, коррупция
Короткий адрес: https://sciup.org/14133194
IDR: 14133194 | УДК: 34
Текст научной статьи Ответственность за незаконное отобрание ребенка
К онвенция о правах ребенка [1] была ратифицирована в СССР 15 сентября 1990 года и в настоящий момент поддерживается и выполняется Российской Федерацией. Как участник соответствующей конвенции Россия принимает на себя обязательства обеспечить права и законные интересы каждого ребенка, включая реформирование законодательства в области ювенального правосудия. Для России институт ювенальной юстиции не является новым явлением. Он был известен еще со времен Российской империи, видоизменялся и сохранялся в советский период, но именно с 90-х годов XX века можно говорить об активном восстановлении и развитии ювенальной юстиции в государстве [2]. При этом актуальным остается вопрос, всегда ли это оказывает положительное воздействие на семью, традиционные семейные ценности и национальную безопасность страны в целом.
«Всовременной России... институт семьи становится главным очагом формирования и укрепления социальных, нравственных, духовных и моральных ценностей» [3]. Семейное законодательство исходит из принципов приоритета интересов ребенка и невмешательства государства в дела семьи. Используя институт ювенальной юстиции сегодня, государство старается соблюдать первый из указанных принципов, то есть защищать ребенка, обеспечивать его права и законные интересы, не вмешиваясь в дела семьи.
Органам опеки и попечительства отведена ведущая роль в области ювенальной юстиции в России [4]. Фактически они имеют неограниченные полномочия в области защиты детей при отсутствии эффективных механизмов контроля и надзора за деятельностью органов. Проблема заключается в том, что данное основание органы опеки и попечительства нередко трактуют произвольно и осуществляют отобрание детей без фактического наличия такой угрозы для ребенка. Родители, попадая в подобную ситуацию, оказываются в заведомо более слабой позиции и доказать свою правоту часто не могут. Поднимаемая журналистами проблема отобрания ребенка у родителей вызывает сомнения в необходимости сохранения на это полномочий у органов опеки и попечительства.
Так, например, во Владимире забрали детей у вполне благополучных родителей, но с недостаточной жилплощадью и отсутствием собственной квартиры [5]. Факт вовсе не свидетельствует о том, что нарушаются права детей, или дети находятся в опасно- сти. И если родителям удается защитить свои права и доказать, что изъятие ребенка осуществилось незаконно, никаких строгих мер ответственности, кроме дисциплинарных, для сотрудников органов опеки и попечительства за нарушение прав не только родителей, но и ребенка, за фактическое вмешательство в дела семьи не предусмотрено.
В 2015 году суд отказал в ограничении родительских прав О. и М. в отношении их малолетней дочери Б. Основанием отобрания ребенка стал недостаточный, по мнению сотрудников опеки, вес ребенка. Девочку поместили в палату для отказных детей [6].
Вопрос об ответственности, включая уголовную, для представителей органов опеки и попечительства за незаконное изъятие детей из семей широко обсуждается общественностью и в доктрине, однако не находит реализации у законодателя. В настоящий момент сотрудники органов опеки и попечительства не являются должностными лицами, поэтому не могут быть привлечены к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий.
Более того, законодатель продолжает внедрять механизмы и нормы, направленные на расширение полномочий органов опеки и попечительства, что, в свою очередь, представляет угрозу институту семьи и традиционным семейным ценностям.
В частности, первое чтение прошел законопроект № 232772-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты детей» [7]. Соответствующий законопроект, который уже получил название «антисемей-ный», устанавливает еще более сложный механизм приема в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей близкими родственниками ребенка. Так, близким родственникам ребенка, оставшегося без попечения родителей, желающим принять его на воспитание в свою семью, предлагается прохождение подготовки по отдельным (специальным) программам, утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. То есть в случае, когда близким лицам ребенка должен отдаваться приоритет в его воспитании, положения анализируемого акта, наоборот, препятствуют этому. Прохождение указанной подготовки может быть затруднительно для отдельных категорий граждан, например, пожилых, в результате чего ребенка принять в семью они не смогут. Организация подготовки лиц будет осуществляться органами опеки и попечительства и (или) иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым органами опеки и попечительства переданы полномочия по осуществлению соответствующей подготовки, но что это за организации – законопроект не называет.
Таким образом, вновь увеличиваются полномочия органов опеки и попечительства, которые смогут и не признавать прохождение соответствующей подготовки, так как они ее непосредственно организуют и контролируют. Предложения соответствующего закона активно критикуются. Акцент делается на том, что в случае его принятия под угрозой окажется не только институт семьи, но и традиционные семейные ценности, охрана и защита которых обозначена сегодня в качестве приоритета национальной безопасности России. Кроме того, данный законопроект создаст широкое поле совершения преступлений, связанных с незаконным усыновлением (удочерением) детей, и преступлений коррупционного характера.
Отмечается, что соответствующий законопроект направлен против ценностей семьи и другого закона – «закона 10 сенаторов», который ограничивает полномочия органов опеки и попечительства, вносит ясность и алгоритм в процедуру отобрания ребенка. «Основой государственной политики должна стать презумпция добросовестности родителей. Сейчас же действует статья закона, согласно которой опека имеет право вмешиваться и даже подменять собой родителей. По сути, эти статьи позволяют существовать ювенальной юстиции у нас в стране» [8].
Соответствующий законопроект является результатом политики расширения ювенальной юстиции в России по западному направлению, которое не позволит защитить семью, традиционные семейные ценности и будет представлять угрозу национальной безопасности России. Продолжение этого курса создаст новые угрозы демографической безопасности и приведет к разрушению института семьи.
В России основанием законного вмешательства в дела семьи для обеспечения и защиты прав ребенка является формулировка «непосредственная угроза жизни ребенка или его здоровью», что трактуется сегодня очень широко и разнообразно и на практике приводит не только к нарушению прав семьи, но и совершению преступлений. Так, например, в Иркутской области по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела о хищении денежных средств детей, оставшихся без попечения родителей [9]. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по фактам халатности и служебного подлога должностных лиц органов опеки и попечительства в Вологодской области [10].
Таким образом, примеры судебной практики показывают, что расширение полномочий органов опеки и попечительства не будет являться гарантией охраны и защиты прав ребенка и гарантией сохранения института семьи. Более того, можно получить ситуацию увеличения числа нарушений, злоупотреблений и различных преступлений со стороны соответствующих органов.
Сегодня можно наблюдать противоречивую и сложную ситуацию. В случае лишения права отбирать ребенка органам опеки и попечительства и передачи этого права исключительно суду, под угрозу будут поставлены жизнь и здоровье ребенка. Если же оставить это полномочие органам опеки и попечительств, то сохраняется институт жесткой ювенальной системы, в которой будут происходить нарушение прав и интересов семьи, детей, создаваться предпосылки совершения новых коррупционных и иных преступлений, связанных с незаконным усыновлением (удочерением).
Применительно к указанной ситуации решение проблемы представляется не в решении того, кого наделить правом немедленного изъятия детей из семьи, если им угрожает опасность, а в создании мер воздействия уголовно-правового характера на те органы, которые этим правом наделены, так как они должны осознавать последствия и всю опасность неправомерного изъятия ребенка как для него самого, так и для его семьи.
Неправомерные действия органов, наделенных подобным правом, обладают серьезной общественной опасностью. Это может привести к вмешательству в дела семьи, нарушению прав изъятого ребенка жить и воспитываться в семье. Сам факт разрыва отношений с родителями может привести к различным нравственным страданиям ребенка, причинить вред его здоровью, которое не всегда можно восстановить даже при воссоединении семьи.
Неправомерное изъятие ребенка ставит под угрозу традиционные семейные ценности России. Уголовно-правовой механизм в данном случае служил бы определенным сдерживающим средством от злоупотребления фактически неограниченными полномочиями по вопросам охраны и защиты детей, которыми органы опеки и попечительства фактически наделены. При этом уголовно-правовой механизм этого противодействия в определенной степени ограничил бы ювенальную юстицию в России, создал определенный баланс интересов всех членов семьи и, что наиболее важно, позволил бы родителям, которые считают, что их права нарушены неправомерными действиями органов опеки и попечительства в области отобрания ребенка, рассчитывать на защиту и охрану своих прав уголовным способом.
Предлагается включить в гл. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации [11] ст. 1541 «Незаконное отобрание ребенка из семьи», которая бы устанавливала уголовную ответственность за незаконное отобрание ребенка из семьи сотрудником органов опеки и попечительства, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. Как незаконное отобрание в данном случае следовало бы рассматривать случаи нарушения положений ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации [12], когда фактические обстоятельства, при которых отбирается ребенок, не соответствуют реальной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего, а также случаи отобрания ребенка без оформления и представления родителем соответствующих актов и документов. Под иной личной заинтересованностью в контексте указанной статьи понимается стремление лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность, повысить статистические показатели и др.
При этом, устанавливая уголовную ответственность как за умышленное преступление, имеется возможность снизить злоупотребление и совершение коррупционных и иных преступлений с участием органов опеки и попечительства при отобрании детей из семьи. С позиции построения уголовного закона соответствующая норма, безусловно, должна относиться к преступлениям против семьи и несовершеннолетних. В качестве объекта предлагаемого состава следует рассматривать нормальное формирование личности ребенка и личности родителей в условиях, сложившихся между ними родственных, семейных отношений. Субъектом преступления должны признаваться сотрудники органов опеки и попечительства, которые законодательно наделены столь серьезной мерой реагирования, как немедленное отобрание ребенка из семьи, и которые осуществили отобрание ребенка из семьи из корыстной или иной личной заинтересованности.
Таким образом, сегодня следует говорить об активном расширении ювенальной юстиции в России по зарубежному образцу, которая, исходя из статистики и приведенных примеров практики, не окажет положительного воздействия на институт семьи. Расширение полномочий ювенальной юстиции внесет предпосылки к разрушению института семьи, создаст новые угрозы демографической безопасности как элементу национальной безопасности России. При этом возникнут проблемы как в семейно-правовых отношениях,так и в уголовно-правовойсфере. Расширение полномочий ювенальной юстиции приведет к произвольному вмешательству в дела семьи, что прямо нарушает принципы семейного законодательства. Кроме того, расширение полномочий органов опеки и попечительства при отсутствии фактических мер и средств защиты, которыми могли бы воспользоваться родители, может создать поле для нарушения прав родителей и детей, совершения целой группы преступлений коррупционного и иного характера.