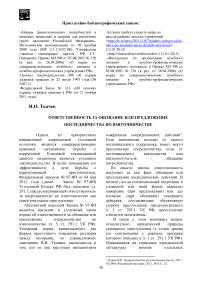Ответственность за обещание или предложение посредничества во взяточничестве
Автор: О Ткачев И.о
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 1 (27), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о юридической природе обещания или предложения посредничества во взяточничестве. Анализируется проблема квалификации мнимого посредничества. Делается вывод о действиях, которые могут образовывать объективную сторону обещания или предложения посредничества во взяточничестве.
Посредничество во взяточничестве, обещание посредничества, предложение посредничества, мнимое посредничество, лже посредничество
Короткий адрес: https://sciup.org/142232372
IDR: 142232372
Текст научной статьи Ответственность за обещание или предложение посредничества во взяточничестве
Астахов требует усилить меры по расследованию детских отравлений
<> (11.01.2012) «Инструкция по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях» входящую в Приказ МЗ РФ от 05.08.2003 № 330 (в ред. от 26.04.2006) «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕЩАНИЕ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
Одним из приоритетных направлений современной уголовной политики является совершенствование правовых механизмов борьбы с коррупцией. Ключевой составляющей данного механизма является уголовное законодательство. В целях повышения его эффективности в деле борьбы с коррупционной преступностью, Федеральным законом № 97-ФЗ от 04 мая 2011 года (далее – Закон № 97-ФЗ) Уголовный Кодекс РФ был дополнен ст. 291.1, предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве как самостоятельное преступление.
Абсолютной новеллой Закона № 97-ФЗ является введение в уголовный закон нормы об ответственности за обещание или предложение посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Указанная норма криминализует две формы преступного поведения, различия между которыми, по справедливому замечанию В.И. Тюнина, заключаются в том, кто из лиц выступает инициатором совершения посреднических действий1. Если инициатива исходит от самого потенциального посредника, имеет место предложение посредничества, если от потенциального взяткодателя или взяткополучателя – обещание посредничества.
По смыслу закона, ответственность наступает за сам факт обещания или предложения посреднических действий. В момент, когда потенциальный посредник в словесной или иной форме высказал намерение (при предложении) или дал согласие (при обещании) совершить действия, составляющие объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, преступление считается оконченным.
В связи с этим возникает вопрос относительно юридической природы указанного преступления (с точки зрения его соотношения с деянием, признаки которого описаны в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ). Появившиеся на страницах юридической литературы мнения отдельных
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика исследователей, склонных рассматривать обещание или предложение посредничества во взяточничестве в качестве приготовления к посредничеству1, вряд ли могут быть признаны состоятельными.
В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ, приготовлением к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. Деяния, указанные в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, не соответствуют перечисленным в приведенной норме приготовительным действиям. Само по себе посредничество во взяточничестве в настоящее время не может рассматриваться в качестве соучастия в даче или получении взятки2. Соответственно, действия лица, обещающего или предлагающего такое посредничество, не являются приисканием соучастников3 или достижением сговора на совершение преступления. Соответственно, действия, описанные законодателем в диспозиции ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, могут расцениваться только как «иное умышленное создание условий для совершения преступления». Однако само по себе высказывание намерения выступить посредником во взяточничестве никаких условий для последующего совершения обещанных или предложенных действий не создает и последующее совершение посреднических действий не

облегчает, ведь посредник таким обещанием или предложением не связан.
В связи с этим мы полагаем, что обещание или предложение посредничества во взяточничестве представляет собой только обнаружение умысла, криминализация которого не только нарушает общепризнанный принцип ответственности только за деяние («мысли не наказуемы»), но также противоречит принципу равенства граждан перед законом. Так, согласно п. 11 действующего постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе», не может быть квалифицировано как покушение на дачу или получение взятки либо на коммерческий подкуп высказанное намерение лица дать (получить) деньги , ценные бумаги, иное имущество либо предоставить возможность незаконно пользоваться услугами материального характера в случаях, когда лицо для реализации высказанного намерения никаких конкретных действий не предпринимало. Таким образом, получается, что лица, высказавшие намерение дать взятку и получить ее, ответственности не подлежат, тогда как тот, кто высказал намерение непосредственно передать эту взятку, будет отвечать по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, в связи с чем может быть подвергнут наказанию вплоть до семи лет лишения свободы4.
Поскольку анализируемая норма устанавливает ответственность за обнаружение умысла на совершение в будущем посреднических действий, последующая реализация такого умысла исключает квалификацию действий посредника по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, так как каждая последующая стадия преступления поглощает более раннюю. Соответственно, если посредник сдержал ранее данное обещание и способствовал передаче предмета взятки, то будет отвечать по ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (при отсутствии, конечно,

ицирующих признаков, указанных в ч.ч. 2-4 ст. 291.1 УК РФ). Если же обещание осталось невыполненным, подлежит применению ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. Вместе с тем, максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 5 ст. 291.1 УК РФ больше, чем установленное санкцией первой части той же статьи. Таким образом, получается, что лицо, полностью реализовавшее свой преступный умысел, направленный на обеспечение передачи взятки, может быть наказано менее строго, чем лицо, только высказавшее намерение совершить в будущем уголовно-наказуемое деяние. Это, безусловно, нарушает принцип справедливости. В таком случае теряет всякий смысл институт добровольного отказа от совершения преступлений, предусмотренных частями 1-4 ст. 291.1 УК РФ, призванный стимулировать граждан к правомерному поведению. Согласно ч. 3 ст. 31 УК РФ, лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав преступления. Но в случае добровольного отказа от совершения посреднических действий, субъект будет отвечать за юридически оконченное к моменту добровольного отказа обещание или предложение посредничества, т.е. более строго. Это, напротив, будет стимулировать его к полной реализации преступного умысла, что, как нам кажется, идет вразрез с действительной волей законодателя, направленной на сокращение количества совершаемых коррупционных преступлений.
Особую остроту в связи с анализируемыми изменениями УК РФ приобретает проблема квалификации «мнимого посредничества»1.
До возвращения в уголовный закон самостоятельной нормы об ответственности за посредничество во взяточничестве, в доктрине уголовного права и на практике его применения предлагались различные варианты квалификации действий «лжепосредника».
В п. 18 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 года № 3 «О судебной практике по делам о взяточничестве» указывалось, что действия лжепосредника следует квалифицировать как мошенничество, а также как подстрекательство к даче взятки, если именно он склонил взяткодателя к совершению преступления. В то же время сам взяткодатель отвечает за покушение на дачу взятки. Указанная рекомендация нашла поддержку у большинства исследователей2
Действующее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» содержит аналогичный подход к квалификации действий лжепосредника как мошенничества. Однако вариант уголовноправовой оценки его действий в случае подстрекательства потенциального взяткодателя к даче взятки в указанном постановлении Пленумом предложен не был. На страницах уголовно-правовой литературы подобные действия лжепосредника также предлагалось квалифицировать как подстрекательство к покушению на дачу взятки (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ)3, поскольку по общему правилу (при отсутствии эксцесса) соучастники должны нести ответственность за соучастие в преступлении на той стадии, на которой ее завершил или прервал исполнитель4.
Принципиально иной подход был предложен в постановлениях Пленума Верховного Суда СССР от 24 июня 1948 года, от 31 июля 1962 года и от 23 сентября
1977 года, в которых действия лжепосредника предлагалось квалифицировать как соучастие в даче взятки1. До внесения в УК РФ анализируемых изменений указанного подхода придерживалась Т.В. Кондрашова, по мысли которой действия взяткодателя в анализируемой ситуации следует квалифицировать как покушение на дачу взятки, а действия лжепосредника – как подстрекательство или пособничество в покушении на дачу взятки2.
Очевидно, что ни один из описанных подходов не может быть в полной мере реализован в настоящее время. С учетом действующей редакции норм об ответственности за взяточничество возможны следующие варианты квалификации действий лжепосредника:
-
1) ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве);
-
2) ст. 159 УК РФ (мошенничество);
-
3) совокупность ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 291.1 УК РФ.
На наш взгляд, требованиям закона более всего отвечает первый из указанных вариантов. Вменение в анализируемой ситуации нормы об ответственности за мошенничество ошибочно. Передавая лжепосреднику предмет взятки взяткодатель, тем самым, совершает часть объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, что и дает основания квалифицировать его действия как покушение. Имущество, передаваемое лжепосреднику, является предметом соответствующего преступления, который подлежит изъятию и конфискации. При этом взяткодатель не может рассчитывать на возврат предмета взятки независимо от того, был ли он в итоге передан взяткополучателю и были ли совершены в отношении взяткодателя или представляемых им лиц оговоренные действия (бездействие). Соответственно, обман лжепосредника не находятся в причинной связи с наступлением у взяткодателя реального имущественного ущерба, поскольку последний лишается имущества в силу самого факта совершения им уголовно-наказуемого деяния независимо от того, будут ли совершены посредником обещанные действия.
Поэтому с учетом действующей редакции уголовно-правовых норм об ответственности за взяточничество, действия взяткодателя при мнимом посредничестве должны квалифицироваться как покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ст. 291 УК РФ). При этом, если взяткодатель сам выступил инициатором привлечения посредника, то он также отвечает по ч. 1 ст. 30, ст. 291.1 УК РФ за неудавшееся подстрекательство к пособничеству во взяточничестве. Действия лжепосредника в такой ситуации квалифицируются по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание посредничества во взяточничестве), если инициатива передачи взятки исходила от самого взяткодателя, или по совокупности ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве) и ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ст. 291 (подстрекательство к покушению на дачу взятки), если при этом сам лжепосредник склонил взяткодателя к даче взятки.
Таким образом, по нашему мнению норма ч. 5 ст. 291.1 УК РФ может быть применена в следующих случаях:
-
1) лицо предложило или обещало совершить посреднические действия, но в последующем отказалось от их совершения (т.е. имел место добровольный отказ);
-
2) лицо предложило или обещало совершить посреднические действия без намерения их последующего осуществления, т.е. с целью получения от потенциального взяткодателя предмета взятки и его присвоения (««лжепосредничество»);
-
3) лицо предложило совершить посреднические действия, но взяткодатель

взяткополучатель1 отказались от помощи данного посредника при совершении преступления или вообще отказались от его совершения.
Екатеринбург, 2003.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ЗА ВРЕД ПРИЧИНЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Обозначая в Концепции развития гражданского законодательства подход к пересмотру соотношения частных и публичных элементов в гражданском праве1 законодатель, тем не менее, сохраняет сложившуюся в период советского времени и закрепившуюся в действующем законодательстве тенденцию к увеличению количества императивных норм в регулировании отношений с участием предпринимателей. Это касается, в том числе, правового регулирования гражданско-правовой ответственности государства за вред, причиненный предпринимателям.
Несмотря на то, что процедура привлечения государства (иного публичноправового образования) к ответственности имеет частноправовые свойства, эти свойства второстепенны и их объем строго определяется гражданским законодательством. И если даже сама процедура привлечения государства к ответственности имеет сходство с процедурой привлечения частного лица к ответственности, то данное сходство лишь внешнее. Это, на наш взгляд, обуславливается необходимостью поддержания единства в реализации гражданско-правовых отношений вне зависимости от участвующих субъектов, и как следствие, искусственным соблюдением принципа равенства.
Первая особенность взыскания причиненных убытков с государства состоит в том, что они подчинены правилами бюджетного законодательства о целевом использовании денежных средств. Так, статьей 38 БК РФ установлен принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, который подразумевает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. В соответствии со ст. 289 БК РФ использование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их
Список литературы Ответственность за обещание или предложение посредничества во взяточничестве
- Борков В. Новая редакция норм об ответственности за взяточничество: проблемы применения//Уголовное право. 2011. № 4.
- EDN: NYGVPP
- Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.. 2000.
- Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. М., 1975.
- Капинус О. Изменения в законодательстве о должностных преступлениях: вопросы квалификации и освобождения взяткодателя от ответственности//Уголовное право. 2011. № 3.
- EDN: NEDSNX
- Кондрашова Т.В. Уголовная ответственность за взяточничество. Екатеринбург, 2003.
- EDN: VZTIHJ
- Коробейников Б., Орлов М. Ответственность за взяточничество//Советская юстиция. 1970. № 20.
- Краснопеева Е. Квалификация посредничества и соучастия во взяточничестве//Следователь. 2007. № 3.
- Лупенков А.В. Некоторые вопросы соучастия во взяточничестве//«Черные дыры» в Российском законодательстве. 2011. № 2.
- EDN: NEJNOB
- Тюнин В.И. Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)//Российская юстиция. 2011. № 8.
- EDN: ODWKTB