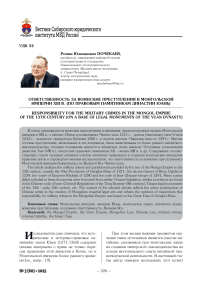Ответственность за воинские преступления в Монгольской империи XIII в. (по правовым памятникам династии Юань)
Автор: Почекаев Р.Ю.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 3 (60), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются воинские преступления и наказания, предусмотренные правом Монгольской империи в XIII в., а именно «Пятью положениями» Чингисхана 1211 г., указом («законами») хана Угедэя 1234 г., «кодексом» императора Хубилая 1280 г. и сводом законов «Чжиюань-синь-гэ» 1291 г. Многие составы преступлений, включенные в эти документы, были заимствованы из более раннего китайского законодательства: сходные положения имеются в китайском своде законов «Уголовные установления династии Тан» (VIII в.), тангутских правовых памятниках XII – начала XIII в. и др. Содержание соответствующих статей отражает активное участие китайских правоведов в создании монгольских имперских правовых актов и опровергает мнения исследователей, что ответственность за воинские преступлений в Монгольской империи базировалась на Великой Ясе Чингис-хана.
Монгольская империя, империя Юань, монгольское право, китайское право, воинские преступления, уголовная ответственность, Великая Яса
Короткий адрес: https://sciup.org/140312428
IDR: 140312428 | УДК: 34
Текст научной статьи Ответственность за воинские преступления в Монгольской империи XIII в. (по правовым памятникам династии Юань)
И сследователи уже отмечали, что исторические и историко-правовые памятники эпохи Юань (1271-1368) содержат ценные материалы о праве не только периода правления этой династии в Китае, но и Монгольской империи более раннего времени [см., напр.: 19].
При этом весьма важным предметом изучения таких источников является участие китайских сановников при монгольских ханах на создание имперского законодательства на основе многовекового опыта китайской правотворческой деятельности. В настоящей статье автор намерен исследовать этот аспект правовой политики Монгольской империи на примере правовых актов XIII в., содержащих сведениях о воинских преступлениях и наказаниях за них. При этом специальное внимание будет уделено именно степени влияния китайского права на содержание соответствующих норм.
Для анализа нами выбраны следующие документы:
– «Пять положений, разделенных на правила» (или «новые указы») Чингис-хана (12061227), принятые в 1211 г. и зафиксированные в китайской династийной истории «Юань ши»;
– «законы» («указ») хана Угедэя (12291241), сына и преемника Чингис-хана, обнародованные в 1234 г. и также зафиксированные в «Юань ши» («История Юань», 1369 г.);
– «кодекс» хана Ухбилая (1260-1294), основателя империи Юань, включенный в его послание корейскому вану, датированное 1280 г.;
– свод законов «Чжиюань-синь-гэ» («Новый кодекс эпохи правления Чжиюань»), принятый также при Хубилае в 1291 г. и реконструированный в 1970-х гг. исследователем П.Х. Ченом.
Сразу обратим внимание, что ни до создания Монгольской империи, ни в первые годы ее существования специального «военноуголовного права» у кочевников Евразии не было. В случае правонарушений воины могли быть привлечены к ответственности по нормам обычного права, собственному усмотрению непосредственного начальника (или нойона) либо же по ханскому распоряжению.
Однако по мере расширения Монгольской империи и интеграции в ее состав обширных территорий с многочисленным оседлым населением стал расширяться и состав армии, в которую уже в первые десятилетия XIII в. стали входить китайцы, выходцы из Средней Азии и представители других народов, регионов и государств. В связи с этим и понадобились новые законы, которые сначала имели характер отдельных установлений, однако по мере их накопления (и, вероятно, в соответствии с традициями оседлых народов) стали консолидироваться. Ярким примером подобного законодательного подхода является «кодекс» Хубилая 1280 г.: как мы покажем ниже, в «Юань ши» приводятся отдельные указы, из которых, соб- ственно, и состоит эта консолидация, действие которой предполагалось распространить также на войска корейского правителя – вассала монгольского хана и императора Юань.
И, конечно же, эта работа осуществлялась не самими монголами, не имевшими опыта кодификации своих норм, а их новыми «иностранными специалистами», и прежде всего киданями, чжурчженями и китайцами (ханьцами) – выходцами из империи Цзинь, поступавшими на службу к Чингис-хану или его преемникам. Безусловно, они не изобретали эти нормы «с нуля», а брали за основу предыдущий китайский правовой опыт.
По такой же схеме составлялись и анализируемые нами правовые акты. Сразу отметим, что не все положения, включенные в исследуемые правовые памятники, относятся именно к ответственности за воинские преступления, но мы для сравнения взяли именно этот институт, поскольку он в силу своей специфики представляется весьма показательным. Наш анализ мы строим на основе сравнения положений актов эпохи Монгольской империи и империи Юань XIII в. и соответствующих статей китайских кодификаций. Для сравнительного анализа выбраны следующие китайские кодификации:
– «Уголовные установления династии Тан с разъяснениями» («Тан люй шу и», VIII в.) – классический и даже эталонный китайский свод законов, который в дальнейшем использовался в качестве образца для кодификаций последующих династий, правивших Поднебесной империей.
– «Измененный и заново утвержденный кодекс девиза царствования Небесное процветание» (середина XII в.) – свод законов государства Си Ся, основанного тангутами на севере Китая; памятник представляет интерес для анализа, поскольку тангуты, как и монголы, являлись «иноземными» правителями Китая и также испытали влияние китайской культуры, в том числе и правовой традиции.
– «Яшмовое зеркало командования войсками лет правления Чжэнь-гуань» (начало XII в.) – еще один тангутский юридический памятник, причем, как следует уже из названия, непосредственно регулирующий военно-правовые отношения.
– «Новые законы Тангутского государства» (первая четверть XIII в.) – также тангутское законодательство, которое представляет интерес, поскольку создавалось уже в ту эпоху, когда тангуты находились в прямом контакте с вновь созданной Монгольской империей и, вполне вероятно, что монгольское «военное право» могло испытать тангутское влияние.
– «Законы Великой династии Мин со сводным комментарием и приложением постановлений» («Да Мин люй цзи цзе фу ли», конец XIV в., дополнялись вплоть до XVII в.). Этот правовой памятник, как видим, более поздний, появившийся уже после падения империи Юань и прихода к власти национальной китайской династии Мин. Однако мы считаем целесообразным привлечь также и его, чтобы продемонстрировать, что нормы о военных преступлениях и наказаниях, содержавшиеся в памятниках империи Юань, не исчезли из законодательства и после ее падения, а нашли отражение и в минском законодательстве – хотя, скорее всего, не непосредственно через юаньские своды законов.
Начнем с анализа первого примера консолидации военных законов, который имел место еще при Чингис-хане. В 1211 г. с подачи китайского генерала Го Бао-юя Чингис-хан огласил «новые указы» или «Пять положений, разделенные на правила» («тяо хуа»), в которых п. 1 имеет отношение к воинским преступлениям и наказаниям, поскольку запрещает «самочинные расправы и убийства» «в случае выступления войск в поход» [9, с. 250; 23, р. 10-11]. Речь идет о некоторых ограничениях вышеупомянутого собственного усмотрения командиров по наказанию проштрафившихся подчиненных: в походе был важен каждый воин, а непродуманные расправы могли уменьшить их число. В более раннем китайском законодательстве нам сходной нормы обнаружить не удалось, однако запрет офицерам подвергать солдат смертной казни без согласования с вышестоящими властями содержится в более поздних «Законах великой династии Мин» (ст. 33, далее – «Законы Мин») [5, с. 378]. Со временем эта норма уточнялась как в отдельных указах, так и в кодифицированных актах.
Обратившись к анализу «законов» («указа») Угедэя 1234 г., мы обнаруживаем в нем ряд положений об ответственности за воинские преступления.
Пункт 3 предписывает солдатам повиноваться своим командирам, начиная с десятника. За нарушение предписания предусмотрены суровые наказания вплоть до каторжных работ [2, с. 163; 9, с. 169]. Нет сомнения, что эта норма была почерпнута из китайской правовой традиции – на это указывает, в частности, наказание в виде каторги, которого у монголов-кочевников, конечно же, не существовало. И в самом деле, мы находим близкую норму в ст. 14 тангутского «Яшмового зеркала» командования войсками» (далее – «Яшмовое зеркало») [13, с. 33].
Пункт 5 «законов» Угедэя предусматривает аналогичное наказание (вплоть до каторжных работ) для тех, кто станет самовольно отлучаться или отлынивать от службы [2, с. 163; 9, с. 169]. Аналогичное положение мы находим в китайских сводах – в «Уголовных установлениях династии Тан» (ст. 75, далее – «Установления Тан») [20, с. 326], а также и в тангутском «Кодексе девиза царствования Небесное процветание» (ст. 205, 209, далее – «Кодекс Небесное процветание») [10, с. 116].
Пункт 6 предусматривает ответственность за разглашение военной тайны – от битья розгами до смертной казни [2, с. 163; 9, с. 169]. Он также является аналогом ст. 232 «Установлений Тан» [13, с. 245; 21, с. 261].
Впрочем, еще двум пунктам из «законов» Угедэя нам не удалось найти соответствия в китайском законодательстве. Первый из них – п. 7, запрещающий командиру тысячи обгонять темника (командира десятитысячного отряда, т.е. своего непосредственного начальника), за что телохранители последнего могли метать в него тупые стрелы. Второй, п. 8, предусматривал повышенную ответственность сотников и десятников: за совершенные воинские преступления они подвергались тем же наказаниям, что и рядовые воины, но еще и отрешались от своей должности [2, с. 163; 9, с. 169]. По всей видимости, эти положения могли перейти в «законы»
Угедэя из обычно-правовой практики монголов более раннего времени, а не из китайского законодательства. В частности, в пользу этого говорит тот факт, что монгольский правовой памятник XVI – начала XVII вв. «Восемнадцать степных законов», составленный именно на основе обычного монгольского права, также предусматривал более высокую ответственность за воинские правонарушения для знати по сравнению с простолюдинами [3, с. 54].
Теперь перейдем к анализу соответствующих положений второго правового памятника – «кодекса» Хубилая 1280 г. Как уже отмечалось выше, его статьи прежде представляли собой отдельные указы этого хана, издававшиеся еще с конца 1265-х гг., но в послании корейскому вану они были систематизированы, что и позволяет исследователям говорить о нем как о разновидности кодификации.
Статья 1 содержит запрет привлекать на службу негодных воинов или демобилизовать солдата за взятку [18, с. 159]. Аналогичные нормы мы находим как в «Установлениях Тан» (ст. 228) [12, с. 244; 21, с. 252-255], так и в более позднем китайском законодательстве – «Законах Мин» (ст. 227, 236) [6, с. 116-117, 132-137].
Статья 3 не позволяет военачальникам отбирать у солдат полагающуюся им долю добычи [18, с. 160]. В декабре 1268 г. это положение было зафиксировано специальным указом хана Хубилая [14, с. 225]. Схожую норму мы обнаруживаем в ст. 2 «Яшмового зеркала» [13, с. 16].
Статья 4 запрещает начальнику заставлять подчиненного поменяться с ним лошадью, если она лучше у подчиненного, и тем более отбирать у него коня в случае падежа [18, с. 160]. Не удивительно, что сходные положения мы обнаруживаем в тангутском «Кодексе Небесное процветание» (ст. 324) [10, с. 174-175] – ведь у тангутов, как и у монголов (но не как у китайцев-ханьцев), ударную силу войск составляла многочисленная кавалерия [11, с. 264-265].
В ст. 5 предусмотрена ответственность военных лекарей за состояние раненых и больных солдат [18, с. 160-161]. В китайском законодательстве до эпохи Юань нам сходной нормы обнаружить не удалось, но таковая имеется в «Законах Мин» (ст. 401) [8, с. 193], что позволяет предполагать ее наличие и в более ранних сводах китайского права.
Статья 8 не позволяла командирам и чиновникам самовольно уменьшать или тем более удерживать награды в пользу отличившихся воинов или семей погибших героев [18, с. 161]. Аналогичные нормы имеются в «Яшмовом зеркале» (ст. 7-8) [13, с. 31-32] и в «Законах Мин» (ст. 239) [6, с. 142].
Статья 9 содержит запрет свободно распоряжаться в своих целях провиантом солдат и фуражом лошадей, т.е. продавать его, обменивать и пр. [18, с. 161]. Несомненно, подобного рода преступления имели широкое распространение, поэтому не удивительно, что соответствующие нормы мы находим в «Кодексе Небесное процветание» (ст. 258-260) [10,с. 139-140]ив «Законах Мин» (ст. 225) [7, с. 115].
Статья 10 запрещает начальникам изымать у воинов дополнительное вооружение (если оно являлось их собственностью) и передавать другим, если в подразделении не хватало оружия и доспехов [18, с 162]. Как и предыдущий состав преступления, этот был широко распространен, поэтому сходные положения присутствуют и в раннесредневековых «Установлениях Тан» (ст. 230) [21, с. 257-258], и в тангутском «Кодексе Небесное процветание» (ст. 283-286) [10, с. 153-155], и в более поздних «Законах Мин» (ст. 232-233) [7, с. 130-131].
Статья 11 предусматривает ответственность за еще одно распространенное воинское преступление – дезертирство. Причем к ней привлекались не только сами дезертиры, но и те, кто способствовал их бегству или не принимал мер по их поиску и наказанию [18, с. 162]. Этот состав также нашел отражение в целом ряде статей «Установлений Тан»» (ст. 451, 457, 460, 466) [22, с. 115-116, 131132, 137, 147-148]1, и в «Кодекса Небесное процветание» (ст. 194-200, 206-208, 213) [10, с. 111-115, 117-118, 121], а также и в
«Законах Мин» (ст. 236) [7, с. 132-137]. Сам Хубилай периодически издавал указы о поиске и возврате дезертиров по всем провинциям своей империи – например, указ от 16 марта 1262 г. [1, с. 79].
Статья 13 запрещала воинам грабить население и торговцев захватывать дома, землю и имущество [18, с. 162]1. Сходные нормы имеются в «Установлениях Тан» (ст. 167) [21, с. 140] и в «Законах Мин» (ст. 229) [6, с. 137].
Статья 14 не позволяла начальникам и простым солдатам «жениться насильно» на местных женщинах и девушках; а если брак был по обоюдному согласию – запрещалось распоряжаться родственниками жены, их домочадцами, слугами, в том числе продавать их и женить [18, с 163]. Как и ряд предыдущих положений, это также нашло отражение и в более раннем, и в более позднем китайском праве – «Установлениях Тан» (ст. 176) [21, с. 173-184], «Новых законах Тангутско-го государства» (гл. 8) [15, с. 147], «Законах Мин» (ст. 118) [6, с. 123-125].
Как и в предыдущем проанализированном правовом памятнике, несколько статей не имеют параллелей в китайском законодательстве и, вероятно, перешли в «кодекс» Хубилая из обычного права монголов или практики эпохи завоеваний Чингис-хана и его потомков.
Так, ст. 2 содержит запрет военачальникам и чиновникам использовать в своих интересах воинские подразделения «хэ-би-чи ба-дуэр», которые, судя по содержанию статьи, являлись специальными отрядами, которые должны были следить за порядком на завоеванных территориях [18, с. 159160]. По-видимому, подобных войск в армии Поднебесной империи не было, почему и соответствующие положения в китайских кодификациях отсутствовали. Любопытно, что 12 июля 1282 г. (т.е., уже после появления анализируемого «кодекса») Хубилай издал указ о запрете чиновникам использовать для собственных целей, а также для несения повинностей любые войска [1, с. 403].
Статья 7 предписывает самим командирам наказывать солдат, отступивших во время боя [18, с. 161]. Как уже отмечалось, начальники имели широкое право собственного усмотрения при наказании подчиненных: это, во-первых, избавляло о необходимости фиксировать в законодательстве многочисленные конкретные нарушения и наказания за них, во-вторых, позволяло командирам учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства правонарушения, в-третьих, обеспечивало быстрое и неотвратимое наказание. Некоторые ограничения полномочий командиров, впрочем, как мы установили выше, были установлены еще «Пятью положениями» Чингис-хана, а 7 июня 1265 г. Хубилай, подтверждая волю своего деда, издал указ, которым предписывал командирам наказывать подчиненных за нарушения; но если за них предусматривалась смертная казнь или тяжкие наказания – следовало согласовать решение с вышестоящими начальниками вплоть до самого хана [1, с. 124].
Статья 12 запрещала воинским начальникам отнимать жилье у местного населения, обманывать его и вводить в заблуждение, давая ложные обещания (вероятно – о компенсации за взятое продовольствие и пр.) [18, с. 162]. Подобных норм мы не встречаем в китайском праве, так что и это положение, вероятно, родилось в результате практики наказания воинов и командиров в период активных завоеваний. В «кодекс» Хубилая оно попало, скорее всего, также из его же соответствующего указа, изданного 22 сентября 1259 г. [1, с. 29]2.
В ст. 15 не позволялось забирать у мирных жителей скота больше, чем полагалось, топтать их поля и портить фруктовые деревья, убивать домашних животных [18, с. 163].
Частично это положение нашло отражение в ряде более ранних указов Хубилая. Так, актами от 29 августа 1263 г. запрещалось «беспокоить простой народ» и «превращать пахотные поля простого народа в пастбищные земли», а актом от 26 августа 1264 г. – размещать лошадей в селах (с целью их питания за счет местного населения) [1, с. 94, 101; 23, р. 7].
Статья 16 содержала запрет воинам торговать в своих интересах чаем, солью, водкой и дрожжами [18, с. 163]. Поскольку данные товары, во-первых, являлись предметами первой необходимости, во-вторых, находились в государственной монополии, наказанию за проступки солдат подвергались и их начальники. Точно так же мы не находим аналогов в китайских сводах законов, однако в указе Хубилая от 29 марта 1263 г. [1, с. 94] запрещалось как солдатам, так и простому народу выпаривать соль и вести частную торговлю ею. Впрочем, нельзя не отметить, что монополия на соль (и на другие перечисленные товары) в Китае существовала и в более ранние времена, сохранившись и в период после Юань [17]. Поэтому, вероятно, положений об ответственности именно военнослужащих за противозаконную ее продажу не было необходимости предусматривать.
Наконец, ст. 17 защищала имущество солдат от посягательств «военных правителей» [18, с. 163]. По-видимому, речь шла о даругах (в русских источниках более известных под названием баскаков) – наместниках ханов в покоренных землях, т.е. своего рода военных губернаторах, в подчинении которых находились военные отряды и гарнизоны. Прямо такая норма не находит отражения в китайских сводах, однако, полагаем, что по сути эта статья близка к вышеописанным ст. 3, 4, 10 – с той разницей, что там речь шла о начальниках в походах, а тут – о командирах гарнизонов в мирное время.
Наконец, при анализе «Нового свода эры правления Чжиюань» 1291 г. мы обнаружили всего три статьи, касающиеся ответственности за воинские преступления.
В ст. 9 гл. 1 содержится предписание привлекать солдат на работы только по указанию вышестоящего начальства и при этом в установленные сроки [23, р. 112-113]. Речь идет, по-видимому, о несении солдатами определенных повинностей, связанных именно с военными надобностями, поскольку, как следует из охарактеризованной выше ст. 2 «кодекса» Хубилая 1280 г., для других надобностей воинов задействовать запрещалось. На военнослужащим могли возлагаться, в частности, такие задачи: «отремонтировать и привести в порядок городские стены и рвы, чтобы быть готовым к нападению» [1, с. 37]. Подобные положения мы находим в «Установлениях Тан» (ст. 239–241) [21, с. 271-275 ] и «Законах Мин» (ст. 221) [7, с. 110].
Статья 1 гл. 7 предусматривает ответственность солдат и командиров, охраняющих склады, наряду с чиновниками, ответственными за хранение – естественно, в случае пропажи охраняемого имущества [23, р. 138-139]. Сходную норму мы находим в «Законах Мин» (ст. 283) [8, с. 30-31].
Наконец, в ст. 1 гл. 9 содержится положение о том, что за кражу или грабеж, совершенные солдатами, несут ответственность их начальники [23, р. 149]. Аналогичная статья имеется также в «Законах Мин» (ст. 229) – правда, в отношении неопределенного круга лиц, а не только солдат [6, с. 123-125].
Итак, как мы могли убедиться, большинство статей проанализированных правовых памятников эпохи Монгольской империи имеют аналоги в китайских кодификациях. Это свидетельствует о весьма значительной вовлеченности сановников и чиновников китайского происхождения в законотворческую деятельность монгольских ханов. И это вовлечение состояло не только в том, чтобы использовать правовой опыт предыдущих китайских законодателей, но и убедить монгольских «варваров» в эффективности этих норм и целесообразности включения их в соответствующие кодификации.
Что нам дает эта информация? В первую очередь убедительное подтверждение монголо-китайской правовой конвергенции, которая все более усиливалась по мере расширения владений потомков Чингис-хана в Китае и привлечения все большего числа китайских чиновников на службу новой династии.
Кроме того, весьма важным выводом по итогам проведенного исследования является опровержение весьма распространенного мнения исследователей – в том числе и тех, кто занимался переводом и исследованием актов, которые были проанализированы в настоящей статье [9, с. 272, прим. 371; 18, с. 158; 23, р. 4-10], – о том, что большинство преступлений и наказаний в Монгольской империи регламентировалось Великой Ясой Чингис-хана. Как мы убедились, норм, имеющих монгольское, а не китайское происхождение в приведенных актах сравнительно немного, а на Великую Ясу в них ссылок нет вообще. Между тем в правовых сводах Юань даже более позднего времени – например, в «Юань дянь-чжан» («Уложение династии Юань», 1322-1323) – ссылки на Великую Ясу Чингис-хана имеются [16]. Вряд ли в более ранних кодификациях была бы проигнорирована Яса в случае использования ее положений.
Вместе с тем нельзя не отметить определенную «монгольскую специфику» в содержании проанализированных норм. Дело в том, что только в первых из проанализированных памятников – «новых указах» Чингис-хана 1211 г. и «законах» Угедэя 1234 г. содержатся не только составы преступлений, но и конкретные наказания за их совершение – что как раз характерно для китайских правовых памятников. В остальных же случаях просто прописаны запреты без конкретизации наказаний за их нарушение. Подобная тенденция наблюдается и в других монгольских правовых актах – в частности, в хорошо известных нам ярлыках ханов Золотой Орды, в которых вместо четких наказаний за нарушение ханских предписаний присутствовали достаточно обтекаемые формулировки: «убоятся непременно», «разве не убоится»?», «тебе также хорошо не будет» и т.п. [4, с. 42, 114, 202].
Получается, что если китайские советники предлагали монгольским ханам нормы конкретного содержания на основе традиционного китайского права, то сами монгольские правители в большинстве случаев избегали включения в соответствующие статьи конкретных наказаний, оставляя их на усмотрение либо начальников, либо судей. Таким образом, заимствуя элементы китайского законодательства для своих кодификаций, потомки Чингис-хана сохраняли в них и особенности собственного монгольского права.
Собственно, именно это наблюдение и позволяет нам говорить о конвергенции монгольского и китайского права как о процессе взаимовлияния и взаимопроникновения, т.е. взаимодействие права монголов и китайцев в рассматриваемый период отнюдь не носило одностороннего характера влияния со стороны «просвещенных» китайцев на монгольских «варваров» в правотворческой сфере.