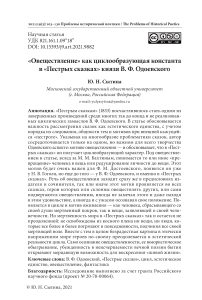"Овеществление" как циклообразующая константа в "Пестрых сказках" князя В. Ф. Одоевского
Автор: Сытина Юлия Николаевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.19, 2021 года.
Бесплатный доступ
«Пестрым сказкам» (1833) посчастливилось стать одним из завершенных произведений среди многих так до конца и не реализованных циклических замыслов В. Ф. Одоевского. В статье обосновывается важность рассмотрения сказок как эстетического единства, с учетом порядка их следования, общности тем и мотивов при внешней кажущейся «пестроте». Указывая на многообразие проблематики сказок, автор сосредоточивается только на одном, но важном для всего творчества Одоевского аспекте: мотиве овеществления, и обосновывает, что в «Пестрых сказках» он получает циклообразующий характер. Под овеществлением в статье, вслед за М. М. Бахтиным, понимается то или иное «превращение» человека в вещь или редуцирование личности до вещи. Этот мотив будет очень важен для Ф. М. Достоевского, появится он уже у Н. В. Гоголя, но еще до того - у В. Ф. Одоевского, и именно в «Пестрых сказках». Речь об овеществлении заходит сразу же в предисловиях издателя и сочинителя, так или иначе этот мотив проявляется во всех сказках, герои которых или склонны овеществлять других, или сами подвергаются овеществлению, иногда не замечая этого и даже находя в этом удовольствие, а иногда и с ужасом осознавая свое положение. Появляется в цикле и мотив оживления - как человека, сбрасывающего со своей души мертвенный покров, так и вещи, заявляющей о своей человечности. Но мертвенность мира в «Пестрых сказках» так и остается не преодоленной: не освобождены из косного плена ни вещи, ни люди, которые все более и более погрязают в повседневности, подчиняя все своей мертвящей воле. Вместе с тем в целом безрадостная картина в этически напряженном мире героев по-своему преодолевается в эстетической реальности цикла. Само осознание овеществленности, ее юмористическое обыгрывание, убежденность в неисчерпаемости вечной поэзии бытия открывают мерцающую возможность для воскресения «живой жизни».
В. ф. одоевский, пестрые сказки, цикл, эстетическое единство, овеществление, фантастика
Короткий адрес: https://sciup.org/147236164
IDR: 147236164 | УДК: 821.161.1.09“18” | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9882
Текст научной статьи "Овеществление" как циклообразующая константа в "Пестрых сказках" князя В. Ф. Одоевского
Р усская литература 1820–1830-х гг. богата циклами, как поэтическими [Есаулов, 2021а], [Есаулов, 2021b], так и прозаическими [Есаулов, 1995], [Киселев: 61], [Ляпина: 29], [Ту-рьян: 137–140]. «Циклическое художественное мышление» [Турьян: 131] было в высшей степени свойственно и В. Ф. Одоевскому, «Пестрым сказкам» которого, наряду с «Русскими ночами», посчастливилось стать завершенным циклом среди множества его так до конца и не реализованных замыслов. В то же время «Пестрым сказкам» «уделяется обычно весьма скромное место» [Турьян: 131] в исследовательской рецепции творчества писателя. Показательно, что в обширной коллективной монографии, изданной по итогам конференции, всецело посвященной Одоевскому, нет ни одного раздела непосредственно об этом цикле [Литература и философия…].
Пожалуй, наиболее авторитетной работой о «Пестрых сказках», наравне с еще дореволюционными изысканиями П. Н. Сакулина [Сакулин: 22–37], остается статья М. А. Турьян [Турьян]. Исследовательница указывает на важность рассмотрения «Пестрых сказок» именно как цикла , однако сама пишет о них не столько как о строго организованном единстве, сколько как о разрозненном «пестром» сборнике. П. Н. Саку-лин в этом плане более последователен. Главным циклообразующим фактором становится для обоих исследователей образ «сочинителя» «Пестрых сказок» — Иринея Модестовича Гомозейки [Сакулин: 26], [Турьян: 135] (см. также: [Исаев: 197–198]). Впоследствии при перенесении части цикла в «Сочинения» 1844 г. писатель откажется от этого образа и в целом перестроит порядок следования сказок, включив их в иные циклы (подробнее см.: [Киселев: 46]).
Проблема эстетического единства «Пестрых сказок» — большая тема, требующая дальнейшего исследования с учетом «разноаспектности» категории «художественной целостности»
цикла [Есаулов, 1995: 3]. «Пестрые» вовсе не означает «разрозненные», и сохранившийся черновик1 свидетельствует о том, что писатель обдумывал необходимый порядок сказок — «конструктивное единство» целого, благодаря которому и создается «особый внутренний мир произведения» [Есаулов, 1995: 6], неизбежно разрушаемый при разрозненном прочтении цикла. В настоящей статье, последовательно рассматривая «Пестрые сказки» как эстетическое единство, мы сосредоточимся только на одном, но важном для всего творчества Одоевского аспекте: мотиве овеществления , и постараемся, в том числе, показать его циклообразующий характер.
Размышляя о тесной взаимосвязи вещи и человека, В. Н. Топоров пишет: «Ожившая вещь или овеществленный (“механический”) человек, образы нередкие в мифопоэтических традициях <…> не только подчеркивают инакость природы человека и вещи, но и указывают две границы, у которых они в пределе могут встретиться, — очеловечивающаяся вещь и овеществляющийся человек» [Топоров: 27].
Обе эти границы, как и саму их «встречу», мы можем увидеть в «Пестрых сказках» Одоевского.
Проблема соотношения человека и вещи в художественном тексте многообразна: от роли детали в произведении до «превращения» человека в вещь — его овеществления. В таком смысле понятие овеществление использовал М. М. Бахтин, в частности, при описании «бунта» героя романа Ф. М. Достоевского «Бедные люди» — бунта, вызванного чтением «Шинели» Гоголя, в герое которой Макар Девушкин неожиданно узнал себя, точнее — верно выхваченную и запечатленную внешнюю сторону своего бытия: почувствовал себя «исчисленным», подобно бабочке, пришпиленным булавкой к этикетке, иными словами — овеществленным: «…вот ты весь здесь, и ничего в тебе больше нет, и сказать о тебе больше нечего» [Бахтин: 68]2. Одновременно Девушкин ощущает и «неправду такого подхода» [Бахтин: 68]. Этот «бунт» отразится в самой поэтике Достоевского, герои которого ускользают от определений, психологических заключений, в которых заключено «унижающее человека овеществление его души», лишающее его свободы [Бахтин: 72]. Достоевскому в высшей степени свойственна «христианская антропология» [Захаров, 2013: 84], предполагающая принципиальную неисчерпаемость тайны души человеческой, божественной по своей природе.
Принципы христианского понимания человеческой природы, «впервые выраженные в мировой литературе в столь яркой художественной форме» [Захаров, 2013: 84] именно Достоевским, были близки и его предшественникам по перу. Характерно, что бунт против овеществления — хоть и не с той остротой, что у Достоевского — был уже в творчестве Гоголя. Мотив как овеществления , так и восстания против него — внутренний сюжет «Записок сумасшедшего», в которых По-прищин восстает против сведения его личности к поприщу 3. Значимо, что в собрании сочинений 1842 г. Гоголь расположит «Записки сумасшедшего» после «Шинели» и перед «Римом» — этим, по Гоголю, раем на земле, к небесной сути которого устремляется Поприщин в финале «Записок». И если герою не дано в него прорваться, то это может сделать читатель «петербургских повестей», от финальной безысходности крика Поприщина переносясь в солнечную неземную Италию. В такой последовательности расположения произведений угадывается свойственная поэтике Гоголя и русской культуре как таковой пасхальность [Есаулов, 2020], [Захаров, 1994]. На этом примере мы видим и принципиальность эстетического единства цикла , которое столь остро чувствовал Гоголь (см. также: [Есаулов, 1995]). Немаловажно, что он был очень близок с Одоевским именно в пору создания «Пестрых сказок», и весьма вероятно мог давать их автору те или иные советы, в частности, касающиеся порядка следования сказок, — т. е. создания целостного цикла. Впрочем, здесь вернее говорить о взаимовлиянии и взаимообогащении писателей: также весьма вероятно, что мотив овеществления , столь значимый для творчества Гоголя [Топоров], обретает эту значимость не без прямого влияния Одоевского, затронувшего немало вопросов и бегло создавшего немало образов, которые затем так или иначе проросли и у Гоголя4, и у Достоевского (подробнее см.: [Назиров], [Сытина, 2021а, 2021b]).
«Пестрые сказки» открываются двумя предисловиями — от «издателя» Безгласного и собственно «сочинителя» Иринея Модестовича Гомозейки. Мир вещей заявляет о себе уже в первом предисловии и причем судьбоносным для издания образом. Безгласный соглашается-таки придать эти странные сказки тиснению только из жалости к бедному их сочинителю, а точнее, к его пришедшему «в пепельное состояние» фраку, а ведь фрак — «единственное средство, по мнению Иринея Модестовича, для сохранения своей репутации»5. Помимо фрака сочинитель жаждет приобрести несколько трудов по алхимии, но они выглядят скорее как приложение к фраку, составляя с ним единый иронический ряд.
«Предисловие» Гомозейки исполнено алхимической премудрости, и разделить иронию, гротеск и то зерно правды, которое все же стремится донести сквозь кривляния своего героя Одоевский, непросто. Возможным это оказывается в контексте всего творчества Одоевского (прежде всего, с учетом «Русских ночей»). Безусловно, сокровенным для автора можно считать мечту по целостному живому знанию, которым обладали, например, алхимики былых времен, стремясь найти «такой язык, которого бы слушался и камень, и птица, и все элементы» (9). Современное же познание представляется ему мертвым , оно не только не оживляет неорганическую природу, но умертвляет — поскольку объективирует, овеществляет — человека:
«…мы составляем статистические таблицы — посредством которых находим, что в одной стороне, с увеличением просвещения, уменьшаются преступления, а в другой увеличиваются, — и в недоумении ломаем голову над этим очень трудным вопросом; составляем рамку нравственной философии для особенного рода существ, которые называются образами без лиц, и стараемся подтянуть под нее все лица с маленькими, средними и большими носами» (11).
И такой сугубо рациональный подход к жизни, по удачной формулировке П. Н. Сакулина, согласно Одоевскому, приводит к тому, что «самая ученость людей вытравляет из них все живое» [Сакулин: 30].
Столкновение живого и мертвого, зыбкость граней между этой, казалось бы, весьма однозначной оппозицией станет центральным мотивом цикла. Уже в предисловии Гомозейки эту зыбкость нарочито подчеркивает определение языков, которые знает сочинитель: «…живые, мертвые и полумертвые» (7).
В следующей за предисловием «Реторте» в качестве вещества — материала для опыта юного выходца из ада — оказывается «почтенная публика». С одной стороны, тем самым она приравнивается к миру вещей: на первый план выходит мертвенность общества, которую подчеркивают и синтаксические конструкции, например: «…пропасть карточных столов, еще больше людей, еще больше свечей, а еще больше конфет и мороженого» (12). Одушевленное (люди) оказывается здесь в ряду однородных членов с неодушевленным. Но с другой стороны — в свете живого алхимического представления о душе вещей — «публика» только включается в общий строй живого мироздания, причем проявляет несвойственную вещам стойкость — полную нечувствительность к опытам с ретортой. Символизирует ли такая стойкость силу человеческой натуры, отказывающейся подобно веществу подчиняться законам природы, или же напротив — бесчувственность, мертвенность человека, который уступает в чуткости даже неорганическим веществам? Именно неоднозначность, как представляется, входила в эстетическую задачу Одоевского, стремившегося фантастическим гротеском и намеренной путаницей взорвать привычный ход вещей и устоявшиеся стереотипы «с намерением заставить читателя самого подумать, принудить самого употребить свой снаряд, ибо тогда только истина для него может сделаться живою»6.
Ряд фантасмагорических превращений, придающих ему свойства вещи , претерпевает сам сочинитель. Очутившись на «дне реторты, над самым жаром» он сетует:
«…мой новый, прекрасный черный фрак начал сжиматься и слетать с меня пылью; мой чистый, тонкий батистовый галстук покрылся сажею; башмаки прогорели; вся кожа на теле сморщилась, и самого меня так покоробило, что я сделался вдвое меньше; наконец, от волос пошел дым; мозг закипел в черепе и ну выскакивать из глаз в виде маленьких пузырьков, которые лопались на воздухе…» (14).
Оказавшись в словаре, Гомозейка сам начинает «превращаться в сказку», его глаза «обратились в эпиграф, из головы понаделалось несколько глав, туловище сделалось текстом, а ногти и волосы заступили место ошибок против языка и опечаток, необходимой принадлежности ко всякой книге…» (16). Такое превращение в текст оборачивается «переходом своего человечески-телесного в артефакт», сочинитель «делается в чем-то кукольно автоматичен, подобно героине из им же рассказанной сказки об опасностях прогулок по Невскому проспекту» [Исаев: 201, 198].
Пропагандируя «живое» знание, Гомозейка, подобно инфернальному владельцу латинского словаря, не задумываясь, применяет «философскую калцинацию, сублимацию и дис-тиллацию» по отношению к товарищам по несчастью, и тогда в облике этой фантасмагорической маски проступают ужасающие черты увлеченного опытом над другими человека:
«…едва я отлепился от бумаги, едва отер с себя типографские чернила, как почувствовал человеческую натуру: схватил оброненных сатаненком моих товарищей, лежавших на земле, и, вместо того, чтобы помочь им, рассчитал, что гораздо для меня будет полезнее свернуть их в комок, запрятать в карман и, наконец — представить их на благорассмотрение почтенного читателя…» (16–17).
Собственно, именно с этими полумертвыми жертвами латинского словаря в дальнейшем и будет знакомиться читатель от сказки к сказке. Вместе с тем напечатаны они живыми буквами, которые «говорить не перестанут» (8) вне зависимости от того, будет кто-то читать книгу или нет.
Открывается галерея бывших узников латинского словаря «Сказкой о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем». Мотив овеществления актуализируется в ней самим названием — тело человека изначально воспринимается как вещь, которая имеет некоего владельца. Причем хотя мотив «крепостного» человека как вещи, принадлежащей хозяину, и мелькнет в разговоре Севастьяныча с мистическим просителем, но он так и останется периферийным. В самом заглавии, в такой объективации тела появляется нечто жутко-мистическое — это уже не мелкий чертенок, дистиллирующий публику, но некая темная подоплека бытия, которая будет затем вторгаться во все сказки цикла.
В то же время юмор повествователя, а также намеченная им линия рационального развенчания фантастического, придают и этой сказке фантасмагорический характер. «Путеводной звездой» происходящих событий становится «штоф домашней желудочной настойки» (19). Первую четверть штофа Севастьяныч выпивает еще за ужином, и она пробуждает в нем самолюбивые грезы о том, «как глупы люди и как умны он и его батюшка» (19). Со второй четвертью он мечтательно вспоминает свои «подвиги», и от мелькнувшего призрака возможного воздаяния за грехи приказный легко отделывается третьей четвертью штофа, которая переносит героя в собственный его «веселый реженский домик», в котором много ценных вещей , нажитых «своим умком» (20). Последняя же четверть «обворожительного напитка» (21) наконец-то отрывает Севастьяныча от мира вещей и вообще от земли, погружая в грезы о далеких временах и землях, и здесь раскрывается поэтическая сторона души героя. Как верно замечает Сакулин, Одоевский хотя и «обнажает духовную нищету жизни, не знающей вдохновенного идеализма, чуждой поэтических начал» [Сакулин: 26], однако показывает, что «в человеке живет иррациональное, “инстинктуальное” начало»: «Душа творит легенды жизни. Это так свойственно натуре человека и так необходимо ему»7 [Сакулин: 29].
Прерывает сладостные грезы Севастьяныча (или же служит их продолжением?) появление «владельца» мертвого тела, в разговоре с которым речь вновь заходит о вещах : о теле и о взятке за него, о составлении просьбы .
Помимо штофа, сквозным мотивом «Сказки…» становятся бумаги, и они во многом определяют человеческую жизнь, порою доминируя над нею. «Сказка…» начинается с объявления, затем следуют бумаги «к завтрашнему заседанию», потом — «старая замасленная тетрадка» (она же «Сивиллина книга» (19)), выступающая единственным «сводом законов» в Реженске; примером выдающегося ума, а вернее, хитрости приказного становится бумага, составленная со слов «грамотного молодца» (20). Венчают успех деятельности Севастьяны-ча «серенькие бумажки» (20; курсив наш. — Ю. С.) в книжнике под периною. Постепенно герой переносится мечтами в сферы преданий и сказаний, но эти плоды чужого воображения порождают в уме Севастьяныча собственное творение — фантастическую просьбу, которая служит своего рода ответом на объявление.
И хотя коллеги поднимают Севастьяныча на смех, не слушают его увещаний на счет того, что просьбу нужно рассмотреть «обыкновенным порядком» (24), и вскрывают тело, но уже иные «толкователи» просьбы из простого народа, не в силах смириться с таким бездушным отношением к мертвому телу , придумывают другие продолжения этой истории, в которых тело или оживает при помощи «вскочившего» в него «владельца», или же, хоть тело так и хоронят, но «владелец» не устает ежедневно просить его у Севастьяныча, а тот, «не теряя бодрости, отвечает: “А вот собираются справки”» (25).
В следующей истории читатель переносится в совершенно иной, экзотический мир. Название сказки — «Жизнь и похождения одного из здешних обывателей в стеклянной банке, или Новый Жоко» — вновь актуализирует тему овеществления — помещения живого существа под стекло. В историколитературном рассмотрении эта тема будет иметь большую перспективу: герои Достоевского, протестующие против «хрустальных замков» в духе Чернышевского, теплица в сказке-притче В. Н. Гаршина «Аttalea princeps» и др. Жанр, пародийно обозначенный как классическая повесть , и эпиграф из Буало овнешняют (если вновь обратиться к терминологии М. М. Бахтина) эту историю, переводя ее из этической сферы в эстетическую, в «стеклянную банку» строгого жанра, приписывающего классицистически однозначное, рациональное воззрение на мир.
Рассказчик на этот раз — ядовитый паук, но он предстает не как агрессор, а напротив, как существо с чувствительным сердцем, вынужденное скрываться сначала от собственного родителя, а потом ставшее жертвой эксперимента, в результате которого движимое инстинктом самосохранения пожрало нежно любимую свою супругу. Герой этот подвергается объективации и овеществлению — причем подвергается им дважды: вначале будучи пойман и посажен в банку, а затем — оказавшись в словаре. Но ужас первого происшествия так влияет на нежную душу членистоногого, что жизнь в словаре кажется ему теперь милой и даже почетной: «Сколько млеко-питающихся желали бы добиться этой чести» (26). Герой даже радуется такой объективации, поскольку она научила его «ясно понимать все обстоятельства» (26) прожитой им жизни.
Преступая к своей истории, «господин Ликос» (32) делает небольшое отступление, связанное с темой овеществления непосредственно. Проделанный с ним опыт возмущает героя и заставляет задаться вопросом о жестокости «естествоиспытателей» и их «холодных преступлений» (27). Хотя паук убежден, что только насмешка, а отнюдь не сочувствие, может быть ему ответом, в конце рассказа он все же призывает людей встать на место подопытных, взглянуть на себя со стороны:
«…вы сами уверены ли, убеждены ли вы, как в математической истине, что ваша земля — земля, а что вы — люди? <…> Что, если исполинам <…> вздумается делать над вами — как надо мною — физические наблюдения, для опыта морить вас голодом, а потом прехладнокровно выбросить и вас, и земной шар за окошко?» (31–32).
Следующая в ряду «Сказка о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Бограновичу Отношенью не уда-лося в Светлое Воскресенье поздравить своих начальников с праздником» еще теснее связана с мотивом овеществления. Как отмечает В. И. Сахаров, «в повести о колежском советнике происходит бунт вещей» [Сахаров: 15]. Исследователь называет карты частью «быта» чиновников, которая вдруг оживает и втягивает их в «безумный картеж». Но в том-то и дело, что оживают карты не «вдруг», а именно вследствие попрания самими чиновниками Божьего закона, в предпочтении ими инфернальной механистичности игры празднованию Светлого Христова Воскресения. Мотив попрания Божьего завета, только намеченный в «Сказке о мертвом теле™» (будучи еще ребенком, Севастьяныч «в отмщение оскоромил своего учителя в самую Страстную пятницу» (20)), теперь становится центральным. Жизнь Отношенья строится согласно его фамилии — вся она построена в отношении к департаменту, который, в свою очередь, предстает некой слаженной машиной; ее цель — производить бумаги. Смысл всей человеческой жизни здесь сводится к их преумножению. Самоотверженность чиновников при этом сравнивается с «трапезой молчальников» (33), по окончании трудов они благодарят Бога, сами не понимая, что за дело, по сути своей, весьма далекое от богоугодного.
Инфернальность этой автоматизированной жизни, где человек — только винтик, только вещь среди других, более ценных вещей, становится еще более очевидной благодаря соседству с иным механизмом — с карточной игрой, которая тоже изо дня в день идет по заведенному порядку. Однако она сосредоточивает в себе и некую поэзию для Отношенья и его коллег — ту поэзию, без которой, согласно Одоевскому, жизнь человеческая все же немыслима, в том числе и жизнь чиновничья.
Когда первый механизм заявляет свои права на чиновников, и им приходится делать срочную работу в Страстную субботу, то с неизбежностью их затягивает и в карточную игру, ставшую «необходимою принадлежностию службы» (34): чиновники оказываются не в силах противостоять соблазну заведенного порядка. Игра в вечер Страстной субботы и в пасхальную ночь становится аналогом своего рода черной мессы: зеленый стол преображается в «Сивиллин треножник» — «духовное начало деятельности, разлитое природою по всем своим произведениям» (35). Только «духовное» это начало окажется отнюдь не божественным, но инфернальным, как и в «Сказке о мертвом теле…», где также упоминалась Сивилла. Такое нарочитое повторение имени языческой прорицательницы в цикле заставляет воспринимать ее уже не метафорически, но как нечто язычески-темное, дохристианское, вторгающееся в повседневную, на первый взгляд столь обыденную и пошлую, жизнь. С другой же стороны, древние Сивиллы известны и тем, что предсказали пришествие Христа, и потому, как знать, не служит ли их «присутствие» в бездушном мире чиновников залогом возможного воскресения и оживления мертвых душ ?
Темные силы так завладевают чиновниками, что искажается не только пространство, но и время, — когда во всем мире торжествует Пасха, в их комнате «все еще ночь; все еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно», и тут начинается «игра, игра адская» (36). Завладевая игроками, игра в конце концов превращает их самих в карты, в игралище оживших дам. Сложно согласиться с В. И. Сахаровым в том, что «безразлично, сами ли чиновники играют в карты или карты играют чиновниками» [Сахаров: 15]. Вышедший из-под контроля инфернальный механизм игры разрушает и другой — механизм службы в департаменте — и служит причиной события неслыханного: коллежскому советнику «Ивану Богдановичу Отношенью не удалось в Светлое Воскресенье поздравить своих начальников с праздником» (36). Только вмешательством более мощных сил, овеществляющих чиновников уже буквально, нарушается механизм службы в департаменте, и это немыслимое нарушение подчеркивает само название сказки. Конечно, мы не знаем, исправится ли Отношенье, но ведь есть шанс, что раз механизм нарушен, то и дальнейший путь чиновника может пойти по иному маршруту — и тогда следующую Пасху он встретит уже иначе.
Некие загадочные силы проявляются в мире и следующей сказки — «Игоши». В ней сочинитель обращается к русскому фольклору и передает особенности детского восприятия мира. Иначе здесь выступает и фантастика: «…сверхъестественное предстает уже как художественная реальность, вполне достоверная для определенных типов сознания» [Маркович: 33].
Если в предыдущих сказках мы сталкивались с механистичностью жизни, построенной по тем или иным схемам или правилам, то в «Игоше» все обстоит иначе — мертвое тело (ранее воспринимавшееся как вещь) младенца оживает и начинает «мстить» людям, разрушать установленные правила и порядки, восставая на саму вещность мира. Сначала кажется, что Игоша предлагает взамен свои правила и не несет разрушения, если лишнюю ложку за столом для него положить и т. д., но история с маленьким рассказчиком опровергает это мнение: Игоша продолжает все бить, несмотря на подарки, именно в разрушении и полагая главное «служение» людям. Это разрушение вовсе не воспринимается как благодатное нарушение мертвенного порядка вещей, напротив — как врывающийся в жизнь темный хаос бытия, недаром Игоша — некрещеный младенец. Чувство, которое вызывает Игоша в конце концов, — жалость, жалость к неприкаянности бедного Игоши, к односторонности8 его существования. Соприкосновение с иным миром, порывающим с вещностью и механизмами этого, оставляет по себе впечатление загадки, отгадка которой таится в глубинах собственной же человеческой души9. Вырывающая ребенка из повседневности, помимо неприятностей, встреча с Игошей через сострадание дарует обновление юной душе рассказчика.
Следующая далее «Просто сказка» переносит нас из русской усадьбы и мира в кабинет лысого Валтера, вероятно, начитавшегося сочинений мистиков, аллюзии на которые в его причудливом сне одновременно и контрастируют своей ученостью с народными представлениями о мире из прошлой сказки, и оказываются им созвучны общим чувством мистической подоплеки бытия, тайны, скрывающейся за вещным миром и порою прорывающейся сквозь него в человеческую повседневность. М. А. Турьян пишет о двух этих сказках: «Сосуществование параллельных планов — фантастического и реального — воспроизведено здесь как неуловимое, легко переливающееся одно в другое чередование детской грезы и действительной жизни, как состояние полусна-полуяви, когда факты сиюминутного бытия продолжают свою жизнь, свое развитие в иной, ирреальной, ипостаси — и вновь возвращаются в действительность…» [Турьян: 155].
Тему двоемирия — также циклообразующую в «Пестрых сказках» — задает и эпиграф из Ж.-П. Рихтера, на этот раз заостряя внимание на таинственной связи между явью и сном.
Комната засыпающего за письменным столом Валтера оглашается «тысячей голосов» — это оживают вещи и заявляют о своей неповторимости, самости, о своей человечности :
«…перо упорствует, извивается между пальцами, словно змея, растет и получает какую-то сердитую физиогномию. Вот из узкого отверстия слышится жалостный стон, похожий то на кваканье лягушки, то на плач младенца. “Зачем ты вытягиваешь из меня душу? — говорил один голос, — она так же, как твоя, бессмертна, свободна и способна страдать”. — “Мне душно, — говорил другой голос, — ты сжимаешь мои ребра, ты точишь плоть мою — я живу и страдаю”» (42).
Голоса обретают все вещи, каждая из которых в то же время персонифицирует часть Валтера; в качестве его двойника выступают вольтеровские кресла и сидящий на них надутый колпак. Важно здесь и созвучие (Валтер — вольтеровские), и то, что колпак необходим лысому Валтеру, он — незамести-мая часть героя, и именно осознание незаместимости наполняет этот «венец природы и искусства» «чулочного мастера» особой важностью. Далее перед читателем разворачивается история грехопадения колпака: он искушается прелестью туфли — прелестью творения «великого сапожника» (43). Но в мире туфли эта высокая мистика, отсылающая к Я. Беме, оказывается обманом — там «небо сафьянное», «солнце пуговка», «звезды гвоздики» (43), и вместо желанного обновления в любви, колпака, не внемлющего крику мыльницы и тревожному шепоту собственных петель, ожидает позорная гибель — гибель его «чистоты и невинности» (44). Венчающий голову человека — он оказывается попранным коварной туфлей и пьяными сапогами.
Напрасно потом «угрызение совести толстыми спицами» колет внутренность колпака, и напрасно он взывает к мылу и корыту:
«…колпак остался невымытым, потому что в эту минуту Валтер проснулся…» (44).
Как и в предыдущей сказке, фантастический и реальный планы оказываются до конца неразделимы: загрязнившийся во сне, колпак остается не вымытым уже наяву. Или же, из-за пробуждения Валтера, в пространстве сна колпаку уже никогда не суждено очиститься.
Как аргументированно пишет П. Н. Сакулин, «колпак, чулочные или сыромятные изделия, вакса были в глазах Одоевского символом житейской прозы, пошлости и материализма», что позволяет исследователю сделать вывод о том, что в этой сказке представлена «высшая степень пошлости» [Са-кулин: 26–27]. Но в свете целого «Пестрых сказок» можно взглянуть на «Просто сказку» и иначе — как на выявление человеческого в мире вещей. В. Н. Топоров так рассуждает на этот счет: «Беззащитная и бессловесная, вещь отдается под покровительство человека и рассчитывает на него. Оставить без ответа это движение и “решение” — значит пренебречь судьбой “человеческого” слоя в вещи <…> сузив “человеческое” в вещи, подтолкнуть самого себя, человека, на путь овеществления» [Топоров: 33].
Мотив утраты чистоты и невинности, падения вследствие соблазна повторяется и в следующей «Сказке, о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту». Загадочность и хаотичность Невского проспекта знакомы каждому читателю по одноименной повести Гоголя, но уже Одоевский почувствовал и передал в художественной форме опасность, таящуюся на магистральной улице северной столицы.
Названные «толпою» в заглавии, в дальнейшем девушки подвергаются поштучному счету — вначале рассказчик насчитывает их 11, а затем строгие, но ограниченные маменьки недосчитаются одной из них. Рассказчик хоть и называет девушек толпою, не выделяя никакую из них отдельно, но все же интересуется их характером, дарованной им человечностью . Маменьки же, как и басурманский кудесник, относятся к ним как к вещам — поэтому в конце концов «всему виною» окажутся не только басурманы, но и маменьки, не справившиеся с ролью «пастырей» и потерявшие невинную «овечку».
Именно в контексте цикла многие детали этой сказки обретают более рельефные смыслы. Так, в магазине «новоприезжего искусника» вновь появляется колпак, но теперь уже не вязаный («родственником» вязаного колпака тут будет чепчик), а хрустальный — под такими колпаками выставлены на всеобщее обозрение куколки — в подобную им суждено превратиться и потерянной маменьками русской красавице. Хрустальный колпак актуализирует связь уже со стеклянной банкой, в которую посадил «господина Ликоса» некий «чародей» — вновь живое существо оказывается подопытным , объективируется и овеществляется.
В соседстве с историей о «Новом Жоко» чудесные материи и предметы туалета, продаваемые басурманом, напоминают кладбище из «бабочкиных крылышек», «мушиных глаз», «стрекозиной лапки», «пчелиной шерстки» (46). Есть здесь и «паутина», заставляющая прямо вспомнить бедного Ликоса. «Чародеи» в обоих случаях выдают себя за «просветителей» —«естествоиспытателей» или же искусников, несущих русским девушкам последние европейские моды. Проблема оказывается глубже чисто экономической выгоды, басурманский кудесник и его свита озабочены тем, что «русские девушки не хотят больше быть заморскими куклами! вот настоящее горе! продолжись оно — и русские подумают, что они в самом деле такие же люди» (47).
Стремящиеся умертвить , превратить живую русскую девушку в куклу басурманские кудесники сами несут на себе печать мертвенности и неполноценности — французская голова, английский живот, немецкий нос (иными словами, части разрубленного уже, потерявшего целостность, тела — выпятившиеся, эмансипировавшиеся от целого и торжествующие односторонности, сами ставшие затем инструментами для демонстрируемой читателю вивисекции) — здесь мы не увидим живых глаз, и у самого искусника «вместо» глаз «синие очки» — своего рода символ искусственности и фальши, царящей в модной басурманской лавочке, набитой множеством вещей, захватывающих живую душу и в конце концов подавляющих ее своей вещностью 10.
Инфернальность чародеев подчеркивают и их химические операции с ретортой (а читатель помнит, кто ею пользовался в первой сказке) по переплавлению «нравственной арифметики» и прочих вещей в «какую-то бесцветную и бездушную жидкость» (47; курсив наш. — Ю. С. ). Сам процесс насильственного превращения девушки в куклу (вплоть до вырезания живого сердца) — процесс, во многом обратный тому, что делал шестикрылый херувим с лирическим героем пушкинского «Пророка».
Операция басурман над сердцем девушки оказывается столь необратимой, что ее не может исправить даже любовь. Тщетно потом влюбившийся в куклу молодой человек будет пытаться оживить ее — вещь останется вещью и не сможет увидеть души в других вещах — даже в оживающих под взглядом человека произведениях искусства. Язык ее останется искусственным и мертвым, хотя она и выучит живые слова о добродетели, любви и искусстве. Однако и эти живые слова, попадая в недолжный штампованный ряд словоформ, становятся мертвыми («затверженными»), потому они в конце концов и «опротивели молодому человеку» (50). Но кукла чужда и «механических занятий жизни» — заниматься «хозяйством по старинному русскому обычаю» (50) она отнюдь не желает. Она не может выбраться из «хрустального колпака», в который заключили ее душу, может только стучать по нему. Жизнь молодого человека превращается в ад — и он поступает с куклой как с вещью — выбрасывает ее за окошко:
«…за это все проходящие его осуждали, однако же куклы никто не поднял» (51).
По сути, «Пестрые сказки…. собранные Гомозейкою» кончаются после «Сказки о том, как опасно девушкам…» (может быть, не случайно она имеет цифру VII, по-своему свидетельствующую о завершении, хотя в данном случае и предварительном: цифровая «алхимическая» символика вообще важная особенность цикла) — далее на сцену (никак не оговаривая это и формально продолжая оставаться Гомозейкой) выступает иной рассказчик, снимая прежнюю маску дикаря гостиных и становясь князем, известным писателем, который безо всяких ужимок обращается как в великосветском кругу, так и в писательской среде. На это обратил внимание уже Е. Ф. Розен: «Гомозейко, игравший роль старика в продолжение семи “Пестрых сказок”, изменил своей роли в осьмой, обернулся молодым светским человеком, говорящим прекрасному полу замысловатый и нравоучительный комплимент»11.
В последней сказке меняется сам слог повествования, в котором появляются нотки поэзии и искренней патетики, свойственные скорее «Последнему квартету Бетховена», нежели другим «Пестрым сказкам».
Первая часть сказки «наизворот» — своего рода литературно-критическая заметка, обращенная к пишущей, «отчасти» читающей и «отчасти» думающей братии (52), обитающей на чердаках или в тесных кабинетах и судящей о великосветских гостиных только по мельком увиденным вещам: фракам, лорнетам, люстрам… Рассказчик вступается за высший свет и за царящие там правила; высмеиваемые в предыдущей сказке трафаретные фразы приличий теперь получают оправдание и даже обретают несомненную пользу для умягчения нравов.
Оживленная тысячелетним мудрецом, «прародителем славянского племени» (54), девушка очищается и кукольность сменяется в ней сначала «какою-то мертвою жизнию» (55), а затем — настоящей, «живой жизнью». Нет более «китайских жемчужин в нити ее существования» (55), но судьба преподносит ей «китайского болванчика» в виде мужа — Кивакеля. Жалость о том, как в нем «унижен образ человеческий» (56), побуждает красавицу посвятить жизнь его исправлению и стать «душой этого четвероногого животного, которое называют супругами» (54). Но ей удастся добиться только внешних, механических изменений, и как ранее канва была искусством для куклы, так теперь поэзией для ее супруга станет табачный дым, а наукой — лошадь. Даже молитва «души» — «вдохновение» (57) — не в силах помочь красавице в ее тщетной попытке оживить Кивакеля, для которого «всякое слово, непохожее на слова, им произносимые», — нарушение «законов Божеских и человеческих» (57). Мертвые слова, которые ранее вложили истязатели в уста красавицы, в данном случае являются единственно возможными для супруга: овнешнение речи становится существенной чертой мертвенности жизни. Исстрадавшаяся красавица зачахла, и «бездыханный труп ее Кивакель снова выкинул из окошка» (57).
Помимо вступления, иной тон последней сказке задает эпиграф — это уже не нравственные сентенции, цитаты из фантастических или назидательных произведений, но отрывок из письма гетевского Вертера, в минуту грустных раздумий о пошлости великосветского общества написанного Лотте. Этот эпиграф о кукольности жизни будет повторен Одоевским и в конце — в качестве эпилога ко всем сказкам. Такое нарочитое повторение предает повествованию новый, более серьезный, мрачный и зловещий тон.
В то же время эпилог прямо перекликается с открывающей сказочный цикл «Ретортой», где Гомозейка также оказывается в своего рода «ящике с куклами», выступая и в качестве «кукловода», распоряжающегося чужими судьбами. Он вполне мог бы повторить слова Вертера:
«…И все мне кажется, что я перед ящиком с куклами; гляжу, как движутся передо мною человечки и лошадки; часто спрашиваю себя, не обман ли это оптической; играю с ними, или, лучше сказать, мною играют, как куклою…» (57).
Однако окончание размышлений героя Гете чуждо чудаковатому и увлеченному алхимическими опытами Гомозейке, но, вероятно, было близко его автору:
«…иногда, забывшись, схвачу соседа за деревянную руку и тут опомнюсь с ужасом…» (57).
Вместе с тем мотив несостоявшегося рукопожатия появлялся и в начале цикла, в признании Гомозейки, что он «боится протягивать свою руку знакомому, чтобы знакомый в рассеянности не отвернулся» (8).
В фантасмагорическом мире сказок раз за разом стираются границы между живым и мертвым, личностью и вещью. Начиная с предисловий издателя и сочинителя, через весь цикл проходит мотив овеществления, оказываясь одним из центральных. За трактатом о научном познании и важности учитывать душу вещей следуют картины алхимической «дистилляции» великосветской публики, которая оказывается и выносливее, и бесчувственнее неорганического вещества. Тут же является чертенок с латинским словарем и его затейливыми, превратившимися в текст полуживыми или же полумертвыми обитателями. Чудом подобной судьбы удается избежать самому сочинителю, не стремящемуся, однако, помочь своим товарищам по беде, относящемуся к ним как к полезным вещам. Фантасмагория сменяется сценой пропитанного культом вещей провинциального быта, повседневный ход которой прерывают фантастические события с изысканием владельца «мертвого тела», где последнее понимается исключительно как неодушевленный предмет. Далее сочинитель перескакивает на экзотику и живописует трагическую жизнь мохнатых пауков, посаженных неким естествоиспытателем в стеклянную банку. Отличающиеся сильными страстями, членистоногие переживают опыты над собой гораздо эмоциональнее, чем «дистиллируемое» в реторте светское общество. Сетования господина Ликоса сменяются изображением механистичного существования столичных чиновников и неожиданного инфернального нарушения этого слаженного механизма — нарушения, в котором, возможно, кроется залог преображения мертвенности жизни. Следующая сказка переносит читателя в мир старинной русской усадьбы, воспринимаемый глазами ребенка. Торжество вещного мира сменяется его разрушением. Но с другими сказками роднит эту вновь появляющийся мотив вторжения в повседневность неких таинственных сил, персонифицированных теперь в загадочном Игоше, встреча с которым станет важным уроком для юного рассказчика. Далее в «просто» сказке — история про оживающие и заявляющие о своей человечности вещи, одной из которых предстоит пережить грехопадение. Две заключительные сказки вновь переносят читателя в столицу, теперь в центре внимания оказывается «женский вопрос». Вначале напичканная басурманской «премудростью» девушка превращается в куклу, оживить которую не может даже любовь. А затем — в сказке «на изворот» — воскрешенная тысячелетним мудрецом красавица решается пожертвовать собою во имя бессердечного Кивакеля, персонифицированного механизма. Но ей не суждено будет повторить подвиг мудреца: чудо преображения ее супруга так и не случится, красавица зачахнет в тщетных попытках вдохнуть в него хотя бы немного «живой жизни». Так, начавшись как гротескная фантасмагория, сказки все более обрастают серьезными смыслами, что в финале подчеркивается дважды повторенной цитатой из письма гетевского Вертера.
П. Н. Сакулин, трактуя общий пафос «Пестрых сказок», стремится представить его в позитивно-назидательном ключе: «Кошмарные призраки исчезнут, фантасмагории рассеются, если люди освободят в себе поэтические стихии» [Саку-лин: 31]; «Здоровый славянский идеализм рано или поздно разрушит “нечестивые цепи иноземного чародейства”» [Са-кулин: 31]. Безусловно, в последней сказке мотив духовного преображения, оживления, раз-веществления становится центральным, пунктирно появлялся он и ранее (в «Сказке о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью…» или в «Игоше»). Пафос всего творчества Одоевского по сути своей христианский12: на первом месте у него отнюдь не сатира и социальная критика, не к преобразованиям законов и порядков призывает писатель прежде всего, но к воскресению мертвых душ, погрязших в быте, закосневших в бесконечных бумагах, чинах, «просыпающихся» разве что за картежной игрой. В этом Одоевский близок Гоголю и Достоевскому.
Но все же сведение общего посыла «Пестрых сказок» к столь однозначным назидательным сентенциям представляется спорным. Этому сопротивляется и финал последней сказки, и мрачный пафос размышлений гетевского героя, в который окрашиваются в финале «Арлекинские сказки»13, как назовет их Одоевский в письме А. И. Кошелеву. И если «Миргород» Гоголя заканчивается словами «Скучно на этом свете, госпо-да!»14, то у Одоевского выходит: «Страшно на этом свете…». Недаром в том же письме Кошелеву он признавался, что писал сказки «в самые горькие минуты»15 жизни. Мертвенность мира еще далеко не преодолена, не освобождены из косного плена ни вещи, ни люди, которые все более и более погрязают в повседневности, подчиняя все своей мертвящей воле. И хотя Одоевский свято верил в то, что «как ни вертись, от души не отвертишься»16, но и до полного воскресения и преображения в художественном мире «Пестрых сказок» все же еще далеко.
Вместе с тем в целом безрадостная картина в этически напряженном мире героев по-своему преодолевается в эстетической реальности цикла. Иными словами, прозаика «кукол»-вещей преображается поэтикой (творческим усилием) автора: «форма» (художественное построение цикла) преобразует «содержание» (прозу изображенной в нем жизни), и если в мире героев мертвенность по преимуществу остается непреодоленной, то в избытке авторского видения, в его (а затем и в читательском) эстетическом переживании происходит преображение этой тотальной овнешненности — и самим фактом ее осознания, и юмористической ее огласовкой, и напряженной передачей вечной поэзии бытия, в неисчерпаемости которой открывается мерцающая возможность для преодоления ове-ществленности мира и воскресения «живой жизни».
Список литературы "Овеществление" как циклообразующая константа в "Пестрых сказках" князя В. Ф. Одоевского
- Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. М.: Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. С. 6-300.
- Есаулов И. А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М.: РГГУУ 1995. 100 с.
- Есаулов И. А. Художественный мир Достоевского в свете оппозиции «юродство / шутовство» и позиция Бахтина (на материале фантастического рассказа «Кроткая») // Достоевский и мировая культура: альманах. СПб.: Серебряный век, 2018. № 36. С. 75-86.
- Есаулов И. А. Родное и вселенское в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя: Парафрастический контекст понимания // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 1. С. 175-210 [Электронный ресурс]. URL.: http:// poetica.pro/files/redaktor_pdf/1582894223.pdf. (22.05.2021). DOI: 10.15393/ j9.art.2020.7322
- Есаулов И. А. Каменноостровский цикл А. С. Пушкина как пасхальный текст: мимесис, парафрасис, катарсис (Статья первая) // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 88-123 [Электронный ресурс]. URL.: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1613722066.pdf (22.05.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9002 (а)
- Есаулов И. А. Каменноостровский цикл А. С. Пушкина как пасхальный текст: мимесис, парафрасис, катарсис (Статья вторая) // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 2. С. 56-80. [Электронный ресурс]. URL.: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1620230637.pdf (22.05.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9602 (b)
- Есаулов И. А., Киселева И. А., Сытина Ю. Н., Степанян Е. В., Коршунова Е. А., Михаленко Н. В., Певцов Г. Д., Гильманов В. Х. Структуры повседневности и творческий эксперимент в русской словесности, философии, культуре (V Балтийский международный семинар-дискуссия) // Вестник Московского государственного областного университета. 2015. № 3 [Электронный ресурс]. URL: https://evestnik-mgou.ru/ ru/Articles/View/703 (22.05.2021).
- Захаров В. Н. Символика христианского календаря в произведениях Достоевского // Новые аспекты в изучении Достоевского. Петрозаводск: ПетрГУ 1994. С. 37-49.
- Захаров В. Н. Имя автора — Достоевский. Очерк творчества. М.: Ин-дрик, 2013. 456 с.
- Иванова М. Г. Архетип героя как центральный архетип культуры (на примере наследия В. Ф. Одоевского) // Литература и философия: от романтизма к ХХ веку. К 150-летию со дня смерти В. Ф. Одоевского / отв. ред. и сост. Е. А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2019. С. 432-437.
- Исаев С. Г. Литературные авторские маски и превращения // Балтийский филологический курьер. 2011. № 8. С. 190-203.
- Киселев В. С. Телеология «Сочинений князя В. Ф. Одоевского» (1844): принципы составления, композиция, жанровое целое // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2008. № 2 (3). С. 45-62.
- Литература и философия: от романтизма к ХХ веку. К 150-летию со дня смерти В. Ф. Одоевского / отв. ред. и сост. Е. А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2019. 660 с.
- Ляпина Л. Е. Жанровая специфика литературного цикла как проблема исторической поэтики // Проблемы исторической поэтики. 1990. Т. 1. С. 22-30 [Электронный ресурс]. URL: http://poetica.pro/journal/article. php?id=2341 (22.05.2021). DOI: 10.15393/j9.art.1990.2341
- Маркович В. М. Дыхание фантазии // Русская фантастическая проза эпохи романтизма (1820-1840 гг.): сб. произведений / сост. и авторы коммент. Карпов А. А. и др.; авт. вступ. ст. Маркович В. М.; Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. С. 5-47.
- Назиров Р. Г. О месте В. Ф. Одоевского в русской литературе // На-зировский архив. 2017. № 4 (18). С. 12-54.
- Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель: в 2 т. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1913. Т. 1. Ч. 2. 479 с.
- Сахаров И. В. О жизни и творениях В. Ф. Одоевского // Одоевский В. Ф. Сочинения: в 2 т. М.: Худож. лит., 1981. Т. 1. С. 5-28.
- Сытина Ю. Н. Евангельский текст и подтекст в повестях И. И. Панаева «Дочь чиновного человека» и В. Ф. Одоевского «Живописец» // Проблемы исторической поэтики. 2017. Т. 15. № 4. С. 69-83 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1512470126.pdf (22.05.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2017.4721
- Сытина Ю. Н. В поисках «положительно прекрасного» героя: князь Мышкин Ф. М. Достоевского и Сегелиель В. Ф. Одоевского // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 173-193. [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1612711387.pdf (22.05.2021). DOI: 10.15393/j9.art.2021.8862 (а)
- Сытина Ю. Н. О неожиданных гранях образов чиновников у Н. В. Гоголя и В. Ф. Одоевского // Научный диалог. 2021. № 2. С. 231-243. DOI: 10.24224/2227-1295-2021-2-231-243 (b)
- Топоров В. Н. Вещь в антропоцентрической перспективе (апология Плюшкина) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс: Культура, 1995. С. 7-111.
- Турьян М. А. «Пестрые сказки» Владимира Одоевского // Одоевский В. Ф. Пестрые сказки. СПб.: Наука, 1996. С. 131-168.