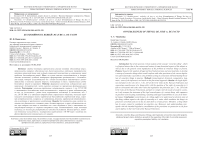Ownerlessness of things: de jure vs. de facto
Автор: Vinichenko Y.V.
Журнал: Вестник Пермского университета. Юридические науки @jurvestnik-psu
Рубрика: Гражданское и предпринимательское право
Статья в выпуске: 2 (40), 2018 года.
Бесплатный доступ
Introduction: the article presents critical analysis of the concept "ownerless thing", which is of topical interest due to the controversial nature of some theoretical aspects of the subject as well as due to the general social significance of the problem of ownerless things at present. Purpose: based on the analysis of legal and doctrinal provisions and case materials, to develop a concept of ownerless things which would conform with other provisions of the current legislation and would make it possible to solve problems arising in connection with determining the future of ownerless things in practice. Methods: formal-logical, historical, comparative, dogmatic; some of the inferences are based on the functional approach. Results: the legal definition included in the rule of Cl. 1 Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation and connecting ownerlessness of a thing solely with the question of the right of ownership to it fails to correspond with some other rules and regulations (in particular, par. 2 Art. 236 of the Civil Code of the Russian Federation) and fails to comply with the needs of modern society, as it only assumes the statement of the legal ownerlessness of a certain thing, with vagueness in questions of its keeping, maintaining, repairing and legal responsibility in case of its harmful impact. Conclusions: ownerlessness of a thing ought to be understood as de facto state of this thing, without regard to the right of ownership to it, under which condition, the thing is in possession of nobody and (or) it has no claim from a certain person. Therefore, a thing which has its owner cannot be considered an ownerless one. Moreover, such understanding corresponds with the intended legislative consolidation of the provisions on possession as de facto and its defense in the Civil Code of the Russian Federation.
Ownerless thing, ownerlessness of things, state registration of ownerless immovable property, abandoned property items, grounds for the acquisition of the right of ownership, possession, acquisitive prescription, civil circulation, dereliction, liability
Короткий адрес: https://sciup.org/147227554
IDR: 147227554 | УДК: 347.232.11 | DOI: 10.17072/1995-4190-2018-40-225-239
Текст научной статьи Ownerlessness of things: de jure vs. de facto
It appears indisputable that legal concepts, categories, framework, rules and institutes, from time to time becoming the focus of interest for legal scholars, get their doctrinal development in conformity with socioeconomic, ideological and other conditions and needs of the modern society and state. Consequently, changes in the social context make particular issues go to the foreground, including those which may have been the subject of the scientific analysis before.
This observation fully concerns the problem of ownerlessness of things as well.
Pre-revolutionary Russian specialists in civil law, being still enthusiastic about Roman law, as D. I. Meyer mentions [11, p. 384], considered ownerless things (also known as “waif’) in accordance with the legal thought of the ancient Roman private law, basically within the scope of the issue of gaining possession as a primary method of acquisition of title, and included in this category, in particular, fish in water bodies, shells, forest fruits, вещи (см., например, [4, с. 305 и след.; 8, с. 269; 14, с. 306, §§ 51–55; 20, с. 253–262]) (относительно последних отмечалось, что на завладении ими «основывается немаловажный промысел тряпичников» [20, с. 254])1. Что касается
Свои нюансы имела интерпретация понятия «бесхозяйные вещи» в так называемый советский период. В частности, в первые годы власти Советов весьма характерным «для эпохи военного коммунизма с ее потребительскими коммунами, распределительными органами и пр.» признавалось первое в советском праве определение бесхозяйного имущества, содержащееся в декрете Совета народных комиссаров от 3 ноября 1920 г., определяющее это имущество как обращения: 20.12.2017)). Ранее, до внесения изменений в ФГК в 2004 г., о бесхозяйном имуществе говорилось также в ст. 539 ФГК, в которой указывалось, что любое невостребованное и бесхозяйное имущество, а также то, что принадлежит умершим, не оставившим наследников, или наследники которых от него отказались, является публичной собственностью государства. Во французской юридической литературе в данной связи отмечается, что, прочитав статьи 539 и 713, согласно которым имущество, которое не имеет хозяина, принадлежит госуд арству, можно подвергнуть сомнению, что существует имущество, которое никому не принадлежит (а завладение заключается в овладении вещью, которая не принадлежит никому, с намерением сделаться ее собственником), однако указывается, что на самом деле эти тексты касаются только недвижимого имуще ства и наследования. Таким образом, остается одна область применения завладения – оккупация движимого имущества, которое никогда не имело хозяина, и движимого имущества, оставленного его собственником («Lʼoccupation consiste dans le fait de prendre possession dʼune chose qui nʼappartient à personne avec lʼintention de sʼen render propriétaire. Y a-i-il des biens qui nʼappartiennent à personne? On pourrait en douter à la lecture des articles 539 et 713, suivant lesquels les biens qui nʼont pas de maître appartiennent à lʼÉtat. Les biens auraient donc toujours un propriétaire qui, à défaut de tout autre, serait lʼÉtat. Mais, en réalité, ces textes ne visent que les immeubles et les successions. Il reste donc un domaine dʼapplication à lʼoccupation. Occupation des meubles qui nʼont jamais eu de maître…Occupation des meubles abandonnés par leur maître [21, pp. 301–302]). Исходя из этого, к нормам о бесхозяйных вещах (завладении ими) в ФГК следует отнести также правила ст. 715 о праве охоты и рыбной ловли, ст. 717 о морских продуктах, ст. 716 о кладе, расположенных в разд. «Общие положения» кн. 3 «О различных способах приобретения права собственности».
wild animals open for free acquisition, as well as treasure troves, things lost and “abandoned” by someone1 [see, for instance: 4, p. 305 and the next
-
1 Contemporary foreign rules of law have similar understanding of ownerless things. In particular, the rules on ownerless things denoted by the term “ herrenlose Sache ” are contained in Subsection 5 “Acquisition” Section 3 “Acquisition and Loss of Ownership of Movable Things” Book 3 “Property Law” of the German Civil Code. The Rule of Clause 1 § 958 of the German Civil Code states that anyone who takes possession of ownerless movable things as their owner acquires title to them (“Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, er-wirbt das Eigentum an der Sache”. Access to the original text of the German Civil Code [Bürgerliches Gesetzbuch] is on the site Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Available at: http://www.gesetze -im-internet.de/bgb/index.html #BJNR001950896BJNE099002377 (accessed 20.12.2017). The regulations of § 560 of the German Civil Code concern wild animals, which are considered ownerless while they are in the wild; it is specified that a domesticated animal becomes ownerless if it loses the habit of returning to the place intended for it (“Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in der Freiheit befinden”; “Ein gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt, an den ihm bestimmten Ort zurückzu-kehren”). According to § 959 of the German Civil Code, movable things become ownerless if their owner stops owning the thing with intent to surrender legal title to it (“Eine bewegliche Sache wird herrenlos, wenn der Eigentümer in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache aufgibt”). The category of ownerless property – “ biens vacants ” – is connected with occupancy (acquisition) in France too. In this respect, ownerless property is considered as property without an owner, which does not belong to persons either because the owner has renounced it or because the owner died without leaving an heir. ( “Biens vacants: biens sans maître, cʼest-à-dire qui nʼappartiennent plus à personnes, soit parce que le proprié-taire les a abandonés, soit parce que le propriétaire est décédé sans laisser dʼhéritier” [21, p. 754]). The respective expression (“les biens qui n'ont pas de maître appartiennent”) is used in Art. 713 of the French Civil Code, which states that ownerless property belongs to the community in whose territory it is situated, and if the community refuses to exercise the right, the title eventually passes to the state by virtue of law (the regulation of the article literally states the following: “Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de la quelle ils sontsitués. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscali-té propre. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits en l’absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscali-té propre renonce à exercer ses droits”). Access to the original text of the French Civil Code [Code civil] is on the site: Lé-gifrance, le service public del΄accèsaudroit. Available at: http://legifrance.gouv.fr/affichCod e.do?dateTexte=20150924& cidTexte=LEGITEXT000006070721 (accessed 20.12.2017). Earlier, before the amendments were introduced into the French Civil Code in 2004, ownerless property was also mentioned in Art. 539 of the French Civil Code, which stated that any unclaimed and ownerless property, as well as property which belongs to the deceased who have not left heirs or the heirs of whom have renounced it, is considered the public domain of the state. In this regard, it is mentioned in the French
one; 8, p. 269; 14, p. 306, §§ 51–55; 20, pp. 253– 262] (as far as the latter are concerned, it was mentioned that a significant trade of ragmen was based on acquisition [20, p. 254]). As far as immovable things, including land plots, are concerned, as a consequence of Ordnance survey, which began with publishing of the Imperial proclamation on ordnance survey throughout the Empire in Russia on September 19, 1765, estimated as “the government’s care of making ownerless property public” [14, p. 457], legal uncertainty with regard to this category of things was reduced significantly, however, due to ‘the abundance of land, though situated, for instance, in Siberia, in Tomsk and Irkutsk governorates”, vast spaces of Russia [14, pp. 458– 459], was not eliminated completely, for which reason the possibility of acquisition of vacant lands was acceptable, but it was attributed to the institute of prescriptive ownership by scholars.
Understanding of the “ownerless things” notion had its peculiarities in the so called Soviet period. In particular, during the early years of the Soviet regime, the first definition of ownerless property in Soviet law in the decree of the Council of People’s Commissars of November 3, 1920, defining this property as “property which is in no-one’s ownership or is in ownership of certain bodies without the knowledge of the respective central distributing body”, was considered quite typical legal literature that after reading Art. 539 and 713, according to which the property which has no owner belongs to the state, one can cast doubt on the fact that there is property which belongs to no-one (and occupancy consists in acquisition of a thing which does not belong to anyone, with intent of becoming its owner) but it is mentioned that these texts actually concern solely real property and succession. Thus, there is only one area left to apply acquisition – occupancy of movable things which have never had an owner, and that of movable things abandoned by their owner. ( “Lʼoccupation consiste dans le fait de prendre possession dʼune movable things qui nʼappartient à personne avec lʼintentiondesʼen render proprié-taire. Y a-i-il des biens qui nʼappartiennent à personne? On pourrait en douter à la lecture des Art.s 539 et 713, suivant lesquels les biens qui nʼont pas de maître appartiennent à lʼÉtat. Les biens auraient donc toujours un propriétaire qui, à défaut de tout autre, serait lʼÉtat. Mais, en réalité, ces textes ne visent que les immeubles et les successions. Il reste donc un domaine dʼapplication à lʼoccupation. Occupation des meubles qui nʼont jamais eu de maître…Occupation des meubles aban-donnés parleurmaître” [21, pp. 301–302]). Following this line of reasoning, rules of Art. 715 on sporting and fishery right, Art. 717 on seafood, Art. 716 on the treasure trove, found in Section “General Provisions” Book 3 “On Different Methods of Acquisition of Right of Property” should also be referred to regulations on ownerless things (their acquisition) in the French Civil Code.
«не находящееся ни в чьем обладании или находящееся в обладании определенных органов без ведома об этом соответствующего центрального распределительного органа» (см. [5, с. 728]). При этом отмечалось, что «эта характерная черта ярко проявляется и в примерном перечне видов бесхозяйного имущества: оставленное неприятелем на поле сражения, трофеи, эвакуированное без указания адресата… имущество, фактически оставленное его владельцем, пребывающим в безвестном отсутствии, а также имущество, владелец коего неизвестен и не может быть установлен» [5, с. 728– 729]. Очевидно, что речь шла исключительно о движимых вещах.
С принятием Гражданского кодекса РСФСР (далее – ГК РСФСР) 1922 г.1 понятие бесхозяйного имущества сначала было сужено: норма ст. 68 первоначальной редакции Кодекса устанавливала, что «имущество, собственник которого неизвестен (бесхозяйное имущество), переходит в собственность государства в порядке, установленном специальным законом»; однако уже три года спустя (в редакции ГК РСФСР от 7 декабря 1925 г.) расширена за счет причисления к бесхозяйному также имущества, которое не имеет собственника2.
В последующих отечественных законодательных актах определение бесхозяйного имущества осталось аналогичным (см.: ст. 32 Основ гражданского законодательства 1961 г.3, ст. 143 ГК РСФСР 1964 г.4); менялось лишь идеологическое обоснование. Так, в начале 90-х годов ХХ в. проблему бесхозяйного имущества связывали с таким «стержнем экономической политики», отмеченным в Отчетном докладе ЦК КПСС ХХVI съезду, как «умение полностью, целесообразно использовать все, что у нас есть» (см. [18, с. 1]), и в числе разновидностей бесхозяйного имущества указывали уже несколько иные
-
1 О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК от 11 нояб. 1922 г. (вместе с Гражданским кодексом РСФСР) //СУ РСФСР. 1922. № 71, ст. 904 (утратил силу). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
-
2 Буквально норма ст. 68 ГК РСФСР в указанной редакции гласила: «Бесхозяйное имущ ество, собственник которого неизвестен или которое не имеет собственника, переходит в собственность государства в порядке, установленном специальными законами» [5, с. 729].
-
3 Об утверждении Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик [Электронный ресурс]: Закон СССР от 8 дек. 1961 г. // Ведомости Верхов. Совета СССР. 1961. № 50, ст. 525 (утратил силу). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
-
4 Гражданский кодекс РСФСР [Электронный ресурс]: утв. Верхов. Советом РСФСР 11 июня 1964 г. // Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 1964. № 24, ст. 407 (утратил силу). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
виды вещей: затонувшее имущество, невостребованный багаж, задавненное имущество, бездокументарный груз и др. (см. [18, с. 10–12]). В учебной юридической литературе делался акцент на то, что, по советскому п раву, правило res nullius cedit primo occupant (если вещь никому не принадлежит, собственником вещи становится тот, кто первый ею завладеет) имеет значение при рыбной ловле, охоте, сборе ягод, грибов, «но здесь происходит не захват никому не принадлежащего имущества, а переход в порядке, установленном законом, государственного имущества в собственность отдельных лиц. Только в этом случае можно говорить о завладении как способе первоначального приобретения права собственности в советском гражданском обороте» [7, с. 398].
На современном этапе развития российского общества проблема бесхозяйности вещей обретает новое звучание: вследствие целой череды политических и социально-экономических событий, имевших место в нашем государств е (смены политико -экономической ф ормации и последовавшей за этим приватизации, в том числе научно -исследовательских, проектных и изыскательских организаций, колхозной и совхозной собственности, объектов коммунального хозяйства; ряда известных финансовых кризисов и др.), многие объекты, на которых когда-то осуществлялась экономическая и иная деятельность, по причине низкой рентабельности и ликвидности таких объектов, при отсутствии необходимой и привычной государственной поддержки, как следствие – финансовой несостоятельности их собственников, на сегодняшний день оказались в ветхом состоянии либо полной разрухе и запустении. Сопряженные с наличием таких объектов риски причинения вреда окружающей среде вызвали оправданную озабоченность и интерес специалистов в области экологического права 5, анализирующих понятие бесхозяйных объектов в контексте проблемы ликвидации накопленного вреда окружающей среде (см., например, [6]). Не менее остро встали вопросы о бремени содержания, ремонта и юридической ответственности за вредоносное воздействие, о налогообложении и бухгалтерском учете таких бесхозяйных объектов, как электрические, тепловые,
-
5 Благодаря им Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс») был дополнен гл. XIV.1. «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» (изменения введены федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 254-ФЗ), в формулировке нормы ст. 80.1 которой используется выражение «бесхозяйные объекты капитального строительства».
“for the epoch of War Com munism with its consumer communes, distributing bodies, etc. [see: 5, p. 728]. It was also mentioned that “This feature is most pronounced in the preliminary list of ownerless property types too: things abandoned by the enemy on the battle field, booty, towed away without an address…property actually abandoned by its owner, whose whereabouts are unknown and who cannot be identified” [5, pp. 728–729]. Obviously, it was referred solely to movable things.
After the introduction of the Civil Code of the Russian Soviet Federative Socialist Republic in 19221, the notion of ownerless property was narrowed first: the regulation of Art. 68 of the original code stated that “property whose owner is unknown (ownerless property) passes into the ownership of the state in accordance with the procedures established by the specific law”; however, three years later (as in force in the Civil Code of the Russian Soviet Federative Socialist Republic of December 7, 1925) was broadened by considering ownerless also the property which has no owner2.
The definition of ownerless property remained the same in the further Russian legislative acts (see: Art. 32 of the Basics of Civil Legislation of 19613, Art. 143 of the Civil Code of the Russian Soviet Federative Socialist Republic of 19644); the only thing to be changed was the ideological substantiation. For instance, at the beginning of the 1990s, the problem of ownerless property was associated with such “core of the economic policy” mentioned in the Summary report of Central Committee of the Communist Party of the USSR to Congress ХХVI as “an ability to use everything we have fully and efficiently” [see: 18, p. 1] and slightly different kinds of things were already mentioned among the varieties: sunken property, unclaimed baggage, property barred by limitation, uncertificated cargo and others [see: 18, pp. 10–12]. It is emphasized in the legal educational literature that according to the Soviet law, the rule res nullius cedit primo occupant (if a thing does not belong to anyone, the first person to gain possession of it becomes its owner) is significant when fishing, hunting, picking berries and mushrooms, “but it is not occupancy of ownerless property to take place here, but transfer of state-owned property into individuals’ ownership under the procedure established by law. Only in this case, one can speak of occupancy as a method of original acquisition in the Soviet civil circulation” [7, p. 398].
At the contemporary stage of the development of Russian society, the problem of ownerl essness of things gets new understanding: due to a series of political and socioeconomic events, which took place in our state (the change of political-economic formation and the following privatization, including that of scientific research, engineering companies and survey contractors, collective farm and state farm property, community facilities; a series of famous financial crises, etc.) a lot of facilities, on the basis of which economic and other kinds of activity were carried out, are now in the state of dilapidation, utter desertion and are falling in ruins due to their low profitability and liquidity in the absence of necessary and usual support of the state, and, as a consequence, financial insolvency of their owners. Risks of inflicting harm to the environment related to the presence of such facilities sparked justified concern and interest of specialists in the field of environmental law5, analyzing the notion of ownerless facilities within the framework o f the problem of liquidation of the accumulated harm for the environment [see, for instance: 6]. Also, the dramatic issues of disutility of maintenance, reconstruction and liability for harmful influence, taxation and registration of such ownerless facilities as водопроводные и канализационные сети (см., например, [13; 17]).
Указанные обстоятельства позволяют констатировать, что проблема бесхозяйности вещей, продолжительное время получавшая теоретическую разработку цивилистами, в настоящее время обретает междисциплинарный характер, попадая в предметное поле и иных отраслей науки. При этом последние исходят из того понимания бесхозяйных вещей, которое выработано гражданско-правовой доктриной и ныне закреплено в ст. 225 Гражданского кодекса РФ 1 (далее – ГК РФ).
Однако в данной связи возникает вопрос о том, насколько «пригодно» имеющееся легальное определение понятия бесхозяйной вещи, получившее закрепление в отечественном гражданском законодательстве более 20 и уточненное около 10 лет назад2, для решения тех задач, которые существуют на практике сегодня. Современные российские ученые данный вопрос обходят молчанием, критическому анализу собственно понятие «бесхозяйная вещь», как пра-вило3, не подвергают, верификацию его соответствия актуальной познавательной ситуации не предпринимают.
Устранить данный пробел в современном учении о бесхозяйности вещей и призвана настоящая работа.
I. «Бесхозяйная вещь»: de jure
Легальное определение бесхозяйной вещи содержится в норме п. 1 ст. 225 ГК РФ, в соответствии с которой, повторим, «бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права соб-
-
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон РФ от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
-
2 В первоначальной редакциичастипервой ГК РФ, принятой 30 ноября 1994 г., норма п. 1 ст. 225 определяла бесхозяйную вещь как «вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь (курсив наш. – Ю. В. ), от права собственности на которую собственник отказался». С принятием Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных отношений» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 30, ч. 1, ст. 3597) приведенное определение было незначительно скорректировано: слова «либо вещь» заменены на выражение «либо, если иное не предусмотрено законами».
-
3 Исключение составляет, например, статья М. В. Рудова, в которой автор указывает на несогласованность формулировки п. 1 ст. 225 ГК РФ с положениями ст. 234 ГК РФ, отмечая, что имеющийся подход к определению бесхозяйной вещи «в известной степени нивелирует давность владения как основание возникновения права собственности» [16, с. 91].
ственности на которую собственник отказал-ся»4. Данное определение позволяет сделать ряд выводов:
– во-первых, о законодательном признании наличия трех групп (видов) бесхозяйных вещей: 1) вещей, которые не имеют собственника, 2) вещей, собственник которых неизвестен и 3) вещей, от права собственности на которые собственник отказался;
– во-вторых, о том, что под «хозяином» вещи отечественный законодатель имеет в виду только собственника вещи.
Анализ положений о бесхозяйных вещах в системной связи с иными установлениями ГК РФ (помещение законодателем соответствующих норм в гл. 14 ГК РФ «Приобретение права собственности», а не в гл. 6 «Общие положения» подраздела 3 Кодекса «Объекты гражданских прав») дает основание для еще одного немаловажного вывода: категория «бесхозяйная вещь» в гражданском праве не столько указывает на существование определенной группы вещей, имеющих особый правовой режим5, сколько имеет иное значение, а именно нормы о бесхозяйных вещах функционально предназначены для правовой регламентации порядка приобретения права собственности .
В данной связи одним из ключевых с точки зрения интерпретации понятия «бесхозяйная вещь», на наш взгляд, является вопрос о моменте , начиная с которого ту или иную вещь следует считать бесхозяйной ,а именно является ли им момент обнаружения такой вещи либо, для недвижимых вещей, – принятие их на учет Росреестром (п. 3 ст. 225 ГК РФ), либо момент наступления иного юридического факта, в частности судебного решения о признании бесхозяйной движимой вещи, о признании права муниципальной или государственной собственно-
-
4 Можно заметить, что в ГК РФ в редакции проекта Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в о тдельные законодательные акты Российской Федерации», принятого Государственной Думой Федерального Собрания РФ в I чтении 27 апр. 2012 г. (далее – ГК РФ в редакции Проекта) (URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= doc;base=PRJ;n=94778) определение бесхозяйной вещи оставлено без изменений (см. п. 4 ст. 240 ГК РФ в редакции Проекта, устанавливающей основные положения о приобретении права собственности). Забегая вперед, отметим, что планируется сохранить и порядок приобретения права собственности на такие вещи (см. в названном акте: ст. 245 «Приобретение права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь», ст. 258 «Приобретение права собственности на бесхозяйные движимые вещи», ст. 250 «Движимые вещи, от которых собственник отказался»).
-
5 То есть порядок регулирования, выраженный «в характере и объеме прав по отношению к объекту» [1, с. 374).
electrical power, heat, water supply and sewerage networks came up [see, for instance: 13; 17].
The above mentioned circumstances let us state that the problem of ownerlessness of things, which has been researched theoretically by specialists in civil law for a long time, is becoming interdisciplinary nowadays, finding its way into the subject field of other sciences. In addition, the latter are based on the notion of ownerless things formulated by the civil doctrine and now formalized in Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation1.
However, a question arises as to how “appropriate” the existing legal definition of an ownerless thing is to solve the problems actually existing today? It was formalized in Russian civil legislation more than 20 years ago and specified about 10 years ago2, Contemporary Russian scientists elide this problem and, as a rule3, do not analyze the very notion of “an ownerless thing” critically and do not make attempts to verify its conformity to the actual epistemic situation.
The present work is aimed at filling this lacuna in the contemporary studies.
-
I. “An Ownerless Thing”: de jure
The legal definition of an ownerless thing is given in the regulation of Clause 1 Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation, according to which, we will repeat, “an ownerless thing is a thing which has no owner or whose owner is unknown or, if not specified otherwise by the laws, a thing the owner has surrendered the legal title to”4.
The given definition allows us to make a number of conclusions:
– firstly, about the legislative recognition of the existence of three groups (types) of ownerless things: 1) things which do not have an owner 2) things whose owner is unknown and 3) things whose owner has surrendered the legal title to;
– secondly, about the fact that Russi an legislator means solely the proprietor of the thing by “the owner”.
The analysis of the provisions on ownerless things in conjunction with other regulations of the Civil Code of the Russian F ederation (the legislator ’s decision to place the respective regulations into Chapter 14 of the Civil Code of the Russian F ederation “Acquisition of the Right of Ownership” instead of Chapter 6 “General Provisions” of sub-section 3 of the Code “The Objects of Civil Law Rights”) substantiates one more significant conclusion: regulations on ownerless things are functionally intended for legal regulation of the procedure for title acquisition rather than for just indicating a certain group of things which have a special legal regime5.
In this context, one of the key issues from the point of view of understanding the notion “an ownerless thing”, is, in our opinion, the moment, from which a thing should be considered ownerless and, namely, whether this moment is when the thing was found, or, in case of immovable things, their registration by the Federal Agency for State Registration (Clause 3 Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation), or the moment of any other legal fact taking place, in particular, of a judicial decision to consider an immovable thing ownerless, of recognition of the right of municipal or state ownership tion in the Draft Federal Law No. 47538-6 “On Ame ndments into Parts One, Two, Three and Four of the Civil Code of the Russian Federation and also into Certain Legislative Acts of the Russian Federation”, introduced by the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in the first reading on 27 April 2012 (further – the Civil Code of the Russian Federation in the version of draft law). Available at : http://base. ;base=PRJ;n=94778) (see Clause 4 Art. 240 of the Civil Code in the version of draft law, e stablishing the main terms and conditions on acquisition of title). Preempting ourselves, we will mention that it is intended to preserve also the procedure for acquisition of title to such things (see in the mentioned act: Art. 245 “Acquisition of title to ownerless immovable thing”, Art. 258 “Acquisition of title to ownerless movable things”, Art. 250 “Movable Things the Owner Has Renounced”).
5 i. e. the procedure of regulation expressed in “nature and scope of rights in relation to the object” [1, p. 374].
2. Движимые вещи, собственник которых неизвестен 5
сти на бесхозяйную недвижимую вещь (абз. 2 п. 2 ст. 226, абз. 2 п. 3ст.225 ГК РФ, гл. 33 Гражданского процессуального кодекса РФ 1 (далее – ГПК РФ) или истечение установленного законом срока (п. 1 ст. 228 ип. 1 ст. 231 ГК РФ). На законодательном уровне данный вопрос не решен; определяется лишь момент возникновения права собственности на такие объекты.
Рассмотрим каждую из групп «бесхозяйных» вещей с указанных позиций.
1. Вещи, которые не имеют собственника
По нашему убеждению, таких вещей на современном этапе развития общества не суще-ствует2. В частности, вещь, появившаяся в результате деятельности человека, поступает либо в собственность создавшего ее лица, либо в собственность лица, являющегося собственником материала, из кот орого эта вещь изготовлена. И до тех пор, пока данная вещь будет физически существовать, будет сохраняться и право собственности на нее; со временем будут лишь меняться обладатели этого права. Другой вопрос, что не всегда возможно достоверно установить собственника вещи. Но, полагаем, не вызывает сомнений, что вещь, однажды созданная человеком, переходит затем к его наследникам, а при их отсутствии – к государству, как выморочное; когда вещь подпадает под признаки клада, то право собственности на нее в силу закона может возникнуть у иных лиц.
Отсюда следует, что если и существуют вещи, не имеющие собственника, то ими могут быть лишь такие обладающие потребительной стоимостью объекты материального мира, которые созданы природой. К ним, в частности, можно отнести: землю, воду, растения, животных. Но и они, как показывает анализ современного российского законодательства, не могут быть бесхозяйными. Являющиеся природными ресурсами земля, добытые из недр полезные ископаемые, вода, лес, при отсутствии права частной или муниципальной собственности на них, принадлежат государству 3. Аналогичное правило установлено в отношении животных: дикие животные, находящиеся в состоянии естественной свободы, являются государственной собственностью4; животные, признаваемые плодами, по общему правилу принадлежат собственнику плодоносящей вещи (ст. 136 ГК РФ).
К этой группе можно отнести потерянные вещи, безнадзорных животных, клад.
На наш взгляд, подобные вещи, кроме клада (который из начально презюмируется не имеющим собственника), допустимо рассматривать в качестве бесхозяйных не ранее чем по окончании срока, необходимого для установления собственника вещи либо иного лица, имеющего право получить ее. В соответствии с нормами п. 1 ст. 228 ип. 1 ст. 231 ГК РФ, это шестимесячный срок с момента заявления о находке вещи или о задержании животного в полицию либо в орган местного самоуправления.
В течение данного времени у заинтересованных лиц отсутствуют сведения о собственнике определенной вещи, что, однако, полагаем, не делает эту вещь бесхозяйной и позволяет лишь говорить о ней как о вещи, собственник которой не установлен. Хозяином вещи продолжает оставаться прежний собственник6, который в рамках срока, отведенного законом как раз для for an ownerless thing (Paragraph 2 Clause 2 Art. 226, Paragraph 2 Clause 3 Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation, chapter 33 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation1 or expiry of the term defined by law (Clause 1 Art. 228 and Clause 1 Art. 231 of the Civil Code of the Russian Federation). This problem has not been solved in terms of legislation; solely the moment of the emergence of the ownership right to such objects is defined.
Let us take a closer look at each group of “ownerless things” from the above mentioned perspectives.
1. Things Which Do Not Have an Owner
In our opinion, there are no such things at the contemporary stage of the society development2. In particular, a thing which appeared as a result of man’s activity, comes into ownership of the person who created it or into ownership of the person who owns the material it was made of. And as long as this thing actually exists, the title to it will be preserved; solely the owners of the title will eventually change. The other problem is that it is not always possible to conclusively identify the owner of the thing. However, we believe it to be undoubtful that a thing once created by man, passes then to his successors and, in case he does not have any, to the state as res caduca; when a thing falls under the category of treasure trove, other persons can acquire title by virtue of law.
Therefore, even if there are things which have no owner, they can include solely objects of the tangible world which have value in use and are created by nature. They can, in particular, include land, water, plants, animals. However, they, as shown by the analysis of the contemporary Russian legislation, cannot be ownerless either. Being natural resources, land, mineral deposits mined from the Earth’s interior, water, timber, in the absence of right of private and municipal ownership to it, belong to the state3. A similar rule is prescribed in
1 The Civil Procedure Code of the Russian Federation No. 138-FZ of November 14, 2002 (as amended of 28.12.2017). Access from the legal reference system “ConsultantPlus”.
2 The idea of ownerless things, as a rule missing in the Civil Code, is not new and has already been substantiated in legal literature, pre-revolutionary as well. For example, D.I. Meyer, criticizing division of methods of title acquisition into “original” (“primary”) and “derivative”, mentioned that “there are no things belonging to nobody in our legal routine, and if they exist somewhere in the world, they are completely antithetical to legal definitions, like, for instance, planets” [11, p. 382].
3 See: Clause 1, Art. 16 of the Land Code of the Russian Federation No. 136-FZ of October 25, 2001 (as amended on
2. Movable Things Whose Owner is Unknown531.12.2017). Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2001. No. 44. Art. 4147; Art. 1.2 of the Russian Federation Law No. 2395-1 “On Subsoil” of 21 February 1992 (as amended on 30.09.2017). Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 1995. No. 10. Art. 823; Art. 8 of the Water Code of the Russian Federation No. 74-FZ of June 3, 2006 (as amended on 29.07.2017). Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2006. No. 50. Art. 5278); Art. 6, 8 of the Forest Code of the Russian Federation No. 200-FZ of December 4, 2006 (as amended on 29.12.2017). Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 2006. No. 50. Art. 5278)
regards to animals: wild animals in their natural free environment are in the ownership of the state4; according to the general rule, animals considered fruits belong to the owner of the fruitbearing thing (Art. 136 of the Civil Code of the Russian Federation).
This group can include lost things, stray animals, treasure troves.
In our opinion, similar things, except for treasure trove (which is initially presumed not to have an owner), can be considered ownerless not earlier than the expiry of the term necessary to identify the owner of the thing or another person having title to it. According to regulations of Clause 1 Art. 228 and Clause 1 Art. 231 of the Civil Code of the Russian Federation, this is a period of six months from the moment of reporting finding the thing or detention of the animal to the police or the local government body.
During this time, interested persons have no information about the owner of a certain thing which, as we suppose, does not make this thing ownerless and solely allows us to speak of it as of a thing whose owner has not been identified. The previous proprietor of the thing continues to be its owner6, who can be identified or can claim title to the thing within the term defined by law for his
4 Art. 1, 4 of Federal Law No. 52-FZ “On Wildlife” of April 24, 1995 (amended 03.07.2016). Collection of Legislative Acts of the Russian Federation. 1995. No. 17. Art. 1462.
5 It is relevant to consider the issue of “ownerless” real estate separately, taking into account peculiarity of the established procedure for acquisition of title to it, and namely, its obligatory preliminary state registration as ownerless.
6 This also concerns cases of selling a perishable thing or a thing the storage expenses of which are incommensurably great compared to its value by the person who has found it, described in Paragraph 2 Clause 3 Art. 227 of the Civil Code of the Russian Federation: title to the thing sold passes to its acquirer from the so far unknown owner of the thing, but by no means, from the person who has found it. According to the law, he solely has a right to sell it and, in case of identification of the person who has lost the thing, the money received from the sale of the found should be returned to the person.
3. Движимые вещи, от которых собственник отказался
его (собственника) установления, может быть обнаружен или может сам заявить о своем праве на вещь1. И только если этого не произойдет, соответствующую вещь можно считать бесхозяйной; однако она тут же поступает в собственность лица, нашедшего вещь (безнадзорные животные – в собственность лица, у которого животное находилось на содержании и в пользовании), либо в муниципальную собственность (ст. 228, п. 1 ст. 231 ГК РФ).
Таким образом, с формально -юридической точки зрения бесхозяйной та или иная движимая вещь, собственник которой неизвестен, является лишь в период между окончанием предусмотренного законом срока для установления (прежнего) собственника и возникновением права собственности на данную вещь у нового собственника, т. е. столь мизерный период времени, что практическая возможность выявления и целесообразность выделения данного вида «бесхозяйных» вещей представляются сомнительными.
Не останавливаясь на вытекающей из положений ст. 226 ГК РФ градации таких вещей (именуемых законодателем «брошенными») по критерию «ценности»2, укажем, что ключевым в вопросе о их бесхозяйности, на наш взгляд, является норма абз. 2 ст. 236 ГК РФ,в соответствии с которой отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права собственно-
1 Это признается и в доктрине, в том числе зарубежной. Так, французские ученые П. Вуарен и Г. Губо отмечают, что у потерянных объектов есть собственник, который может появиться и потребовать свое имущество,и заключают: «Таким образом, нашедший вещь не становится собственником вследствие завладения» («…les objets perdus (appelés: épaves). Ceux-ci ont un propriétaire, qui pourra se manifester et réclamer son bien. Lʼinventeur [inventeur=celui qui trouve] dʼune épave nʼen deviant donc pas propriétaire par occupation») [21, p. 302].
2 Обратим внимание на другой, представляющийся дискуссионным, момент: допустимость постановки вопроса о бесхозяйности (как «брошенных») бездокументарных ценных бумаг. См., на пример, постановления: ФАС Московского округа от 25 сент. 2013 г. по делу № А40-136014/12-159-1280; Арбитражного суда Поволжского округа от 7 дек. 2017 г. № Ф06-27085/2017 по делу № А55-4434/2017 (здесь и далее доступ к материалам судебной практики – из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). Вещами данный вид объектов гражданских прав не являются. Между тем состояние бесхозяйности относится только к вещам, «является конструкцией вещного права» [19, с. 62]. Исходя из этого правила ст. 225 ГК РФ к бездокументарным ценным бумагам применены быть не могут, и даже, если невозможно однозначно идентифицировать обладателя таких объектов, более корректно именовать их «ценные бумаги неустановленных лиц» [см., например: 3, с. 94–95].
4. «Бесхозяйные» недвижимые вещи
сти на него другим лицом. Исходя из этого следует весьма очевидный и, как представляется, бесспорный вывод: до момента приобретения на вещь, от права собственности на которую собственник отказался, права собственности другим лицом3 ее нельзя именовать «бесхозяйной», так как формально ее хозяином (по смыслу п.1 ст. 225 ГК РФ, обладателем прав и обязанностей собственника) остается вполне конкретный субъект. В данной связи следует констатировать несогласованность, противоречивость положений п. 1 ст. 225 и абз. 2 ст. 236 ГК РФ.
Обобщая изложенное, можно заключить, что, связывая бесхозяйность вещи исключительно с вопросом о праве собственности на нее, как это делает отечественный законодатель (п. 1 ст. 225 ГК РФ), основываясь на иных установлениях действующего российского законодательства, мы вынуждены признать, что движимых «бесхозяйных» вещей не существует, поскольку с материально-правовых позиций de jure они имеют собственников, хотя последние и не всегда достоверно известны (что, впрочем, является вопросом иного – процессуального – характера).
Аналогичный вывод следует сделать и относительно «бесхозяйной» недвижимости.
В силу абз. 1 п. 3, абз. 1 п. 4ст.225 ГК РФ «бесхозяйные» недвижимые вещи подлежат государственному учету.
Заметим, что с 1 января 2017 г. вступил в действие принятый в соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-мости»4 (далее – ФЗ о государственной регистрации недвижимости) новый приказ Минэкономразвития РФ об учете бесхозяйной недви-жимости5, который, однако, можно утверждать, оставил без изменений прежний порядок государственного учета таких вещей6.
3 Таким моментом, в соответстви и с положениями п. 2 ст. 226 ГК РФ, применительно к отходам и брошенным вещам стоимостью явно ниже пятикратного минимального размера оплаты труда является момент совершения лицом, в собственности, владении либо пользовании которого находится объект, где ве щь брошена, конклюдентных действий по ее использованию, а применительно к другим брошенным вещам – момент вступления в законную силу судебного решения о признании вещи бесхозяйной.
4 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
5 Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей: приказ М-ва экон. развития Рос. Федерации от 10 дек. 2015 г. № 931 / Офиц. интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru.
6 Ср.: О принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей: положение, утв. постановлением Правительства РФ от 17 сент. 2003 г. № 580 // Собр. законодательства Рос.
3. Movable Things the Owner Has Renounced
4. “Ownerless” Immovable Property
(the proprietor ’s) identification1. And only if it does not happen, the respective thing can be considered ownerless; however, it immediately passes into ownership of the person who found this thing (stray animals – into ownership of the person who kept and used the animal), or into municipal ownership (Art. 228, Clause 1 of Art. 231 of the Civil Code of the Russian Federation).
Thus, as a technical legal matter , any movable thing whose owner is unknown, is considered ownerless solely within the period between the expiry of the term for identification of the (previous) owner defined by law and acquisition of title to this thing by the new owner, i. e. such a miniscule period of time, that practical possibility of revealing this type of “ownerless” things and viability of singling it out appear to be doubtful.
Without paying our attention to the ranking of such things (nominated “derelict” by the legislator) with respect to their “value”, resulting from the regulations of Art. 226 of the Civil Code of the Russian Federation2, we will mention that, in our opinion, the key aspect in the issue of their ownerlessness is reflected in regulation of paragraph 2 Art. 236 of the Civil Code of the Russian Federation, according to which renouncement of the right of ownership shall not entail termination of rights and duties with respect to the property un until such a right is acquired by another person. Following this line of reasoning, there is an obvious and undoubtful conclusion to draw, a thing, the title to which the owner has renounced, cannot be consid- ered ownerless until the moment of acquisition of title to it by another person3, because technically, a certain person remains its owner (according to Clause 1 Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation, a holder of rights and duties of the owner). In this context, one should assert incoherence, inconsistency of the provisions of Clause 1 Art. 225 and of Paragraph 2 of Art. 236 of the Civil Code of the Russian Federation.
Summarizing the above mentioned, one can draw a conclusion that, attributing ownerlessness of a thing solely to the issue of title to it, as the Russian legislator does (Clause 1 of Art. 225 of the Russian Civil Code), based on other impositions of the Russian legislation in force, we have to admit that there are no ownerless movable things, because, in substantive terms of de jure, they have owners, notwithstanding that the latter are not always conclusively known (which is, however, a different procedural problem).
A similar conclusion should be drawn as far as “vacant” possession is concerned.
According to Paragraph 1 Clause 3, Paragraph 1 Clause 4 of Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation, “ownerless” immovable things are subject to state registration.
It should be noted that since January 1, 2017, a new Decree of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation on registration of ownerless real things4 (further – Federal Law on state registration of real estate), adopted in accordance with Part 3 Art. 3 of the Federal Law No. 218-FZ “On State Registration of Real Estate”5 of July 13, 2015, has taken effect. However, it could be argued that the Decree left the former order of the state registration of such things without any changes6.
В частности, как и ранее, учет бесхозяйных недвижимых вещей возлагается на Росреестр (п.2 Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, установленного приказом Минэкономразвития 2015 г. № 931; далее – Порядок); принятие на учет недвижимого имущества как «бесхозяйного» все так же осуществляется на основании соответствующего заявления органа местного самоуправления, исполнительного органа государственной власти городов федерального значения (ныне – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 1), на территории которого находится такая вещь (п. 5 Порядка); по-прежнему объектом учета вещей как «бесхозяйных» являются здания, сооружения, помещения, которые не имеют собственников или собственники неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались2 (но теп ерь это прямо следует из п. 3 Порядка); идентичными являются предписанные формы заявления о постановке на учет, уведомления (ранее –вы-писки из Госреестра, сообщения) о принятии на учет (ср.: приложения к указанным выше подзаконным норма тивным правовым актам).
Устоявшимся является и то, что недвижимая вещь именуется «бесхозяйной» уже в сам момент постановки на учет (это отчетливо явствует как из формулировки положений п. 3, 4 ст. 225 ГК РФ, так и из соответствующих форм уведомления о принятии на учет бесхозяйного объекта недвижимого имущества – приложения
Федерации. 2003. № 38, ст. 3668 (утратило силу с 1 янв. 2015 г.); Об установлении порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей: приказ Минэкономразвития России от 22 нояб. 2013 г. № 701 // Рос. газета. 2014. 5 сент. (утратил силу с 1 янв. 2017 г.).
-
1 Необходимо обратить внимание на отсутствие указания на г. Севастополь в гл. 33 ГПК РФ «Признание движимой вещи бесхозяйн ой и признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь»; в ГК РФ и Порядке принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей такое указание содержится. Следует согласиться, что до устранения указанной коллизии нормы гл. 33 ГПК РФ должны применяться в отношении бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного на территории г. Севастополь, по аналогии (см. [10]).
-
2 Вп.10ст.32 ФЗ о государственной регистрации недвижимости говорится о постановке на учет как бесхозяйного недвижимого имущества также машино-мест . В случае отказа от права собственности на земельный участок этот вид недвижимости на учет регистрирующим органом не ставится: в орган регистрации прав с соответствующим заявлением обращается непосредственно собственник земельного участка, и это заявление служит основанием для государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок у заявителя и одновременно – основанием государственной регистрации права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, к собственности которых будет отнесен этот земельный участок (ныне это установлено в ст. 56 ФЗ о государстве нной регистрации недвижимости).
№2, 3 к Порядку), что представляется принципиально неверным.
Особенно очевидно это в отношении принимаемой на учет «бесхозяйной» недвижимой вещи, от права собственности на которую собственник отказался.
Исходя из уже приведенн ой нормы абз. 2 ст. 236 ГК РФ, в полной мере относящейся и к случаям дериликции применительно к недвижимым вещам, лицо, отказавшееся от права собственности на определенную недвижимую вещь, продолжает оставаться собственником этой вещи еще в течение предусмотренного нормой абз. 2 п. 3 ст. 225 ГК РФ годичного срока со дня постановки ее на учет как «бесхозяйной». Так, и в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) при принятии на учет вещи в таких случаях, в соответствии с п. 128 Порядка ведения ЕГРН3, в записи о вещном праве (с добавлением к номеру регистрации буквы «У» – п. 126 Порядка ведения ЕГРН) в отношении правообладателя указываются « сведения о собственнике ». Термин « собственник » содержится и в уже упомянутой выше установленной форме уведомления о принятии на учет бесхозяйного объекта. Вывод о том, что собственником недвижимой вещи, поставленной на учет в качестве «бесхозяйной» в связи с отказом от права собственности на нее, продолжает оставаться лицо, заявившее в орган местного самоуправления о своем отказе, следует также из положения п. 15 Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, устанавливающего, что «независимо от даты принятия на учет объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного собственник этого имущества, от прав на которое он ранее отказался, но право собственности которого не прекращено на законных основаниях (курсив наш. – Ю. В. ), может обратиться в орган регистрации прав с заявлением о принятии вновь этого имущества во владение, пользование и распоряжение».
Законным же основанием, влекущим прекращение права собственности на недвижи-
-
3 Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки [Электронный ресурс]: приказ Минэкономразвития России от 16 дек. 2015 г. № 943 (ред. от 11.08.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
In particular, as before, registration of ownerless immovable things is assigned to the Federal Service for State Registration (Clause 2 of the Procedure for registering ownerless immovable property, established by the Decree of the Ministry of Economic Development of 2015 No. 931; further in the text – Procedure); registration of real things as “ownerless” is still carried out on the basis of the corresponding application of the local government body, executive body of the government of federal cities (nowadays – Moscow, St. Petersburg and Se-vastopol1) in the territory of which such a thing is located (Clause 5 of Procedure); buildings, constructions, rooms which have no owners, or whose owners are unknown, or to which the owners have renounced the property right are still subject to registration as “ownerless” things2 (but now it directly follows from Clause 3 of the Procedure); the prescribed forms of the applications for registration, notifications (earlier – extracts from the State registry, messages) about registration are identical (comp.: appendices to the subordinate regulations stated above).
It is also established that an immovable thing is defined as “ownerless” at the very moment of its registration (it can be conspicuously seen both in the wording of provisions of Clause 3, 4 of Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation, and the corresponding forms of the notification about registration of the ownerless real estate thing – appen- dices No. 2, No. 3 to the Procedure), which appears to be essentially incorrect.
It is especially obvious in relation to the “ownerless” immovable thing that is going to be registered to which the owner has renounced the property right.
On the basis of the above mentioned provision of Paragraph 2, Art. 236 of the Civil Code of the Russian Federation, fully relating to dereliction cases with regard to immovable things, the person who has renounced the property right to a certain immovable thing continues to be the owner of this thing for a period of a year, from the date of its registration as “ownerless”, according to provision of Paragraph 2, Clause 3 of Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation. Thus, according to Clause 128 of the Procedure for maintaining USR3, when registering a thing, is such cases in the Unified State Register of Real Estate (further – USR) “data on the owner” are specified in the record about real right (with addition to the registration number of the letter “U” – Clause 126 of the Procedure for maintaining USR). The term “owner” is also contained in the abovementioned form of the notification about registration. A conclusion that the person who has announced the right of refusal to the local government body continues to be the owner of an immovable thing registered as “ownerless” in connection with the waiver also follows from the provision of Clause 15 of the Procedure for registration of ownerless immovable things. This provision establishes that “irrespectively of the date of registration of the real estate thing as ownerless, the owner of this property, who has earlier renounced the rights to it but whose property right was not terminated on legal grounds (italics added – Yu. V .), can appeal to the rights registration body with a petition for receiving this property back in possession, use and at his disposal”.
The legal ground for the termination of the property right to the real estate as to the subject who мость у «отказавшегося» субъекта, является государственная регистрация права муниципальной или государственной собственности на эту вещь, осуществляемая, в свою очередь, на основании вступившего в законную силу решения суда о признании такого права (п. 3, п. 4 ст. 225 ГК РФ; п. 17 Порядка). Причем заявление о признании права собственности на «бесхозяйную» недвижимую вещь может быть подано в суд (и рассмотрено последним в порядке особого производства - поди. 6 и. 1 ст. 262 ГПК РФ) органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом или имуществом, находящимся в собственности города федерального значения, не ранее чем через год с момента постановки вещи на учет в качестве «бесхозяйной», поскольку согласно норме абз. 2 п. 2 ст. 290 ГПК РФ «в случае, если орган, уполномоченный управлять соответствующим имуществом, обращается в суд с заявлением до истечения года со дня принятия недвижимой вещи на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, судья отказывает в принятии заявления и суд прекращает производство по делу».
Но если вплоть до признания судом и последующей государственной регистрации права муниципальной или государственной собственности на определенную недвижимую вещь право собственности на нее сохраняется за конкретным лицом, допустимо ли считать эту вещь бесхозяйной? Полагаем бесспорным, что вещь, которая имеет собственника, ни при каких обстоятельствах не может именоваться «бесхозяйной».
В отношении тех зданий, сооружений, помещений, собственник которых неизвестен, при принятии их на учет наблюдается большая последовательность: в ЕГРП в записи о вещном праве на такие объекты недвижимости (так же с добавлением к номеру регистрации буквы «У») в отношении правообладателя указывается «не установлен» (п. 127 Порядка ведения ЕГРП). В то же время в отношении вида права при этом указывается «принят на учет как бесхозяйный (курсив наш. - Ю. В.) объект недвижимого имущества». Данное обстоятельство вызывает возражения на том основании, что сама по себе постановка определенной недвижимой вещи на учет (сначала - органом местного самоуправления, исполнительным органом государственной власти городов федерального значения, затем -Росреестром), равно как и последующее судебное решение о признании ее бесхозяйной1, на наш взгляд, «качества» бесхозяйности данной вещи не придают2. Таким качеством вещь, собственник которой неизвестен, «сверху» наделяется указанием закона, а именно нормой п. 1 ст. 225 ГК РФ, согласно которой «бесхозяйной является вещь, которая ...»
Однако в действительности вещь, собственник которой не установлен, не «является», а лишь считается «ничьей»3, и считается до тех пор, пока не будет устранена неопределенность относительно ее юридической судьбы. Снимает же отмеченную неопределенность применительно к недвижимому имуществу либо 1) государственная регистрация на основании соответствующего судебного решения права муниципальной либо государственной собственности на объект, либо 2) государственная регистрация права собственности на недвижимость давностного владельца (лица, приобретшего это право в силу приобретательной давности) - если суд не признает эту вещь поступив- has refused is the state registration of the right of municipal or state ownership to this thing, which is carried out, in its turn, on the basis of the judgment about recognition of such right which has taken legal effect (Clause 3, Clause 4, Art. 225, the Civil Code of the Russian Federation; Clause 17, of the Procedure). However, the application for the recognition of the property right to an “ownerless” immovable thing can be filed with a court (and is considered by the latter as special proceedings - Subclause 6 Clause 1 Art. 262 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation) by the body authorized to operate the municipal property or property which is in the city property of federal importance not earlier than in a year from the moment of registration of the thing as “ownerless”, as, according to provision of Paragraph 2, Clause 2, Art. 290 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation “in case the body authorized to operate the corresponding property appeals to court with the petition before the expiration of year from the date of registration of an immovable thing by the body which is carrying out the state registration of the right for real estate, the judge refuses to accept a lawsuit and the court terminates proceedings”.
But if up to recognition by court and the subsequent state registration of the right of municipal or state ownership to a certain immovable thing, the property right to it remains for the particular person, is it admissible to consider this thing ownerless? We think, undoubtedly, that the thing which is owned cannot be called “ownerless” under no circumstances.
Concerning buildings, constructions, rooms, whose owner is unknown during registration procedure, more consistency is observed: in the USR, in the record about the real right to such real estate items (also with addition of letter “U” to the registration number), as far as the owner is concerned, it is specified “has not been established” (Clause 127, Procedure of maintaining USR). At the same time, in relation to the type of the right, it is specified “registered as ownerless" (italics added - Yu. K). This circumstance causes objections on the ground that registration itself of a certain immovable thing (at first - by the local government body, executive body of the federal cities government, then - the Federal Service for State Registration), as well as the subsequent judgment on its recognition as ownerless1, in our opinion, do not attribute the “quali- ty” of ownerlessness to such thing'. This quality is attributed to the thing whose owner is unknown “from above”, enshrined in law, by rule of Clause 1 of Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation, according to which “Ownerless is a thing which...”.
However, in fact, the thing whose owner has not been established, is not nobody’s but just considered as “nobody’s”3, and it is considered to be nobody’s until uncertainty concerning its legal future is eliminated. The only agencies authorized to remove noted uncertainty in relation to real estate are (1) state registration on the basis of the relevant judgment of the right of municipal or state ownership to an object, or (2) state registration of the property right to the real estate of the prescriptive owner (the person which has acquired this right owing to acquisitive prescription) - if the court does not recognize this thing as one which has шей в муниципальную собственность либо собственность города федерального значения. При этом во втором из указанных случаев до государственной регистрации право собственности на вещь сохраняется, по-нашему мнению, за «не установленным» на момент постановки на учет, вынесения судебного решения собственником 1, который, «явившись», может виндицировать эту вещь у владельца. Так, и в соответствии с нормой п. 4 ст. 234 ГК РФ, течение срока приобретательной давности в отношении вещи начинается не ранее истечения исковой давности по требованию об ее виндикации2, что изначально если и не предполагает, то не исключает наличия собственника у вещи, которая, таким образом, повторим, не «является», а лишь считается бесхозяйной.
Учитывая изложенное, недвижимую вещь, от права собственности на которую собственник отказался, в момент принятия на государственный учет, по нашему убеждению, следует обозначать не как «бесхозяйный объект недвижимого имущества», а как (буквально, адекватно имеющейся правовой регламентации) «недвижимая вещь (либо недвижимость, недвижимый объект), от права собственности на которую собственник отказался». Что касается недвижимой вещи, собственник которой не известен, то, принимая во внимание вероятностный характер факта отсутствия у нее собственника, более верно именовать ее как в ГК РФ, так и нормативных правовых актах, определяющих порядок учета бесхозяйных недвижимых вещей, «считающейся бесхозяйной» (а не «бесхозяйной»). В противном случае получаем парадокс: в качестве «бесхозяйных» на учет ставят недвижимые вещи, которые с позиций материального права имеют собственника (в случаях отказа собственника от права собственности) либо которые как бы не имеют собственника (в случаях неизвестности последнего).
Вряд ли описанная ситуация может считаться удовлетворительной. Более того, возникает
-
1 То, что учет объектов в качестве бесхозяйных не прекращает существующее право и не препятствует регистрации права собственности на них лица, которое ранее было неизвестно , признается и на практике (см., например, постановления: ФАС Северо-Западного округа от 17 нояб. 2008 г. по делу № А56-10184/2008; ФАС Восточно -Сибирского округа от 6 марта 2014 г. по делу № А33-4465/2013).
-
2 Более удачными с позиций практической реализации представляются соответствующие нормы в редакции законопроекта о внесении изменений в ГК РФ: в рамках одной статьи – ст. 242 «Приобретательная давность» – указано, что течение срока приобретательной давности начинается с момента начала владения вещью (абз. 1 п. 2) и что истребование вещи в порядке виндикации возможно в течение всего срока владения (п. 3).
вопрос о практической значимости, целесообразности учета таких вещей как «бесхозяйных». Так, применительно к недвижимым объектам, от права собственности на которые собственники отказались, можно сделать вывод, что институт государственного учета бесхозяйной недвижимости не влияет на решение вопросов ни о привлечении к гражданско -правовой ответственности в случае возможного вредоносного воздействия со стороны имущества, принятого государством на учет как «бесхозяйного», ни о налоговом бремени, сопряженным с таким имуществом, поскольку, несмотря на имевший место и зафиксированный уполномоченным государственным органом в установленном порядке отказ от права собственности на определенный недвижимый объект, все «тяготы» собственности, на основании нормы ст. 210 ГК РФ «Бремя содержания имущества», все равно будут возложены на лицо, сохраняющее в силу абз. 2 ст. 236 ГК РФ статус собственника данной вещи. Не способствует решению столь важных в повседневной действительности вопросов и учет в качестве бесхозяйных тех вещей, собственник которых неизвестен: неопределенность в вопросах их содержания, ответственности вследствие причинения вреда и т. п. принятием на учет не устраняется. Изложенное дает основания для вывода, что данный институт имеет преимущественно публично-правовую значимость, заключающуюся, полагаем, в учете потенциальных объектов публичной собственности . Впрочем, именно с такими потенциальными объектами права муниципальной либо государственной собственности связана большая часть проблем, имеющихся на практике.
-
II. Бесхозяйность вещей de facto
Анализ судебных материалов, юридической литературы по рассматриваемой теме, осмысление эмпирики обыденной жизни приводит к выводу: проблема бесхозяйности вещей состоит не только в том, что определенная вещь является «ничьей» с точки зрения права ,т.е.по каким-либо причинам отсутствуют документально подтвержденные сведения о ее собственнике. Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ отсутствие у спорных вещей собственника не является безусловным основанием для признания судом этого имущества бесхозяйным 3,и как неоднократно отмечалось в судебных решениях, то обстоятельство, что спорные объекты « числились (здесь и далее курсив наш. – Ю. В. ) как бесхозяйные, не свидетельствует о том, что
-
3 См.: определение Верховного Суда Рос. Федерации от
21 марта 2016 г. № 303-ЭС16-917 по делу № А73-17377/2014.
passed to the municipal property or city property of federal importance. At the same time, in the second of the specified cases, before the state registration, the property right to a thing belongs, in our opinion, to the owner “not established” at the time of registration or adjudication1, who, “having appeared”, can vindiсate this thing from the owner. Thus, according to the rule of Claus e 4, Art. 234 of the Civil Code of the Russian F ederation, the duration of term of acquisitive prescription concerning a thing begins not earlier than the expiration of limitation period on demand of its vindication2, which, even if initially not presuming it, does not exclude the presence of the owner of the thing, which, consequently, as repeatedly stated, is not ownerless but only considered ownerless.
Taking into account the above mentioned, an immovable thing the property right to which the owner has renounced at the time of registration, as we believe, should be defined not as an “ownerless real estate item” but as (literally, according to the available legal regulation) “an immovable thing (or real estate, immovable object) the property right to which the owner has renounced”. As for an immovable thing whose owner is unknown, in the view of the probabilistic character of the fact of its owner’s absence, it is more correct to denominate it similarly to the definition in the Civil Code of the Russian Federation, and regulations, defining the procedure for registration of ownerless immovable things, “considered ownerless” (but not “ownerless”). Otherwise, the paradox turns out: as “ownerless” immovable things, which, from positions of substantive law, have an owner, are registered (in cases when the owner renounces the property right), or which, ostensibly, have no owner (in cases of the latter being unknown).
The described situation is unlikely to be considered satisfactory. Moreover, there is an issue of the practical importance, expediency of registering such things as “ownerless”. For instance, in relation to immovable objects the property right to which the owner has renounced, it is possible to conclude that the state registration institute of the ownerless real estate contributes neither to making decisions about imposing civil liability in case of possible harm from the property registered by the state as “ownerless”, nor to solving the issues concerning tax burden related to such property, since, despite the disclaimer of property taking place and recorded by the public authority, in accordance with the established procedure on a certain immovable object, all “burdens” of property on the basis of rule of Art. 210 of the Civil Code of the Russian Federation “Burden of Maintaining the Property” will be laid upon the person holding the status of the owner of this thing owing to Paragraph 2 of Art. 236 of the Civil Code of the Russian F ederation. Registration of things as ownerless when the owner is unknown also does not contribute to the solution of such significant current problems: uncertainty in questions of liability in case of harm, etc. is not eliminated by registration only. Stated things give the grounds for a conclusion that this institute has mainly public importance, consisting, as we believe, in registration of potential objects of public property. However, exactly the majority of problems, which can be faced in practice, are connected with such potential objects of the right of municipal or state ownership.
-
II. Ownerlessness of Things De Facto
The analysis of case materials, legal literature on the subject under study, comprehension of empirics of daily routine leads to the following conclusion: the problem of ownerlessness of things is not the only fact that a certain thing is “nobody’s” from the legal point of view, i. e. for some reasons there is no documentary confirmed information about its owner. According to the legal position of the Supreme Court of the Russian Federation, the absence of the owner of the things in question cannot be the ground for recognition of this property by court as ownerless3 and, as it was repeatedly mentioned in judgments, the fact that the objects in question “were registered (hereinafter italics added – Yu. V. ) as ownerless, does not prove that они действительно являлись таковыми»1. Кроме этого, на современном этапе информационно-технологического развития в том числе нашего государства таких вещей становится все меньше, а наличие имеющихся является скорее «эхом давно минувших дней», что, безусловно, не нивелирует остроту необходимости решения их судьбы, причем не единственно юридической. Наиболее вопиющим примером в данной связи выступают считающиеся «бесхозяйными» объекты исторического и культурного наследия – памятники военной истории. Так, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, «как известно (здесь и далее курсив наш. – Ю. В.), на Кубани около 80% памятных мест и памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, до сих пор не приняты в муниципальную собственность из-за отсутствия средств на эти цели у муниципалитетов и усложненную проц едуру оформления бесхозяйных объектов в собственность»2.
Возможны и обратные ситуации: когда достоверные сведения о собственнике вещи имеются, однако мер по содержанию данной вещи это лицо не принимает и в случае причинения вреда либо иных неблагоприятных последствий, связанных с использованием либо просто наличием данной вещи, причиненный ущерб с него взыскать невозможно (например, по причине невозможности установления его фактического местонахождения либо задавненности требования).
Именно в подобном несоответствии юридического и фактического статуса определенной вещи и заключается, на наш взгляд, один из основных аспектов проблемы бесхозяйности вещей. При этом с позиций участников гражданского оборота ситуация de facto имеет первостепенное значение; вопросы о юридической судьбе вещи возникают лишь как следствие фактической бесхозяйности этого объекта , что в целом согласуется с законодательными нормами о
-
1 См., например, постановления: ФАС Северо -Западного округа от 29 марта 2010 г. по делу № А05-3758/2009; Арбитражного суда Западно -Сибирского округа от 21 нояб. 2014 г. № Ф04-11012/2014 по делу № А67-7212/2013.
-
2 URL: https://rosreestr.ru/site/press/news/rabochaya -vstrecha-po-registratsii-prav-na-pamyatniki/?sphrase_id=8067875 (дата обращения: 02.02.2018). В городе-герое Волгограде в судебном порядке решалась судьба «бесхозяйного» памятника истории регионального значения «Памятный знак в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане» (см.: решение Центрального районного суда г. Волгограда от 17 мая 2011 г. по делу № 2-2733/11. URL: https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-vol-gograda-volgogradskaya-oblast-s/act-100714438/ (дата обращения: 02.02.2018).
бесхозяйности вещей как возможном основании возникновения права собственности.
Задумываясь о причинах бесхозяйности объектов как социального феномена, представляется, что в конечном счете данное явление обусловлено отсутствием интереса в отношении определенной вещи со стороны конкретного лица.
В частности, именно отсутствием (экономической) заинтересованности объясняется, на наш взгляд, нежелание муниципалитетов и государства становиться собственниками т ребую-щих ремонта либо демонтажа заброшенных и полуразрушенных зданий, сооружений, помещений, так же нуждающихся в ремонте либо замене и периодически «прорывающих» водопроводных и канализационных сетей, памятников, стихийных «пригородных» и «загородных» свалок бытовой техники и т. п. Об отмеченном «нежелании» свидетельствует масса судебных требований о признании незаконным бездей -ствия городской администрации и (или) обязании ее либо поставить на учет в качестве бесхозяйного, обратиться с таким требованием в регистрирующий орган3, либо принять в муниципальную собственность4 то или иное недвижимое имущество. При этом единая позиция судебных органов относительно вопроса об обязательности принятия в муниципальную собственность, в частности, такого бесхозяйного имущества, как сети электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, отсутствует: часть судов, вынося соответствующие решения, отмечают, что действующее законодательство «не имеет норм, устанавливающих обязанность принятия бесхозяйного имущества в муниципальную собственность»5; другая часть правоприменителей аргументируют позицию тем, что орган местного самоуправления, осуществляя
-
3 См., например, постановления: ФАС Дальневосточного округа от 26 дек. 2008 г. № Ф03-5540/2008 по делу № А51-19431/20047-365/23; Арбитражного суда Уральского округа от 25 янв. 2016 г. № Ф09-10599/15 по делу № А50-5612/2015; Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 окт. 2016 г. № Ф04-4715/2016 по делу № А75-14533/2015; Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 февр. 2017 г. № Ф03-6323/2016 по делу № А73-6802/2016; Арбитражного суда Поволжского округа от 28 нояб. 2017 г. № Ф06-26651/2017 по делу № А49-3957/2016; решение Центрального районного суда г. Волгограда от 17 мая 2011 г. по делу № 2-2733/11.
-
4 См., например, постановления: Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26 февр. 2016 г. № Ф04-349/2016 по делу № А45-3144/2015; Арбитражного суда Волго-Вятского округ а от 7 февр. 2017 г. № Ф01-6213/2016 по делу № А43-7490/2015.
-
5 См., например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 февр. 2017 г. № Ф03-6323/2016 по делу № А73-6802/2016.
they really were ownerless ”1. Besides, at the present stage of information and technological development, including our state, such things appear less frequent, and the presence of those existing is more likely “an echo of bygone days” that, certainly, does not mitigate the urgent necessity to define their future, and not only the legal one. The most scandalous example, in this connection, are the objects of historical and cultural heritage regarded as “ownerless”, in particular, monuments of military history. According to the information published on the official site of the F ederal Service for State Registration, “ As it is well-known (hereinafter italics added – Yu. V .), in Kuban about 80 % of the memorable places and monuments dedicated to the events of the Great Patriotic War of 1941 –1945 aren’t registered as municipal prop erty due to both the lack of funds for these purposes at municipalities and the complicated procedure for registration of ownerless objects in property ”2.
The opposite situations are also possible: when the authentic information about the owner of a thing is available, however, this person does not take measures for maintenance of this thing, and in case of infliction of harm or other adverse effects connected with the use or just existence of this thing, the caused damage cannot be collected from the person (for example, because of impossibility of his actual location identification or the time-barred requirement).
One of the main aspects of the problem of ownerlessness of things, in our opinion, consists in similar discrepancy of the legal and actual status of a certain thing, At the same time, from the position of the participants of civil circulation, the situation of de facto has high priority; questions of the legal future of a thing arise only as a result of the actual o wnerlessness of this object, which, in general, agrees with legislative rules on ownerlessness of things as the possible grounds for property right to arise.
Thinking of the reasons of ownerlessness as a social phenomenon, it is obvious that, eventually, this phenomenon is caused by the lack of interest of a particular person in regard to a certain thing.
In particular, lack of (economic) interest causes, in our opinion, unwillingness of municipalities and the state to become owners of abandoned and half-ruined buildings, constructions, locations, requiring repair or dismantling, as well as periodically damaged water supply and sewer systems, monuments, spontaneous “suburban” and “country” dumps of household appliances, etc. which are also in need to be repaired or changed. The above mentioned “unwillingness” is shown by a great amount of judicial requirements to recognize the activities of the city administration to be illegal and (or) to oblige it either to register these objects as ownerless by submitting such a request to the registering body3 or to accept this or that real estate item in municipal property4. At the same time, the unified position of judicial authorities, concerning the obligation of acceptance in the municipal property, in particular, of such ownerless property as networks of electro, heat, gas and water-supply, water disposal is absent: a part of courts, passing the relevant decisions, mention that the current legislation “has no provisions to set a duty of acceptance of ownerless property in municipal property”5; the other part of law enforcement officials has a position that the local government body having authority in this свои полномочия в этой сфере, обязан принимать меры к надлежащему обслуживанию бесхозяйных сетей, учету таких сетей и их обращению в муниципальную собственность1.
Сложившуюся ситуацию можно объяснить тем, что формально, в силу п.3,4ст.225 ГК РФ, публично-правовые образования не обязаны обращаться в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности либо собственности города федерального значения на «бесхозяйные» недвижимые вещи; это является их правом. То же можно сказать об обращении с заявлением о постановке вещи на учет в Росре-естр2. Между тем часть таких объектов имеют социальную значимость; последнее обстоятельство учитывается и правоприменителями3. В связи с этим, принимая во внимание основные функции публично -правовых образований4,
-
1 См, например, постановления Арбитражного суда Западн о-Сибирского округа : от 24 окт. 2016 г. № Ф04-4715/2016 по делу № А75-14533/2015; от 26 февр. 2016 г. № Ф04-349/2016 по делу № А45-3144/2015.
-
2 Как указано в одном из судебных решений, «орган местного самоуправления лишь вправе обратиться в регистрирующий орган с заявлением о постановке недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйного в случае наличия достоверных сведений о том, что данное имущество является бесхозяйным. Вместе с тем законодательно предписанной обязанности по обращению с таким заявлением данные нормы не содержат» (решение Центрального районного суда г. Волгограда от 17 мая 2011 г.по делу №22733/11).
-
3 Так, отказывая в передаче одного из дел о признании незаконным решения об отказе в постановке на учет вещи в качестве бесхозяйной в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ, ВС РФ указал, что «спорные сети канализации не предназначены для нужд населения города, к ним не подключены социально значимые объекты (курсив наш. – Ю. В. ), а предназначены для осуществления предпринимательской деятельности только заявителя, затрагивают только его экономические интересы (определение Верховного Суда РФ от 29 мая 2017 г. № 304-КГ17-6641 по делу № А27-25925/2015).
-
4 В частности, в соответствии с Федеральным законом от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 40, ст. 3822), к вопросам местного значения городского округа отнесены: организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 16); участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа ( п. 8 ч. 1 ст. 16); сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истор ии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа (п. 18 ч. 1 ст. 16). Необходимость муниципалитетов при осуществлении своей деятельности, в частности при управлении муниципальным имуществом, «отстаивать интересы номинального соб-
- можно было бы ратовать за необходимость обращения в суд с иском о признании права муниципальной или государственной собственности на фактически бесхозяйные социально-значимые объекты (водопроводные, канализационные, электрические и тепловые сети, экологически опасные объекты, памятники культуры и истории и т. п.) обязанностью (а не правом) муниципалитетов, городов федерального з начения, на территории которых данные объекты находятся. Однако гораздо более действенной мерой в данной связи могло бы стать наделение правом на обращение в суд с иском о признании права муниципальной или государственной собственности на фактически бесхозяйные социально-значимые объекты любое заинтересованное лицо5.
Если говорить о приобретении вещей, от права собственности на которые собственники отказались либо собственники которых неизвестны, в частную собственность, то значительных проблем здесь не возникает как раз потому, что в отношении определенной вещи присутствует интерес конкретного лица (это касается и находок, и брошенных вещей, и «бесхозяйной» недвижимости). Однако если, реализуя свой интерес, субъект не «узаконит», когда это необхо-димо6, право собственности на вещь и просто вступит во владение ею, такая вещь, согласно российскому гражданскому законодательству, все равно продолжит считаться «бесхозяйной», поскольку фактический владелец (как и обладатель иного, помимо права собственности, вещного права), по смыслу п. 1 ст. 225 ГК РФ, «хозяином» вещи не признается.
На наш взгляд, такие случаи к собственно проблеме бесхозяйности вещей относиться не должны и если вещь находится в чьем -либо ственника – жителей муниципального образования» отмечается и специалистами в области экономики (см., например, [2, с. 86]).
-
5 В этом случае отсутствие права на иск не стало бы единственно достаточным аргументом в решении вопроса о возложении бремени содержания и ремонта экономиче ски не самых привлекательных объектов (см.: постановление ФАС Северо -Кавказского от 20 июня 2006 г. № Ф-08-2688/06, в котором суд, мотивируя свое решение, указал на специального субъекта, обладающего правом на об ращение в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь, – муниципальный орган).
-
6 Это касается недвижимых вещей (необходим факт государственной регистрации права собственности на вещь), а также брошенных движимых вещей стоимостью выше пятикратного минимального размера оплаты труда и не являющихся отходами (требуется судебное решение о признании вещи бесхозяйной и признании на нее права собственности лица, вступившего во владение).
sphere is obliged to take measures in order to provide such ownerless networks with appropriate service, to register and transfer them into municipal property1.
The current situation can be explained as follows: formally, under Clause 3, 4 of Art. 225 of the Civil Code of the Russian F ederation, public legal institutions are not obliged to appeal to court with a demand for recognition of the right of municipal property or city property of federal importance to “ownerless” immovable things; it is their right. The same can be said about applying for registration of a thing to the Federal Service for State Registra-tion2. Meanwhile, a part of such objects has social importance; the latter is taken into account by executors of law3. In this regard, considering all the main functions of public legal institutions4, it would be possible to stand up for necessity of recognition of appeals to the court with the claim for recognition of the right of municipal or state ownership to actually ownerless socially significant objects (water supply, sewer, electrical and heat sy stems, ecologically dangerous objects, cultural and history monuments, etc.) as a duty (but not the right) of municipalities, the federal cities, in the territory of which these objects are located. However, vesting the right to appeal to court with the claim of declaring ownership for actually ownerless socially significant objects by any interested person5 can be considered the more effective measure, in this connection.
As for acquisition of things the property right to which the owners have renounced or things whose owners are unknown, there do not arise any considerable problems just because there is an interest of a particular person in regard to a particular thing (it concerns findings, things thrown away, and the “ownerless” real estate). However, if realizing his interest, the subject does not “regularize” the property right to the thing when necessary6 and just takes possession of it, such thing, according to the Russian civil legislation, is still considered “ownerless” as the actual owner (as well as the owner of the real right, besides the property right) is not recognized as the “owner” of the thing under Clause 1, Art. 225 of the Civil Code of the Russian Federation.
In our opinion, such cases ought not to relate to the actual problem of thing’s ownerlessness and фактическом владении, она не должна рассматриваться в качест ве бесхозяйной.
Как известно, владение характеризуется наличием владельческой воли, т. е. отношением к вещи как к «своей собственной», намерением стать ее собственником. Исходя из этого владельцы готовы нести и несут расходы на содержание и поддержание надлежащего состояния вещи; именно потому, что, в частности, давностные владельцы – потенциальные собственники, им предоставляется право на защиту своего владения против третьих лиц (п.2ст.234 ГК РФ). Отрицать в такой ситуации, что владелец является «хозяином» вещи1, на наш взгляд, абсурдно. Не вполне адекватным является подобное понимание и с позиций реальной действительности: несмотря на то, что результаты движения благ от одних лиц к другим, как справедливо отмечается в литературе, «не должны подвергаться необоснованным сомнениям» [15, с. 93], вовлеченность в гражданский оборот2 вещей, подпадающих под признаки п. 1 ст. 225 ГК РФ, полагаем, возражений не вызывает, и хотя такой оборот не всегда является законным, не иметь «хозяина», быть «ничьими» фактически обращаемые блага при этом в любом случае не могут3.
Учитывая изложенное, бесхозяйность вещи следует понимать как фактическое состояние вещи, безотносительное к праву собственности на нее, при котором данная вещь не находится ни в чьем обладании и (или) в отношении нее отсутствует интерес со стороны конкретного лица.
Восприятие бесхозяйности вещи как ее фактического состояния устранит противоречие между понятием бесхозяйной вещи и нормой ст. 236 ГК РФ. Согласуется оно и с планируемым закреплением в ГК РФ норм о владении как факте (фактическом отношении) и его защи-те4, вследствие которого, полагаем, с логической необходимостью должно последовать расширение объема понятия «хозяин» – причисления к посл едним не только собственников, но и владельцев.
-
1 Примечательным является пояснение смысла слова «хозяин», данное С. И. Ожеговым, Н. Ю. Шведовой: первым из девяти выделяемых значений является пояснение «То же, что владелец» [12, с. 865].
-
2 Авторская позиция по вопросу о понятии гражданского оборота представлена в ряде работ, в полнотекстовом варианте имеющихся на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru/author_items . asp?authorid=507419.
-
3 В данной связи уместно привести замечание Е. В. Вась-ковского, который полагая, что бесхозяйные вещи находятся вне гражданского оборота, связывал введение их в оборот с фактическим овладением ими (см.: [4, с. 305]).
-
4 См.: подр. I разд. II ГК РФ в редакции Проекта.
Выводы
Бесхозяйность вещей как социальный феномен – явление, безусловно, негативное, экономически неоправданное, в связи с чем законодательно устанавливаются нормы, направленные на его преодоление. В их числе специальные правила ГК РФ о бесхозяйных вещах.
Однако, как показало проведенное исследование, легальное определение бесхозяйной вещи, содержащееся в норме п. 1 ст. 225 ГК РФ и связывающее бесхозяйность вещи исключительно с вопросом о праве собственности на нее, не согласуется с рядом иных нормативных п оложений (в частности, абз. 2 ст. 236 ГК РФ) и не отвечает потребностям современного общества, поскольку предполагает констатацию только юридической бесхозяйности определенной вещи. Помимо того, что с формально-юридической точки зрения таких вещей не так много, признание определенной вещи de jure бесхозяйной de facto не решает вопросов ни о юридической ответственности за возможное вредоносное воздействие со стороны таких объектов, ни о бремени их содержания и ремонта, что особенно актуально в отношении социально значимых объектов.
На наш взгляд, бесхозяйность вещи следует понимать как фактическое состояние вещи , безотносительное к праву собственности на нее, при котором эта вещь не находится ни в чьем обладании и (или) в отношении нее отсутствует интерес со стороны конкр етного лица. При этом постановка недвижимой вещи на учет в качестве бесхозяйной, судебное решение о признании вещи бесхозяйной конститутивного значения не имеют.
Соответственно, вещь, имеющая владельца, не должна рассматриваться в качестве бесхозяйной. Кроме прочего, подобное понимание согласуется с планируемым закреплением в ГК РФ норм о владении как фактическом отношении и его защите.
В завершение отметим, что настоящая статья не претендует на исчерпывающую разработку рассмотренной темы, а сама проблема бесхо-зяйности вещей нуждается в дальнейшем исследовании.
Список литературы Ownerlessness of things: de jure vs. de facto
- Алексеев С. С. Право: азбука -теория -философия: Опыт комплексного исследования. М: Статут, 1999. 712 с.
- Бедин Б. М. К вопросу целеполагания при управлении муниципальной собственностью//Известия ИГЭА. 2009. № 1 (63). С. 83-86.
- Вакулина Г. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учеб. пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. 123 с.
- Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. 382 с.
- Знаменский С. Бесхозяйное и бесхозяйственное имущество//Еженедельник советской юстиции. 1927. № 24. С. 728-730.
- Игнатьева И. А. Правовое обеспечение ликвидации накопленного вреда окружающей среде//Российский юридический журнал. 2017. № 2. С. 164-177.
- Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. Т. II. Советское гражданское право. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 511 с.
- Кавелин К. Д. Права и обязанности поимуществам и обязательствами (в применении к русскому законодательству: Опыт систематического обозрения)//Кавелин К. Д. Избранные произведения по гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнФор, 2003. С. 176-666.
- Кляус Н. В. Признание права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь по ГПК РФ//Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 1. С. 38-41.
- Ласкина Н. В., Никулинская Н. Ф., Рогалева М. А., Яковенко Е. В. Комментарий к подразделу IV «Особое производство» раздела II Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (постатейный) . Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- Мейер Д. И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2000. 831 с.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
- Петров Д. А. Объекты электросетевого хозяйства как бесхозяйные вещи . URL: http://ppt.ru/news/111827 (дата обращения: 08.01.2018).
- Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: Статут, 2002. 800 с.
- Райников А. С. Стабильность гражданского оборота: контуры судебной практики//Защита частных прав: проблемы теории и практики: материалы 3-й ежегод. междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 19-20 сент. 2014 г.)/под ред. Н. П. Асланян, Ю. В. Виниченко. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. С. 93-96.
- Рудов М. В. Системные недостатки правового регулирования приобретения права собственности по давности владения, на бесхозяйные вещи и выморочное имущество применительно к возникновению доли в праве долевой собственности//Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 1. С. 85-91.
- Семенов Д. О. Перенос границ эксплуатационной ответственности по инициативе собственника нежилого здания//Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2017. № 3. С. 67-75.
- Сергеев А. П. Правовой режим бесхозяйного и бесхозяйственно содержимого имущества: автореф. дис.. канд. юрид. наук. Л., 1982. 24 с.
- Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Выморочные наследства. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. 125 с.
- Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. 720 с.
- Voirin P., Goubeaux G. Droit civil. T. 1. 32 edition. Paris: LGDJ, 2009. 792 p.