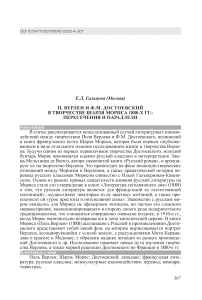П. Верлен и Ф.М. Достоевский в творчестве Шарля Мориса 1880-х гг.: пересечения и параллели
Автор: Е.Д. Гальцова
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (75), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается неисследованный случай литературных взаимодействий между творчеством Поля Верлена и Ф.М. Достоевского, возникший в книге французского поэта Шарля Мориса, которая была первым опубликованным в виде отдельного издания исследованием жизни и творчества Верлена. Будучи одним из первых переводчиков творчества Достоевского, молодой бунтарь Морис проникается идеями русской классики в интерпретации Эжена-Мельхиора де Вогюэ, автора знаменитой книги «Русский роман», и проецирует их на творчество Верлена. Это происходит на фоне эволюции творческих отношений между Морисом и Верленом, а также драматической истории перевода русских классиков Морисом совместно с Ильей Гальпериным-Каминским. Одним из ранних прямых свидетельств влияния русской литературы на Мориса стало его утверждение в книге «Литература сегодняшнего дня» (1889) о том, что русская литература является для французской ее «естественной союзницей», осуществляет некоторые из ее заветных мечтаний, а также преподносит ей «урок простоты и интенсивной силы». Знакомство с русским миром оказалось для Мориса не эфемерным эпизодом, но частью его сложного мировоззрения, эволюционировавшего в сторону своего рода модернистского традиционализма, что становится совершенно очевидно позднее, в 1910-е гг., когда Морис окончательно возвращается в лоно католической церкви. В книге Мориса «Поль Верлен» (1888) ассоциации с Россией и произведениями Достоевского представляют собой некий фон, на котором вырисовывается портрет Верлена, ассоциирующийся с «силой земли», с рассуждениями Мити Карамазова о красоте и Мадонне, с образами падших женщин из разных произведений Достоевского и др. Исследование намечает новые пути изучения творчества Верлена, а также первой рецепции Достоевского во Франции в 1880-е гг.
Поль Верлен, Шарль Морис, Достоевский, декаданс, французская литература, русская классика, межкультурные взаимодействия, перевод, компаративистика
Короткий адрес: https://sciup.org/149150103
IDR: 149150103 | DOI: 10.54770/20729316-2025-4-307
Текст научной статьи П. Верлен и Ф.М. Достоевский в творчестве Шарля Мориса 1880-х гг.: пересечения и параллели
Paul Verlaine; Charles Morice; Dostoevsky; decadence; French literature; Russian classics; intercultural interactions; translation; comparative studies.
Французский писатель, поэт и эссеист символистского толка Шарль Морис (1860–1919) был одним из первых переводчиков произведений Ф.М. Достоевского на французский язык: вместе с Ильей Даниловичем Гальпериным-Каминским (1858–1936) он опубликовал в 1886–1888 гг. переводы произведений Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. История взаимоотношений Мориса с русской культурой еще малоизучена, и недавно мы посвятили ей небольшое исследование [Гальцова 2023]. В данной статье мы стремимся прояснить, как эта переводческая работа Мориса могла повлиять, с одной стороны, на ставшую легендарной для истории французской литературы ситуацию возвращения кумира символистов и декадентов поэта Поля Верлена (1844–1896) в писательскую среду после тюремного заключения и почти десятилетнего кризиса, после которого Верлен обрел католическую веру, и, с другой стороны, на само творчество Мориса 1880-х гг.
Морис был выпускающим редактором в «Ля Нувель Рив Гош» / «Лю-тес», а также печатал и свои произведения, подписываясь различными псевдонимами, например, Морис Мариус, Карл Мор и др. Широкую известность ему принесла полемическая статья «Буало Верлен», посвященная стихотворению Поля Верлена «Поэтическое искусство» («L’Art poétique»), опубликованному 19 ноября 1882 г. в журнале «Пари-Модерн» («Paris-Mo-derne»). От статьи Мориса, вышедшей в свет 1 декабря 1882 г., веет бунтарскими настроениями: «чистое искусство» Верлена – глубоко верующего католика и требующего «музыки – прежде всего другого», анализируется с сокрушительным сарказмом. Морису категорически не нравилось название стихотворения, отсылающего к знаменитому классицистическому трактату Никола Буало (1674), он выявляет нелогичность, ругает его за темноту и полное отсутствие иронии:
Поэтическую доктрину Верлена можно обобщить в двух словах: Музыка и Нюанс <…> Потом вот еще несколько второстепенных заветов: выбирать стих с нечетным количеством слогов; соединение Точного и Неопределенного; избегать Пуанта, Остроумия, Смеха и Красноречия; успокоить Рифму <…> Основа системы – намеренная темнота: «Это прекрасный взор под вуалью» (стихотворение «Поэтическое искусство» приводится в переводе Г. Шенгели [Верлен 2014, 207]. – Е.Г. ) <…> Верлену не нравится, когда его понимают обыкновенные люди <…> Только он сам может понять, что он хотел сказать. Таким образом, я надеюсь, что у него не будет учеников, и подобная поэзия не станет поэзией будущего [Morice 1882].
Иронически перечисляя в качестве предвестников эстетики Верлена «Неведомый шедевр» Оноре де Бальзака (где художник отказывается от изображения как такового) и поэму «Делия» Мориса Сэва (слишком пространную и трудную для чтения, по мнению Мориса), критик утешает читателя тем, что произведение Верлена хотя бы не утомительно, ибо в нем всего 36 строк. Единственное, что нравится пристрастному Морису, так это музыкальность самого верленовского стиха: «Единственное, что у него остается, возможно помимо его воли: гармония. <…> Однако не стоит ждать от него большего, и мы должны поздравить себя с тем, что не понимаем его, ибо он сам и не хочет быть понятым» [Morice 1882].
Отзыв молодого Мориса был откровенной провокацией: несмотря на исчезновение с литературных горизонтов, Верлен сохранял репутацию знаменитого поэта, автора стихотворных сборников «Сатурнийские стихотворения» (1866), «Галантные празднества» (1868), «Добрая песня» (1870), «Песни без слов» (1874), а также «Смиренномудрие» (1880), написанного уже после обращения Верлена в католичество.
Более того, возможно, в этой рецензии был и совершенно осознанный расчет. 15 декабря 1882 г. редакторы «Ля Нувель Рив Гош» дали возможность Верлену ответить на страницах журнала. Верлен шутливо назвал себя «ветераном» [Verlaine 1882] и привел простейшие аргументы «чистого искусства», которое не должно приносить никакой практической пользы, ибо для последнего есть иные средства. Упрек в противоречии между рассуждением о рифме и прекрасной рифмовкой в самом стихотворении Верлен отверг, ссылаясь на Шарля Бодлера, который искал редкие рифмы, не заботясь о максимально полных созвучиях.
Начавшись с иронической рецензии, обсуждение «Поэтического искусства» Верлена обернулось актуальным осмыслением новых тенденций во французской поэзии, которые спустя буквально пару лет получат имена символизма и декаданса (и производных от этого слова). Напечатав полемические письма в своей газете, Трезеник пригласил Верлена к сотрудничеству и напечатал в начале 1883 г. на страницах «Нувель Рив Гош» его новые поэтические произведения. Морис и Верлен становятся друзьями. Несколько месяцев спустя именно Морис организовал в этом еженедельнике публикацию книги Верлена «Проклятые поэты», первая часть которой («Тристан Корбьер») выходила с 31 августа по 21 сентября 1883 г., другая («Артюр Рембо») – 5, 12 и 19 октября и 2 и 9 ноября 1883 г., и третья («Стефан Малларме») – 7, 24 ноября и 29 декабря 1883 г. Впоследствии Верлен посвятит свое стихотворение «Поэтическое искусство» Шарлю Морису, и все последующие публикации будут сопровождаться именно этим посвящением. «Ля Нувель Рив Гош» сыграл большую роль для возвращения Верлена в литературное сообщество после почти десятилетнего кризиса, а престиж Верлена, разумеется, привлекал внимание к газете. Это не мешало ироническому тону многих статей, в которых появлялось имя Верлена. Например, Трезеник посвятил Верлену статью с почти авангардным названием: «Декаденты Аллитературы» («Les Décadents de l’Allitérature», «Лютес», 19 апреля 1885 г.). Разумеется, было бы опрометчиво связывать новый подъем в творчестве Верлена только с этим эпизодом, однако эти события не могли не способствовать складыванию репутации Верлена как поэта, выразившего дух декаданса. В 1883 г. он публикует в газете «Ле Ша Нуар» («Le Chat Noir») сонет «Томление» («Langueur»), которое будут упоминать многие деятели культуры в связи с размышлениями о декадансе. Напомним его начало: «Я – римский мир периода упадка» («Je suis l’Empire à la fin de la décadence»), перевод Б. Пастернака [Верлен 2014, 224]). Разумеется, подобное восприятие творчества Верлена не претендовало на то, чтобы быть исчерпывающим, но в тот момент оно прекрасно вписывалось в контекст еженедельника, на страницах которого, например, публиковалась серия пародийных стихотворений, вошедших впоследствии в сборник «“Упадки”, декадентские стихи Адоре Флупетта» («“Les déliquescences”, poèmes décadents d’Adoré Floupette», 1885), среди которых была, кстати сказать, и пародия на Верлена; а также стихотворения из готовящегося сборника Жюля Лафорга «Жалобы» («Complaintes», 1885).
Несмотря на растущую известность в литературных кругах, Морис испытывал постоянную нужду в деньгах, и в 1886 г. ему удалось получить от Гальперина-Каминского хорошо оплачиваемую работу по художественной обработке переводов с русского языка. К середине 1880-х гг. во Франции возникает огромный интерес к русской литературе, особенно современной, и начинают массово выходить переводы произведений Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Публикация в 1886 г. книги французского беллетриста и дипломата Эжена-Мельхиора де Вогюэ «Русский роман» ускоряет интеллектуальную моду на всё русское, ее сопровождает активная деятельность издательства «Плон Нурри», где публиковался и сам Вогюэ. Напомним, что Вогюэ представлял русскую литературу как носительницу тех моральных и, возможно, даже духовных ценностей, которые утратила, по его мнению, французская. В предисловии он говорил о русских писателях: «Так давайте же подражать им!» [Во-гюэ 2010, 533–534].
Одним из сподвижников Вогюэ был уроженец Российской империи Гальперин-Каминский, переехавший во Францию в 1880 г. (подробнее о нем см.: [«Записки из подполья»… 2021; Полонский 2019; Строев 2023]). Впоследствии Гальперин-Каминский станет одним из знаменитейших переводчиков русской литературы на французский язык, а также журналистом и культурным посредником. В начале своей карьеры переводчика он работал вместе с Морисом, который не знал русского языка, но превосходно дорабатывал стиль. Подобная практика коллективного перевода была довольно распространенной в то время. Первые изданные ими русские книги пользовались большим успехом, при этом они были весьма далеки от оригинала, это были «адаптации», тексты подвергались сокращениям, в них встречались подмены одних образов другими, могли также добавляться для «связки» некоторые эпизоды, разные произведения могли объединяться в один «роман», и т.д. Именно в таком виде вышли переводы-адаптации «Записок из подполья» и «Хозяйки» (компиляция этих двух повестей была названа «Подпольный дух», L’Esprit souterrain [Dos-toïevsky, 1886]; подробнее о французской и европейской рецепции «Записок из подполья» см.: [«Записки из подполья»… 2021]), «Братьев Карамазовых» (существенно сокращенных, приблизительно на треть, в 2 томах [Dostoïevsky, 1888b]), повести «Чужая жена, или муж под кроватью» [Dostoïevsky, 1888a] Достоевского и сборника избранных стихотворений и поэм Некрасова [Nekras-sov, 1888]. Отметим сразу, что по крайней мере два адаптированных таким образом произведения – «Подпольный дух» и «Братья Карамазовы» – были очень популярны долгое время даже после публикации впоследствии более точных переводов, именно на основании этих переводов были написаны театральные пьесы в начале 1910-х гг., а также сделаны переводы на другие европейские языки.
Совместная работа двух переводчиков шла достаточно интенсивно, однако взаимоотношения между ними были непростыми. Вот, что Морис писал своему другу Франсуа Коппэ о «Подпольном духе»: «Мой русский соавтор обманул меня, он нашел кого-то, кому будет платить только треть дохода, а не половину, как мне [Monval 1929, 419]. Но после выхода в свет книги происходят изменения, о чем Морис информирует Коппэ, у которого он брал взаймы денег для лечения своей дочери: «В ближайшие дни я принесу Вам свой перевод “Подпольного духа” Достоевского. Не знаю, читали ли Вы в “Ля Ревю де де Монд” лестные вещи, которые говорил обо мне Г-н де Вогюэ (он у нас Первосвященник руссомании). Они возымели благотворное воздействие на моего соавтора, с которым я поссорился, о чем я Вам уже кажется рассказывал, и он снова обратился ко мне. Переводы гарантируют мне получение достаточных сумм в этом году, и я счастлив надеяться, что я скоро смогу вернуть Вам то, что Вы мне любезно одолжили» [Monval 1929, 419].
Вогюэ же написал хвалебную рецензию на «Подпольный дух», делая вид, будто и не знал о готовящемся переводе: очевидно для того, чтобы заинтриговать читателя. Участие Мориса в переводе оценивается не просто как превосходная стилистическая работа, но и как своеобразная интеграция радикализма и традиции: поэт-декадент, почти революционер, переводит Достоевского, который был для Вогюэ одним из воплощений «русской души» как хранительницы традиционных христианских ценностей:
Морис принадлежит к молодой школе писателей, осуществляющей, с большой убежденностью в своей правоте, преобразование нашего бедного языка. Я читал что-то из его прозы, и даже иногда понимал, что читаю, но с трудом. Я опасался, что новатор захочет применить свою эстетику к интерпретации романа Достоевского. Я дрожал… И вот мне приносят «Подпольный дух»: я с опасением открываю книгу, и, стараясь избавиться от предубеждения, и очень скоро вынужден признать, что могу только приветствовать самый что ни на есть сильный перевод, самый художественный из всех переводов этого автора. Лишь в некоторых местах возникают рискованные слова, некоторые революционные веяния [Vogüé 1886, 840].
Нам представляется, что было бы опрометчивым искать прямые влияния Достоевского или Некрасова на творчество Шарля Мориса, хотя одновременно с работой над «Подпольным духом» Морис сам писал «умственный» роман с аналогичным названием – «Одинокий дух» ( L’Esprit seul , остался незавершенным, первые части были опубликованы в журнале: [Morice 1886]), в котором можно увидеть отголоски произведений Достоевского, особенно «Записок из подполья». Однако приобщение к русскому миру оказалось для Мориса не эфемерным эпизодом, но частью его сложного мировоззрения, эволюционировавшего в сторону своего рода модернистского традиционализма, что становится совершенно очевидно в 1910-е гг. Именно в конце 1880-х гг. любопытным образом это косвенное влияние проявилось в его книге «Поль Верлен» [Morice 1888], которая была первым отдельно изданным эссе, посвященным французскому поэту.
Заметим сразу, что эта небольшая книга не претендовала на исчерпывающий научный анализ творчества Верлена до 1888 г.: в ней был создан образ поэта, воплощающего «современный гений» («le génie moderne» [Morice 1888, 8]), достигший вершин в книгах «Смиренномудрие» (1880; здесь и далее мы приводим переводы А. Ревича сборника «Смиренномудрие» ( Sagesse ) по изданию: [Верлен 2014]), «Когда-то и недавно» (1884) и «Проклятые поэты» (вторая редакция, вышедшая в 1888 г., была учтена Морисом). Морис начинает с мечты о современной эстетике, которую он ассоциирует с Верленом: «Искренней Силой своей Человечности, постоянной сопричастностью с вечным сущностями вещей и чудесной тонким чувством Простоты, этот поэт дарит любящим его суровую и привлекательную духовную радость рождения новой Красоты» [Morice 1888, 7].
Продолжая эту идею в жанре, близком к «литературному портрету», Морис говорит буквально о «красоте» самого Верлена:
То, что Верлен необыкновенно красив, могут постичь те, кто знает, что человеческая Красота, или по крайней мере современная Красота («la moderne beauté») человека, состоит в некоторой гармонии черт с их выражением, что не существует типа Красоты, но что современная Красота – это облик, а не отдельные черты. Те, кто понимает это, поймут, что мы говорим о страшной красоте лица без изящества и с отчетливо неправильными чертами. В этом лице есть физическая гордыня, бессознательная гордость своей силой, «силой почвы», как говорят русские. А напряженность выражения жестокости, нежности, надежды, отречения! В этом и заключается синтез человечности, но это человечность мужчины, оставшегося, несмотря на всю свою мужественность, ребенком, который противится призывам вступить на возвышенный путь чистой духовности («spiritualité») и стремится к чувственным ребяческим радостям, несмотря на мистические склонности другой части его существа [Morice 1888, 11–12].
«Сила почвы», или, если калькировать французское выражение («force de la terre»), «сила земли» – это возможная отсылка и к «Запискам из подполья» и «Братьям Карамазовым», а также и к рассуждениям о почве как библейском «прахе земном» в предисловии Вогюэ к книге «Русский роман». Напомним, что виконт де Вогюэ был человеком консервативных убеждений и продвигал во Франции «русский роман» и русскую культуру как носителей традиционных ценностей, подчеркивал ее особую связь с «почвой», опираясь в своих рассуждениях на эстетику Ипполита Тэна. Любопытно, что и Морис часто приводит слова Тэна как некую параллель к своим размышлениям о Верлене. О косвенной связи с «Русским романом» свидетельствует и критика Морисом романа Золя «Земля» (1887) в финале книги. «Аморальности» ([Morice 1888, 86]) Золя противопоставляется и жизненный путь, и творчество Верлена, что напоминает аргументацию Вогюэ о том, что французской литературе, погрязшей в низменном материализме (среди ярчайших таких писателей приводятся Э. Золя и Г. Флобер), нужно преподать урок современной русской, обладающей как реализмом, так и традиционными ценностями.
Если же попытаться связать эти рассуждения Мориса с «Братьями Карамазовыми», то можно услышать в них отголоски высказываний Мити Карамазова о красоте, и, возможно, за намеками Мориса на беспорядочную жизнь Верлена (без подробностей) можно увидеть сам персонаж Мити Карамазова. С другой стороны, образ ребенка (у Верлена «душа вечного ребенка» [Morice 1888, 12]) также может натолкнуть на ассоциации с романом Достоевского – «детскость» является очень неоднозначным понятием, она и «мешает» Верлену сразу принять духовный путь, но она и создает впечатление той самой искренности, простоты и непосредственности, которым Морис восхищается в поэзии Верлена; к тому же Морис неоднократно приводит и цитаты из поэзии Верлена, в которых воплощаются образы детства. Отметим, что образ детства, правда, не «простого», а «героизированного» воплощается в стихотворении Верлена, посвященном самому Морису, которого он называет «Неоптолемом», сыном Ахилла и юным воителем [Верлен 2014, 266].
С другой стороны, проблематика «земли» и «почвы», разумеется, проистекает для Мориса и из общего замысла, и непосредственно из евангельского эпиграфа к «Братьям Карамазовым» о пшеничном зерне, упавшем в землю. Путь Верлена с его взлетами и падениями, согласно Морису, сам по себе может воплощать эту идею жертвоприношения, в результате которого Верлен создает свои произведения в 1880-е гг. В какой-то степени можно было бы даже сказать, что Верлен в этом эссе сам является героем в духе Достоевского.
Еще одной отсылкой к русской теме можно считать рассуждения Мориса о Мадонне в связи с анализом стихотворения из сборника «Смиренномудрие» «Марию, Мать мою, люблю без оговорок…», пер. А. Ревича [Верлен 2014, 164]. Возможно, на интерпретацию Мориса повлиял буквальный перевод русского слова «Богоматерь», поскольку в католической традиции чаще используется выражение «Дева Мария». Верленовское выражение «Мать Мария» наводит Мориса на размышления о «немного византийском» и «очень православном» образе «серой и исхудавшей Мадонны» [Morice 1888, 42], без признаков внешней красоты, как это было на изображениях Мурильо, Рафаэля, Да Винчи, классицистов или немецких художников. Вдохновляясь стихотворением Верлена, Морис представляет себе Богоматерь Сан Лука (образ, написанный, Св. Лукой и хранящийся в Болонье), или простую «греческую икону» [Morice 1888, 42–43]. Но именно такая Мадонна и могла вдохновить Верлена на то, чтобы написать: «О Боже, я пронзен Твоей любовью…» (пер. А. Ревича [Верлен 2014, 266]), как считал Морис.
Акцентируя проблематику католичества Верлена и заодно четко противопоставляя творчество Верлена и его кумира Бодлера (что противоречило идеям самого Верлена), Морис обращает особое внимание на поэтические образы «проклятых женщин» в «Песнях без слов», причисляя к ним и «падших», то есть тех, кто мог бы быть героинями Достоевского. Разумеется, ассоциация с Лизой из «Записок из подполья» и Соней Мармеладовой из «Преступления и наказания» (первый французский перевод вышел в 1884 г.) выглядит достаточно далекой, однако отметим, что для Мориса важно, что Верлен призывает к милосердию и прощению этих «проклятых» [Morice 1888, 75], в отличие от Бодлера, который, скорее выступает с настроениями общественной критики или парадоксально любуется подобными феноменами.
Поэтический образ Верлена, созданный Морисом, не стал доминирующим во французской культуре, для которой Верлен – декадент, символист и бунтарь оказались важнее Верлена-католика. Мировоззрение Мориса, приобщенного к творчеству Достоевского, эволюционирует к концу 1880-х гг. в сторону традиционализма, не утрачивая своей мистико-поэтической направленности, и это чувствуется в его книге о Верлене. Еще более радикально Морис сформулировал эти идеи в вышедшей в 1889 г. книге «Литература нынешнего дня», где напрямую (и на этот раз без всякой иронии) упомянул о Вогюэ «с присущим ему традиционными принципами и современным вкусом» и «открытой» им «молодой» русской литературе – «горькой, резкой и нежной, наивной и сложной, спиритуалистической, сентиментальной и чувственной, пылающей любовью, экстатически расширяющейся до сострадания, но при этом жестокой и такой сладостной!» Он как будто продолжает мысли Вогюэ, утверждая, что «молодая французская литература приветствует ее как свою естественную союзницу, узнавая в ней осуществление некоторых из своих самых заветных желаний, а также получая благотворный урок простоты и интенсивной силы» [Morice 1889, 264].
Мы привели лишь несколько примеров возможного прочтения книги Мориса о Верлене через призму Достоевского и культурных клише, связанных с Россией в 1880-е гг. Нам представляется, что тема литературного «треугольника» – Верлен-Морис-Достоевский – этим не исчерпывается, но, возможно, открывает новые горизонты для дальнейших исследований.