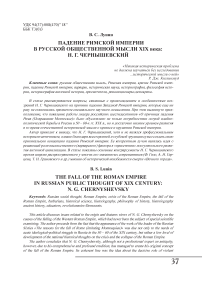Падение римской империи в русской общественной мысли XIX века: Н. Г. Чернышевский
Автор: Лунин Валерий Семенович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (32), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с происхождением и особенностями воззрений Н. Г. Чернышевского на причины падения Западной Римской империи, которые еще ни разу не становились предметом специального научного осмысления. При этом выдвинуто предположение, что появление работы лидера российских шестидесятников «О причинах падения Рима (Подражание Монтескье)» было обусловлено не только потребностями острой идейно-политической борьбы в России в 50 - 60-х гг. XIX в., но и достаточно низким уровнем развития в то время отечественной исторической мысли о кризисе и крушении Римской империи. Автор приходит к выводу, что Н. Г. Чернышевский, хотя и не являлся профессиональным историком-античником, однако благодаря всесторонней и глубокой эрудиции сумел создать свою оригинальную концепцию падения Римской империи. Ее когерентным лучом являлась идея о решающей роли насильственного (варварского) фактора в «пресечении» поступательного развития античной цивилизации. В статье показаны основные контраргументы Н. Г. Чернышевского против широко распространенного у многих его знаменитых современников (Ф. Гизо, А. И. Герцена, Т. Н. Грановского и др.) мнения об исторической неизбежности смерти «Вечного города».
Русская общественная мысль, римская империя, кризис римской империи, падение римской империи, варвары, историческая наука, историография, философия истории, историография античной истории, просветители, революционеры-демократы
Короткий адрес: https://sciup.org/14721027
IDR: 14721027 | УДК: 94(37):008(470)’’18’’
Текст научной статьи Падение римской империи в русской общественной мысли XIX века: Н. Г. Чернышевский
This article discusses issues related to the origin and features views ofN. G. Chernyshevsky on the causes ofthe falling ofthe Western Roman Empire, which hadnever been the subject ofspecial scientific examining. The authorproceeds from the fact that the appearance ofthe work ofthe leader ofthe Russian Sixties «The reasons for the fall of Rome (imitating Montesquieu)» was due not only to the needs of acute ideological-political struggle in Russia in the 50 – 60 ofthe XIX century, but rather a low level of development ofthe national historical thoughts on the crisis and the collapse ofthe Roman Empire.
The author concludes that N. G. Chernyshevsky, although not a professional expert on antiquity, however, due to his comprehensive andprofound erudition, has managed to create his original concept of the fall of the Roman Empire. Its coherent line was the idea about the decisive role of violent
(barbaric) factor in the «suppression» of progressive development ofancient civilization. The article shows the main counterarguments of N. G. Chernyshevsky against widespread among many of his famous contemporaries (F. Guizot, A. I. Herzen, T. N. Granovsky and others) the views ofthe historical inevitability ofdeath of«the Eternal City».
За последнее столетие исторические взгляды выдающегося русского просветителя и революционного демократа Н. Г. Чернышевского (1828–1889) неоднократно становились предметом специального научного анализа. Однако основное внимание при этом исследователи уделяли, преимущественно под углом зрения марк-систско – ленинской теории исторического познания, характеристике его восприятия истории России [5]. Вместе с тем давно и вполне объективно отмечалось, что Чернышевский, как и его знаменитые современники (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), в своих работах затрагивал и целый ряд важнейших вопросов всеобщей истории, в том числе истории античного мира [3, c. 345; 6, c. 125, 126].
Попробуем выявить особенности воззрений лидера российских «шестидесятников» XIX в. на проблему падения Римской империи, которые в силу различных причин выпали из поля зрения отечественных историков. Лишь иногда, чаще всего в виде общих замечаний, они затрагивались при рассмотрении его философско-исторических построений [1, c. 8–16; 12, c. 322–330; 14, c. 276].
Известно, что в творческом наследии Н. Г. Чернышевского, в отличие от А. И. Герцена, имеется специальная статья о причинах падения Рима [17]. Впервые она была опубликована в 1861 г. в пятом номере журнала «Современник» в виде отклика на выход в свет на русском языке, в переводе М. М. Стасюлевича, первой части «Истории цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи» известного французского историка-романтика, члена Французской академии наук Ф. Гизо [17, c. 348].
Важно заметить, что Чернышевский, как и другие выдающиеся представители русской общественной мысли XIX в., обратился к осмыслению проблемы крушения Западной Римской империи не случайно. Многие исследователи, начиная с Г. В. Плеханова, справедливо отмечали тесную взаимосвязь появления его статьи «О причинах падения
Рима» с потребностями острой идейнополитической борьбы в России в 50–60-х гг. XIX в., с вопросами, важными для «практической жизни народов» и, прежде всего, русского народа [11, c. 269–271; 13, c. 540–541].
И в этом нет ничего удивительного, ибо Чернышевский принадлежал к тому типу просветителей, которые с момента своего появления на арене общественной мысли в русле гуманистической традиции видели в истории неоценимую сокровищницу социального опыта, и поэтому считали, что в основе ее изучения должны находиться не профессионально ограниченные цели, не стремление «к показной учености», а совершенствование «личной и общественной добродетели» [2, c. 11–22].
Особенно остро, в глазах Чернышевского, эта задача в середине XIX в. стояла перед русскими историками, которые вынуждены, по его словам, «…действовать в обществе, находящемся не на той степени умственного развития, как западное общество»: «Там прогресс состоит в дальнейшей разработке самой науки, у нас до сих пор еще в том, чтобы полнее осваивать результаты, которых уже достигла наука; там на первом плане стоят потребности науки, у нас – потребности просвещения» [18, c. 12].
Именно с этих позиций Н. Г. Чернышевский высоко оценивал творческую деятельность Т. Н. Грановского (1813–1855) – талантливого университетского преподавателя, родоначальника отечественной медиевистики. В отзыве на первый том его сочинений (М., 1856) он особо подчеркивал, что «прежде, нежели заботиться о движении вперед науки, надобно позаботиться о том, чтобы усвоить ее нашему обществу – подвиг вовсе не блестящий, в научном смысле, подвиг не специалиста, увенчиваемого музою Клио, а просветителя своей нации, за отречение от обольщений личной славы вознаграждаемого только сознанием, что он делает полезное для общества дело» [18, c. 12].
На противоположной точке зрения стояли защитники «чистой» исторической нау- ки, старавшиеся отстраниться от острых общественных проблем. Так, известный российский историк и общественный деятель, редактор «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич (1826–1911) считал, что менее всего наука должна заботиться о приложении своего знания к пользе общества [3, c. 352].
Конечно, Чернышевский также прекрасно понимал справедливость аксиомы – «цель науки есть самая наука», истины которой «… не должны быть искажаемы в угоду частным и временным интересам» [18, c. 25]. Но в целом, он по-просветительски был твердо убежден, что «каждое знание оказывает влияние на жизнь, и история, наука о жизни человечества, не должна остаться без влияния на его жизнь» [18, c. 25].
Эти, не потерявшие актуальности до сегодняшнего дня, идеи Чернышевского о значении и задачах исторической науки в полной мере проявились и в его статье «О причинах падения Рима». Она полемически была заострена против утверждений А. И. Герцена и многих славянофилов о «гибели официальной Европы», о ее «неспособности» к движению в сторону социализма вследствие своего «мещанского духа», об «особой» исторической миссии русского народа с его общинным укладом и т. д. [17, c. 349, 367, 369, 370, 372].
С другой стороны, нельзя, на наш взгляд, недооценивать и собственно научного значения выхода в свет статьи «О причинах падения Рима». «Современник», – отмечал Чернышевский, – порицают за недостаток серьезности, учености, – а вот покажем же, что можем быть солидными, то есть донельзя сухими и научными…» [17, c. 349].
В чем же выразилась заявленная Чернышевским «научность» в объяснении причин гибели Рима – проблемы, перед которой, по его собственным словам, «…Суэцкий канал и зундская пошлина – сюжеты занимательные»? [17, c.349].
Для ответа на этот непростой вопрос надо, во-первых, учесть, что в отечественной исторической науке 50–60-х г. XIX в. по данной проблеме отсутствовали специальные научные работы. И это хорошо знал Чернышевский, который еще в 1855 г. в своей статье «Пропилеи» вполне объективно констатировал «скудность» всего списка отечественной научной литературы по всеобщей истории. «Можно по пальцам пересчитать, – писал он, – заслуживающие внимания книги по всеобщей истории: 1) история афинской республики от убийства Гиппарха до смерти Мильтиада, г. Куторги; 2) о поклонении Зевсу в древней Греции, г. Леонтьева; 3) судьбы Италии в средние века, г. Кудрявцева; 4) аббат Сугерий, г. Грановского. …Итак, отрывок из афинской истории, отрывок из греческой мифологии, отрывок из истории Италии в средние века, отрывок из истории Франции XII века, – вот наш собственный исторический архив» [16, c. 544].
Во-вторых, не менее важно, с научной точки зрения, стремление русского просветителя выявить, путем использования «самых главных фактов», именно причины падения Римской империи [17, c. 356]. До конца жизни проявлявший живой интерес к письменному наследию античной цивилизации [12, c. 255], Чернышевский наверняка знал не только Геродота, Фукидида и Тацита, но и великого Полибия, утверждавшего в своей «Всеобщей истории», что «…если изъять из истории объяснение того, почему, каким образом, ради чего совершено что-либо …то от нее останется одна забава, лишенная поучительности; такая история доставит скоропреходящее удовольствие, но для будущего окажется совершенно бесполезною» (Полибий. Всеобщая история, III, 31 : 12–13).
Наконец, в-третьих, свои взгляды на проблему падения Рима Чернышевский излагал на основе вполне определенных философско-исторических позиций, без наличия которых, как известно, любой историк превращается лишь в простого хроникера [19, c. 29].
Нам нет необходимости подробно рассматривать возникновение и развитие исторической концепции Чернышевского. За последние два десятилетия она не раз подвергалась весьма тщательному и объективному анализу в работах ряда российских философов и историков [1; 5; 12, с. 322–330]. Отметим только те ее положения, которые нашли непосредственное отражение именно в статье «О причинах падения Рима». Первое из них относится к натуралистической, по сути дела, идее Чернышевского о значительном сходстве развития многих обществен- ных и природных процессов [17, c. 350–356, 363]; второе – связано с его убеждением в циклическом развитии человечества [1, c. 7, 8]; третье – с признанием, в духе Монтескье и других европейских просветителей, тесной корреляции развития науки и распространения знаний («умственного развития») с социально-историческим прогрессом [17, c. 350, 351].
В соответствии с этими философско-историческими установками, Чернышевский и сосредоточил все внимание на опровержении «господствующего мнения» среди европейских и отечественных историков первой половины XIX в. («от Гизо до г. Тимаева, везде одно и то же» [17, c. 355, 364]) о неизбежной гибели Римской империи от внутренних «смертельных болезней».
Особое возмущение у него вызывала идея об «истощении жизненных сил» античного мира. Путем четких логических рассуждений он пришел к выводу о ее «нелепости» с точки зрения законов физиологии. «Отживает свою жизнь организм отдельного человека, – подчеркивал Чернышевский, – но с каждым вновь родившимся человеком является новый организм с новыми свежими силами. И при каждой смене поколений возобновляются силы народа» [17, c. 351]. В его представлении, с которым трудно не согласиться и сегодня, «в обществе пропорция свежих и усталых сил вечно остается одинакова» [17, c. 352].
Другой «нелепостью», облаченной в более «хитрую форму», Чернышевский считал утверждение о том, что в позднеримском обществе «не было простора человеческим силам, способным выработать новые, более совершенные формы общественной жизни». И в данном случае он снова обращался за сравнением к развитию природы, но на этот раз уже неорганической: «Вот скала, почти голая, едва прикрытая мхом, видным лишь в микроскоп; жизнью этого мха образуется слой почвы, для более заметной растительности; постепенно появляется трава, за нею кустарник, наконец, лес, и чем дальше растет лес, тем глубже становится растительный слой, тем привольнее расти лесу, тем больше свежих соков находит он себе в почве, все улучшающейся без конца» [17, c. 354].
И хотя это сравнение Чернышевский называл «метафорой», тем не менее с помощью ее он приходил к важнейшему теоретическому выводу, что жизнь общества «в самой себе не имеет… конца от истощения сил; напротив, чем дальше длится она, тем роскошнее становится обилие свежих сил для ее продолжения в формах, все совершеннейших» [17, c. 354].
Через призму именно этой идеи Чернышевский рассматривал состояние Поздней Римской империи. В отличие от своего знаменитого современника А. И. Герцена, который видел в ней лишь одни проявления «всеобщего упадка и падения» [9], он, напротив, делал основной упор на раскрытии положительных явлений («свежих сил») в ее развитии. Вслед за Ф. Гизо [4, c. 47–49] он высоко, в частности, оценивал попытку римских императоров по устройству в южной части Галлии (в 7 провинциях) своеобразного представительного правления в виде «совещаний знатнейших граждан» (рескрипт Гонория и Феодосия Младшего 418 г.). Хотя эта «новация», по его мнению, во многом носила формальный характер и не могла поколебать полновластия императорской администрации, однако, по своей сути, она все же свидетельствовала о том, что формы политического устройства в Римской империи «…же начали изменяться в направлении, открывавшем простор для гражданской жизни провинции» [17, c. 360].
В предоставлении прав гражданства большей части свободного населения римских провинций (эдикт императора Каракаллы 212 г.), активном их приобщении к римской культуре (в литературе этот процесс получил название «романизация». – В. Л. ), Чернышевский усматривал также положительный процесс, показывавший, что «побежденные народы успели подняться настолько, что уже не осталось прежнего расстояния между ними и бывшими их завоевателями» [17, c. 359].
Значительную «степень достоинства» Чернышевский видел в римском гражданском и уголовном законодательстве, которое, как известно, особенно бурно развивалось в период Поздней Римской империи [16, c. 359].
Столь же заметен был, по его мнению, социальный прогресс в античном мире: «Рабство довольно быстро смягчилось крепост- ным состоянием, и крепостные люди начали постепенно приобретать больше и больше прав» [17, c. 360].
Таким образом, никакого «истощения сил», никакой «внутренней необходимости смерти» «Вечного города», по Чернышевскому, не было. Напротив, в его восприятии «во всех отраслях цивилизованной жизни Римская империя подвигалась вперед: просвещение в провинциях распространялось; национальности шли к приобретению независимого существования; в управлении стал являться выборный элемент; права массы расширялись» [17, c. 360].
Ничего не говорилось в статье Чернышевского о состоянии римской экономики в IV–V вв. В его распоряжении, по-видимому, просто не было соответствующих фактов. Между тем, как свидетельствуют археологические данные, полученные уже во второй половине XX в., в Римской империи в IV–V вв. не наблюдалось всеобщего экономического упадка вследствие непомерного обременения землевладельцев различными налогами [15, с. 174–189].
Но как же в таком случае быть с самим фактом крушения Западной Римской империи?
Не отрицая его, Чернышевский при этом, во-первых, полагал, что в Римской империи, наряду с процессом «разложения», одновременно появлялись ростки нового – высшего цикла – в развитии истории человечества, представлявшего собой «по форме возвращение к первобытному началу развития», но по содержанию «безмерно богаче и выше» первоначального, т. е. первобытно-общинного коммунизма [1, c. 8, 9]. Во-вторых, и это самое главное, он считал, что «все зародыши более полной жизни в лучших формах» в античном мире были истреблены исключительно насильственно «внешними силами», в лице «несметных алчных полчищ» варваров [17, c. 360–361, 365, 373].
Свою мысль о решающей роли «внешнего» (варварского) фактора в трагической судьбе Римской империи Чернышевский доказывал с помощью следующего сравнения: «Поднимается самум, заносит песком караван Сахарской степи, не доказывайте, что верблюды и лошади были плохи, люди глупы, товары нехороши. Слепая игра сил природы в стихиях, в животных или в людях, не вышедших из животного состояния» [17, c. 363]. По его мнению, «подобные случаи гибели предмета, погибели дела от внешних разрушительных сил, как бы ни здорово было дело, как бы ни исполнен был предмет жизни, встречаются ежедневно, в частном быту, встречаются бесчисленное число раз в истории; только никогда не происходила эта погибель в известной нам истории в таком огромном размере, как при погибели всего древнего цивилизационного мира» [17, c. 362–363]. В натуралистическом духе он заключал: «Тут было ни больше, ни меньше, как погибель страны от наводнения. …Поги-бель Римской империи – такая же геологическая катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи…» [17, c. 361].
Чернышевский был не согласен с теми философами и историками (Гегель, Шлегель, Ф. Гизо и др.), видевшими в германских варварах некую «свежую кровь» и «освежающую силу», которой европейская цивилизация обязана «могучим чувством личной свободы, индивидуальности человека» [4, c. 58, 76, 92; 7, c. 139]. Напротив, варварские народы предстают у него, как это впервые подметил еще Г. В. Плеханов, «чем-то вроде «презрительного Терсита» [11, c. 272]. Никакого прогресса и никакой свободы, по Чернышевскому, они с собой в Европу не принесли; их свобода – это «просто смесь анархии и деспотизма» [17, c. 365]. Вся «благотворность» их вторжения, по его мнению, состояла в том, «что передовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую бездну одичалости…» [17, c. 366].
Следует заметить, что этот вывод Чернышевского вполне соответствовал исторической реальности, сложившейся в Западной Евразии в IV–VI вв. Бессмысленные убийства, голод, эпидемии, опустошение городов, аграризация, дезорганизация торговли, уничтожение многих культурных ценностей античного мира – такова была, по мнению некоторых современных авторитетных медиевистов, «страшная прелюдия к истории средневекового Запада» [8, c. 11–21].
Неисчислимы были страдания простых людей от варварских вторжений в Римскую империю. «История, – как подчеркивал Ф. Шатобриан (1768–1848), – представляя нам общую картину бедствий человеческого рода в ту эпоху, предала забвению отдельные несчастия, не будучи в состоянии перечислить бедствия частных людей: мы видим только у христианских апостолов одну слезу, утираемую втайне» [10, c. 46].
Верный своей главной исторической доктрине, главной причиной падения Рима Чернышевский считал громадное количественное превосходство над ним «варварской стихии». По его мнению, в IV–V вв. большая часть римских провинций только еще начинала «цивилизоваться», в результате чего «…существенное сопротивление бесчисленным дикарям ограничивалось лишь населением Италии и Греции» [17, c. 372, 373].
Не менее важным обстоятельством, объясняющим военные поражения римлян, Чернышевский считал и то, что «…у варвара и у римского легионера самым сильным оружием был меч, который умеют ковать и в полу-варварских странах» [17, c. 373].
Прибегая к таким оригинальным аргументам для обоснования своей идеи о «насильственном» крушении античной цивилизации, Чернышевский ни словом не обмолвился в своей статье о кризисных явлениях во внутренней жизни Римской империи. Между тем еще на заре своей литературной деятельности, а именно – в статье, посвященной выходу в свет первого тома сочинений Т. Н. Грановского (1856), он об- ращал особое внимание на необходимость историкам учитывать «материальные условия быта», составляющие «…коренную причину почти всех явлений и в других, высших формах жизни» [18, c. 21].
В «забвении» Чернышевским материалистического понимания истории, как единственно верного метода постижения «истинных пружин» общественно-исторического развития, Г. В. Плеханов видел один из коренных недостатков всех его рассуждений о причинах падения Рима [11, c. 265, 266, 270, 271]. Сам же видный русский идеолог марксизма считал, что «в падении Рима, вопреки объяснениям Чернышевского, нет ничего случайного, так как оно представляло собой естественный конец уже начавшегося историко-экономического движения» [11, c. 267–68].
Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать, что Н. Г. Чернышевский, хотя и не являлся профессиональным историком-античником, однако благодаря своей всесторонней и глубокой образованности сумел создать свою оригинальную концепцию падения Римской империи. Не лишенная различных недостатков и упущений, она имела не только практически- просветительское, но и не малое научное значение для формирования отечественной историографии одной из «вечных проблем» всемирной истории.
Список литературы Падение римской империи в русской общественной мысли XIX века: Н. Г. Чернышевский
- Антонов В. Ф. Историческая концепция Н. Г. Чернышевского/В. Ф. Антонов//Вопросы истории. -2006. -№ 1. -С. 3-19
- Болингброк. Письма об изучении и пользе истории/Болингброк. -М.: Наука, 1973. -273 с
- Бороздин И. Н. К вопросу об ученых разногласиях русских медиевистов 40-50-х годов XIX века/И. Н. Бороздин//Средние века: сб. -М.: Изд-во АН СССР, 1955. -Вып. 6. -С. 345-356
- Гизо Ф. История цивилизации в Европе: пер. с фр./Ф. Гизо. -М.: Территория будущего, 2007. -336 с
- Зенкин М. В. Исторические взгляды Н. Г. Чернышевского в историографии (1960 год -начало XXI в.)/М. В. Зенкин//Гуманитарий (Украина). -2010. -№ 1-2. -С. 25-35
- Историография античной истории: учеб. пособие/под ред. В. И. Кузищина. -М.: Высш. шк., 1980. -415 с
- Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории: очерки главнейших ист. эпох/Н. И. Кареев. -Тульская обл., пос. Заокский: Источник жизни, 1993. -384 с
- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада/Ж. Ле Гофф; пер. с фр. Ю. Л. Бессмертного. -М.: Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. -376 с
- Лунин В. С. Падение Римской империи в русской общественной мысли XIX века: А. И. Герцен/В. С. Лунин//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2015. -№ 2 (30). -С. 42-54
- Последние дни Римской империи: сб ст. по истории средних веков/сост. Николай Знойко (преподаватель Ришельской гимназии). -Одесса: Тип. А. Шульце, 1901. -147 с
- Плеханов Г. В. Н. Г. Чернышевский/Г. В. Плеханов//Плеханов Г. В. Сочинения. -2-е изд. -М.: Госиздат, 1924. -Т. 5. -363 с
- Пустарнаков В. Ф. Философия Просвещения в России и во Франции: опыт сравнительного анализа/В. Ф. Пустарнаков. -М.: ИФРАН, 2002. -341 с
- Смирнов А. Ф. Комментарии/А. Ф. Смирнов//Чернышевский Н. Г. Письма без адреса. -2-е изд., доп. -М.: Современник, 1983. -С. 540-541
- Смирнова З. В. Социальная философия А. И. Герцена/З. В. Смирнова. -М.: Наука, 1973. -291 с
- Хизер П. Падение Римской империи/Питер Хизер; пер. с англ. А. В. Короленкова и Е. А. Семеновой. -М.: АСТ: Астрель, 2011. -795 с
- Чернышевский Н. Г. «Критика». Пропилеи: cб. ст. по классич. древности. Изд. П. Леонтьева/Н. Г. Чернышевский//Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. -М.: Гослитиздат, 1949. -Т. 2. -С. 544-579
- Чернышевский Н. Г. О причинах падения Рима (Подражание Монтескье)/Н. Г. Чернышевский//Чернышевский Н. Г. Письма без адреса. -2-е изд., доп. -М.: Современник, 1983. -С. 348-374
- Чернышевский Н. Г. Сочинения Т. Н. Грановского. Том первый. Москва, 1856/Н. Г. Чернышевский//Чернышевский Н. Г. Избранные философские сочинения: в 3 т. -М.: Госполитиздат, 1950. -Т. 2. -С. 7-35
- Шубарт В. Европа и душа Востока/В. Шубарт; пер. с нем. М. В. Назарова, З. Г. Антипенко. -М.: Эксмо, 2003. -480 с